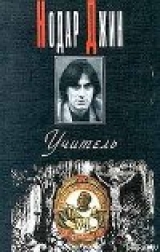
Текст книги "Учитель (Евангелие от Иосифа)"
Автор книги: Нодар Джин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 26 страниц)
66. Распни на всякий случай! Так, мол, лучше…
Как только Христа потащили на Голгофу, Мао снова потянулся к яблоку и насадил его на нижние зубы. Едва сдавив их верхними, вскрикнул от боли. Выдернул плод изо рта, израненный и обслюнявленный, и вслух пожалел себя за больные дёсны.
Миша прервал рассказ и заметил, что если человек стал народным движением, каждая его болячка вызывает не жалость, а любопытство. И обещает стать великой разгадкой.
Мао не среагировал. А может быть, наоборот, – среагировал. Забрал с блюдечка нож, расколол яблоко пополам и ткнул им в центральный квадрат триптиха на столике:
– А потом?
Мишель шепнула что-то Мише на ухо, и тот резко кивнул. Потом вскинул на меня испуганные глаза, но не извинился. Хотя знал, что я не люблю, когда при мне шепчутся. Спросил:
– Гавагрдзело?
Я вынул из кармана перочинный ножик, раскрыл его и выбрал красное яблоко.
– Миша спрашивает меня, продолжать или нет, – сообщил я Мао. – Продолжать можно, но он пропустил главное…
Я начал с головы. Научился у отца. Сапожника Бесо, точнее. Если даже он и не приходился мне настоящим отцом, сапожником был настоящим. Орудовал ножиком виртуозно.
Забираешься кончиком под кожицу фрукта у самой головы – и всё. Под самую кожицу, – не глубже. И всё – ножиком больше ничего не делаешь.
Остальное – другой рукой. Ровно и плавно крутишь в пальцах фрукт вокруг оси – и кожица ползёт вниз прозрачной вьющейся лентой. Сперва кружится мелко и несмело, а потом – вольнее. Но недолго. Едва зарябит в глазах, она сворачивается в прежний, тесный, круг и валится тебе на колени игривой спиралью.
– Миша пропустил главную вещь, – продолжил я, опустив голое яблоко на тарелку. – Прокуратор предложил народу помиловать Иисуса в честь праздника свободы. В этот праздник народ имел тогда такое право. Три раза предложил. И все три раза народ – что? Отказал. Распни, кричал, его! Распни на всякий случай! Распни! Так, мол, лучше…
Я принялся разрезать яблоко на крупные ломтики.
– «Распни»? – переспросил Мао. – А поцему луцсе? Неузели народ знал, цто он всё равно станет потом зивой? Неузели знал?
– Не знал, – ответил я и, подцепив ножиком один из ломтиков, протянул его Мишели. – Просто: так, мол, лучше… Лучше, чем если не распять…
Мао внимательно посмотрел на меня.
Мишель широко улыбнулась, напомнив мне о пролёте между зубами, и сняла с ножа ломтик.
– Иосиф Виссарьоныч, – услышал я вдруг за спиной Валечкин голос. – Можно минутку?
– Ты когда вошла? – удивился я. – Не видел.
– Только что, Иосиф Виссарьоныч! Когда вы яблочко гостье нашей изволили пожаловать… Из Франции…
– А почему ты так вошла, что я не видел?
Она не нашла ответа. Помучившись, склонилась ко мне:
– Другие гости изволили пожаловать…
– Тоже из Франции? – улыбнулся я.
– Не-е. Почему? Лаврентий Палыч тут, товарищ Молотов, Хрущёв, и ещё этот, Микоян… Товарищ Микоян.
– А ещё кто-нибудь? Майор, например?
– Не-е. А какой?
– Скажи, когда придёт. Не заходи, позвони! – и отослал её сердитым взмахом руки, потому что под её злобным взглядом Мишель поперхнулась. – Продолжай! – повернулся я к Чиаурели. – Только короче.
67. Ангел качнул крыльями неуверенно…
Больше всего Мишу огорчило, что не осталось времени живописать христовы муки по дороге на Голгофу. Буркнул, что фильм об Иисусе начал бы с этой сцены. Великий страдалец волочится по каменистой дороге и вспоминает свои злоключения. Плюс злоключения человечества.
И то, и другое Христу пришлось вспоминать на кресте. Мысли были мрачные. Несмотря на то, что римский центурион напоил его зельем, которое не просто ускоряет конец, но и веселит душу. Скорой же смерти Иисус желал не из интересов пригвождённого к кресту человека, а из уверенности, что чем он быстрее умрёт, тем быстрее спасёт мир.
Мысли приходили мрачные, несмотря и на присутствие женщин. В частности – Марии Магдалины.
Мишель при этом снова повела плечами.
А также другой Марии, добавил Чиаурели, – Пресвятой Девы. Которая и родила Христа прямо от самого бога. Правда, в результате непорочного зачатия.
– Без спермы? – обрадовался Мао.
– Без совокупления, – ответила Мишель.
Мао повернулся к Ши Чжэ с какими-то словами, которые тот не пожелал переводить. Миша – хотя китайского не знает – откликнулся бурно:
– Ни в коем случае!
Мао задумался, но, видимо, не вспомнил иного надёжного способа производства отпрысков. Спросил поэтому – как же всё-таки Пресвятой Деве удалось произвести Иисуса «без ничего»?
Я вынужден был вмешаться. Во-первых, сказал я, не «без ничего». Мария понесла от духа, который, как известно, способен порождать что угодно.
Во-вторых же, напомнил я ему, Миша рассказывает легенду, а он, Мао, – как и сам Миша, – художник. То есть – человек с воображением. И потому должен понимать.
Мао согласился: Мишу, мол, как раз понимаю. Не понимаю легенду: зачем ей надо наделять Марию способностью рожать без спермы и совокупления.
Ответила Мишель: легенде это надо не для Марии, а для Христа; чтобы он получился божьим сыном; а бог совокуплениями брезгует. И – посмотрела на меня.
Не всякий бог, пообещал я француженке. Только бестелесный.
Мао рассмеялся.
Бестелесный бог торопился, тем временем, принять дух любимого сына. Объясняя торопливость наступлением праздника. К трём часам пополудни Иисус, пожаловавшись сперва на жажду, вскрикнул «Свершилось!» и испустил дух.
Убедившись, что он мёртв, римские центурионы позволили его друзьям снять тело с креста и отнести в могильный склеп. Где его обмазали мирровым маслом, завернули в белую плащаницу и оставили почивать на вечные времена.
Скептики ликовали, ибо Иисус, «чудотворец и божий сын», обещавший спасти мир, не сумел спасти даже себя. Не смог отвести собственный конец и, главное, нарушить порядок вещей. Их ликование, однако, длилось лишь полтора суток.
Будучи скептиками, они поставили стражу у входа в склеп, чтобы ученики не выкрали труп Иисуса и не при-творились, будто Учитель воскрес. Ибо, мол, его «воскресение» нанесло бы людям больший вред, нежели его ересь.
На рассвете воскресного дня обе Марии – та, которая дева, и вторая, которая наоборот, – вернулись к склепу, вход в который был замурован каменной глыбой. Стоило им, однако, приступить к ней – земля дрогнула, камень скатился вниз, а в проходе, обрамлённый пещерным мраком, возник крылатый ангел в белоснежном хитоне.
«Не бойтесь меня, – объявил он, хотя крыльями качнул неуверенно, – ибо я пришёл сказать, что Иисус воскрес, и тут, в гробу, его нету. И уже не будет. Известите об этом народ и идите на гору. Где его и узреете!»
Так и вышло. На горе Христос объявился народу во плоти. И благословил его со словами: «Мне дана абсолютная власть на небе и на земле. И пусть об этом узнают все народы. И все народы пусть отныне следуют мне. А я пребуду с вами до скончания мира!»
Так опять и вышло: с тех пор Иисус и правит этим миром.
68. Христос отказался бы стать христианином…
Последнюю фразу Чиаурели сразу же отредактировал:
– Тем миром, – и кивнул на Мишель.
– И всё? – удивился Мао после паузы. – Больсе ницего?
– Не совсем, – растерялся Миша. – Христос обещал, что вернётся. Ещё раз!
– Все обесцают! – вспомнил Мао. – Мой папа тозе обесцал. Но потом забыл, цто обесцал. Он обесцал вернуться, цтобы проверить – послусался я его или не послусался. А Иисус зацем обесцал? – и хихикнул. – С какой целью?
Ответила Мишель:
– С другой, чем ваш папа. Иисус – когда вернётся – спустит на землю царство небесное.
– Вот этого я как раз не понимаю! – улыбался Мао, как если бы хорошо понимал. – Цто такое это царство?
– Я же сказал! – обиделся Миша. – Это мир, справедливость и изобилие! – и посмотрел на меня.
Мао тоже посмотрел на меня. И тоже обиженно. А потом пожаловался. Не понимаю, мол, почему это царство до сих пор именуют Небесным. Несмотря на то, что оно уже привилось к земле.
Вместо того, чтобы ответить, я повернулся к шахтёру.
Когда Миша начал рассказывать об Учителе, стрелки в польском паху лежали в широком разлёте пригвождённых рук. Теперь, через полчаса, сойдясь воедино, они предвосхитили иное – слияние в пространстве минут и часов. Как только – вслед за этим знаком – я почувствовал прибытие майора Паписмедова, на письменном столе треснули два звонка.
Орлов был краток и сух: все в сборе. Зато Валечка волновалась. Майор, мол, – «видать, тот самый», – уже заявился. Даже объявил фамилию. Странную. И, хотя сам выглядит странно, глаза очень знакомые.
Я постоял молча, а потом вернулся в кресло. Захотелось вдруг разговориться, но вместо этого я снова посмотрел на часы.
Мао перехватил мой взгляд и сказал, что я прав: часы остановились. После того, как он задал мне вопрос о царстве, прошло, мол, много минут, но стрелки не разлепились.
Я испугался. «Остановились?!» Разговорился, однако, я не с собой. С китайцем:
– Раньше, товарищ Мао, до изобретения часов, время пугало человека. Оно состояло не из минут и часов, как теперь, когда их можно копить или транжирить. Время было как сплошное облако, обвалявшее землю. Словно хлебные крошки – киевскую котлету. Которую вы невзлюбили, как и другие наши блюда… И люди на земле сидели и ждали – пока оно рассеется. Не блюдо, а время. Прошлое было тогда частью настоящего. Люди жили совместно с предками…
Миша с француженкой переглянулись. Вспомнили, видимо, что у меня полиартрит. А Мао пожаловался Ши Чжэ. По-китайски.
– Товарищ Мао, товарис Си Цзе перевёл вам, наверно, правильно, – произнёс я и выбрался из кресла. – Это я виноват: ответил не на тот вопрос. Но этот вопрос очень важен. Без него на ваш не ответишь.
Мао кивнул тыквой.
– Часы разбили облако на клочки – минуты и секунды. Но спокойней не стало. Сейчас все думают, что если что-нибудь случилось, – это случилось и прошло. Навсегда. Что сейчас уже другой клочок облака. И что прошлое не должно пугать. Но эта мысль пугает другим – что всё навсегда проходит. И всё всегда изменяется. И что положиться не на что…
Мишель беспокойно озиралась по сторонам. Силилась понять услышанное.
– Я вас понимаю, – сказал Мао. – Но проблему со временем хоросо ресили индусы: ницего не меняется, а конец всему наступит церез триста миллионов лет.
– Они плохо решили, – мотнул я головой. – Потому что – получается – всё равно считали время. Боялись его. Жизнь и смерть нельзя измерять временем. Надо – правильными и неправильными действиями. Поэтому – что касается Небесного Царства, которое, товарищ Мао, по-вашему, уже на земле, ибо и вы на земле, – то оно ещё на небе.
Я улыбнулся и добавил:
– Честное слово! А будет на земле не раньше, чем туда допустят каждого. Так говорил Учитель. Допустят же после великой чистки, разрушений и страшного суда. Когда на землю падут звёзды.
Я выдержал паузу, во время которой стряхнул с рукава трубочный пепел:
– И тогда всей землёй будет руководить сам бог. Лично. И только один. Так говорил Учитель.
Все уже стояли на ногах. Мао поднялся – когда дослушал.
– Присли узе гости? – спросил он, думая о другом.
– Пришли, – кивнул я, пропустив к выходу сперва Мишель. – А если Царство Небесное существует только в одном уголке земли, – взял я Мао под руку, – земля продолжает гнить. Ессеи, из которых вышел Учитель, жили чисто. Единственный народ, который даже не рожал. Размножался за счёт новобранцев. И своим примером вызывал у других народов раскаяние. Но дальше у этих народов не шло. Пока не пришёл Учитель. Хотя не спас и он. Наоборот, после его прихода уничтожили и ессеев. А в конце распяли даже его учение.
– Вот это очень верно, товарищ Сталин! – обернулась Мишель. – Современная церковь…
Я прервал её:
– Если бы Христос ещё раз воскрес, как обещал, он бы отказался стать христианином.
– Очень, очень верно, товарищ Сталин!
– Знаю… – буркнул я, подталкивая француженку к гостиной. – А сегодня христиане – если бы Христос ещё раз воскрес – распяли бы его без суда. Или – наоборот – народ не удостоил бы его никакого внимания. Даже не накормили бы.
У самой двери Мишель остановилась и взглянула на Чиаурели. Испугалась услышанного. Ибо сама она, видимо, накормить Христа не отказалась бы.
Я сказал ещё несколько слов. Для Мао:
– И никто бы никогда не понял, кто прав, он или народ, – и, улыбнувшись, добавил. – Особенно если наш Лаврентий проверил бы не только народ, но и Учителя.
Чиаурели рассмеялся, но Мао, видимо, думал о своём:
– Если бы Иисус не воскрес, – признался он ему, – васа легенда была бы историей неврастеника и самоубийцы.
– Если б не воскрес, не было б и легенды! – ответил Миша.
– Молодец! – пнул я его трубкой в плечо. – Если б не воскрес, не было б ни Христа, ни христианства.
Мишель была уже у другой двери, в гостиную, откуда доносились громкие голоса. Услышала, однако, мой:
– Товарищ Сталин, – и взялась за дверную ручку, – а вы знаете что сказал Поль?
– Поль? Который певец?
– Нет, который святой. Основатель церкви. Если, говорит, Христос не воскрес, то вера наша напрасная!
– Знаю и это, – хмыкнул я. – Сам говорил.
– Он вам?!
Я промолчал.
– Товарищ Сталин! – не двигалась она.
– Откройте дверь! – ответил я.
69. Это сизый, зимний дым мглы над именем моим…
Прежде, чем выйти вслед за всеми в гостиную, я подумал о Наде. Безо всякого повода. Просто, видимо, прошло много времени, в течение которого я не думал о ней. Вспомнилось глупое. И только детали.
Это в Батуми было. На приморской даче турецкого купца. Бывшего, но крупного. Я знал его ещё с моих подпольных времён. Задолго до того, когда в 21-м году правда пробудилась и задвигалась даже в Аджарии. То есть – когда туда, к самой границе с Турцией, добралась революция.
Знал я турка не лично – слышал. Он продавал бакинскую нефть англичанам, но сбежал не к ним, а к французам.
Как мне кажется, оставлять дачу аджарскому народу он не хотел. Жалко было. Но оставил, потому что впридачу к ней обладал и умом. Понимал: дом, как и нефть, не унесёшь. Не только во Францию, но даже в родную Турцию. Соседнюю.
При всём уме вкуса ему не хватало. А тот, который был, страдал склонностью к излишкам. В Батуми дома воспринимаются как гарантия, что ничего интересного в городе произойти не может. Но это здание, наоборот, было измучено таким плотным и вычурным скульптурным орнаментом, что не всякий мог найти двери и окна.
А внутри не только один я балдел от пестроты красок и лепных разводов. Очучеленные и пригвождённые к стенам обитатели турецкой фауны глазели на завитушки затурканными взглядами.
Мы с Надей поэтому даже ночевали во дворе. Прямо на пляже. Я спал под пальмой, а она в гамаке. Называя его белой паутиной дачного счастья. Перед сном распевали иногда грузинские песни. Или беседовали. Обо всём на свете.
Спрашивала в основном она. Я отвечал. Сам задавал один вопрос: что она во мне любит – мужчину или движение? Но её интересовало разное. Часто – Ильич. Пыталась выяснить – почему это он во время болезни умолял дать ему яд – меня. Никого больше.
Я отвечал, как было: никому больше он и не доверял.
А почему тогда, спрашивала, я отказался оправдать его доверие и выполнить просьбу? Подозревала, что я испугался ответственности. Или возможных обвинений со стороны моих соперников. Или что, по моим расчётам, Ильичу тогда умирать было рано. Ибо, мол, сам я не готов был ещё брать власть.
Эти подозрения родились не в её голове, но отвечал я опять же, как было: уважая Ильича, не люблю самоубийц. Они думают лишь о своём комфорте. Каждая жизнь, когда ей приходит конец, обретает адрес. А жизнь, окончившаяся самоубийством, – это заявление в никуда. Не заявление, значит.
К тому же я собирался национализировать биографию Ильича сразу же после его смерти. Сделать его бессмертным богом. Но народ знает, что боги самоубийством не кончают.
Ещё Надя спрашивала из гамака – надеялся ли Учитель, что будет жить вечно. Все на это надеются, отвечал я, без такой надежды жизни нет. Но единственного Учителя, который понимал, что его жизнь со смертью не закончится, звали не Ильич, а Иисус.
Надю, кстати, – как и Лаврентия – интересовало также, что именно волнует меня в Иисусе. То, что он охотно умер ради людей, или то, что люди охотно умирают ради него.
Я и тут отвечал, как было: ни то, ни другое. Никто ради или за другого не умирает. Каждый умирает в одиночку – за и ради самого себя. Но Иисус единственный придумал себе такую жизнь и такую смерть, что после него и жизнь, и смерть любого человека означает уже предательство любви.
Точнее – предательство Христа. Не самого себя, а его, Иисуса. Другого человека. Который поэтому и стал богом.
Он не придумал, возражала Надя, а прожил такую жизнь. И умер такой смертью. Ты, мол, это сам мне говорил.
Я этого никогда не говорил. Просто прочёл ей как-то наизусть отрывок из книжки о Христе. Которую так и не сумел заставить её прочитать. Отрывок этот я помнил с семинарских лет. Бухарин, кстати, твердил ей и другим, будто свою ленинскую надгробную речь я стянул у автора этой книжки. У Ренана.
Это не называется «стянуть». Есть слова, лучше которых не найдёшь. Потому и повторяешь их.
«Покойся теперь во славе, наставник! – сказал об Иисусе Ренан. – Не опасайся, что погибнет созданное тобой. После своей смерти ты будешь в тысячу раз более живым и любимым, нежели в течение твоего земного странствия.
Ты станешь краеугольным камнем человечества, и вырывать у мира твоё имя будет невозможно без потрясения его до самых глубин. Между тобой и богом не будет различия!»
Смерть-то нет, отвечал я в Батуми Наде смеясь, но жизнь придумывает себе и соответственно проживает её каждый. Самоубийцы придумывают себе, правда, и смерть.
Знай я тогда, что Надя сама подумывала о том, чтобы придумать себе смерть, я бы об этом молчал.
Молчал я, кстати, чаще, чем говорил. Нравилось молчать и ей. Часами, бывало, сидели у воды безмолвно и смотрели вдаль, где синее сливалось с синим. Но не пропадало в нём. Переливалось из синего то в голубое, то в очень синее. И обратно. Жило своей собственной, тихой и мягкой жизнью. Синей.
Однажды Надя даже расплакалась. От красоты, наверно. Или необъяснимости синевы. Увидев скатившуюся слезу, я и сам расчувствовался. А потом приткнул к плечу её лицо и прочёл ей наизусть хороший стих. Грустный грузин сочинил. Как раз про синеву.
Цвет небесный, синий цвет, полюбил я с малых лет.
В детстве он мне означал синеву иных начал.
И теперь, когда достиг я вершины дней своих,
В жертву остальным цветам голубого не отдам.
Он прекрасен без прикрас, это цвет любимых глаз,
Это взгляд бездонный твой, напоённый синевой,
Это цвет моей мечты, это краска высоты,
В этот голубой раствор погружён земной простор,
Это тихий переход в неизвестность от забот
И от плачущих родных на похоронах моих,
Это синий, негустой иней над моей плитой,
Это сизый, зимний дым мглы над именем моим.
70. Гамарджоба шени!
Поначалу Мао подумал, что гости аплодируют ему. И стал кланяться. Сразу, правда, оценил обстановку, шагнул в сторону и сделал вид, будто разглаживает китель.
Перешагнув порог гостиной, я тоже принялся разглаживать китель. Вопрос в голове шевельнулся один: кто же – любопытно – перестанет аплодировать первый? Поскольку хлопали гнусно и не в такт, слух я в себе отключил. Оставил только зрение. Да и то – исподлобья.
Старательней всех лыбился Молотов. Надеялся, что вместе с бликами в очках широкий оскал поможет ему скрыть сладкий ужас, нагнетаемый в его душе образом пожираемого вождя.
Этот образ его измучил. Хотя пару часов назад, в театре, Вячеслав был ещё молодой, теперь уже смотрелся, как свой же отец. В пыльных туфлях. Неужели, подумал я, их ему чистила в последний раз Полина?
Каганович – тоже в щедрой улыбке – хоронил иные сомнения: не пора ли и ему стать хозяином жизни? Своей. Несмотря на то, что зовут его Лазарь. И ещё несмотря на отчество. Моисеевич.
Мучился и Маленков. Аплодировать и улыбаться одновременно у него не получалось. Раздавая вширь жирные щёки, сбивался с ритма и тотчас же убирал улыбку. Рукоплескал поэтому с сосредоточенным выражением.
Два разных дела вместе не удавались и Булганину: скалиться и быть министром. При том, что скалиться надо добродушно, а министром быть – обороны.
Ворошилова ещё в театре истязал не только тот факт, что этим министром уже давно был не он, но и гнойный фурункул на губе. Из-за которого улыбка доставляла ему страдание. Ещё ему, как и Кагановичу, очень не нравилось сейчас собственное имя – Климент.
Хрущёв не только ликовал, но и потел. И не только потому, что охотно аплодировал, а и потому, что по дороге успел, наверно, выпить. И закусить. Он был потный, и через каждые несколько хлопков отирал ребром ладони влагу с пунцовых щёк.
Ещё пуще ликовал Микоян. Беззаветно. Хотя – на всякий случай – старался не походить на члена правительства. Просто – на аплодирующего счастливца. В английских мокасинах.
– Орлов! – сказал я Орлову. – А где Берия?
– Я здесь, Иосиф Виссарионович! – ответили сзади.
Я развернулся по оси. Лаврентий стоял прямо за мной. А рукоплескал так, как если бы сбивал в ладонях снежный ком. Который задумал запустить мне в затылок.
– Я с начала здесь! – уточнил он. – Даже раньше.
– С какого начала?
– Как только вы вошли. Я стоял за дверью – вы не увидели… Я и майор Паписмедов. И оба аплодировали.
– Раньше, чем я вошёл?
– Нет – как только!
– А где майор? – отстал я.
Не переставая хлопать, Лаврентий шагнул в сторону.
Майор, в свою очередь, оказался прямо за ним. В углу.
Я не поверил глазам.
Потому что – если поверить – разницы между майором, с одной стороны, моим бывшим соседом Давидом Паписмедашвили, с другой, и Христами на подаренной Черчиллем картине нету. Разница только в одежде.
Я поэтому моментально прикрыл зрачки веками и выдернул из памяти разные кадры. Сперва очень старые – когда я жил в Гори; потом – не очень, когда Давид приезжал ко мне в Кремль; а потом – самые свежие, когда я разложил на журнальном столике триптих.
После этого я раскрыл веки и снова вгляделся в майора. Один к одному! Разве что – форма с погонами! И ещё – в отличие от тех – этот, майор, нервно моргал.
Моргал и Мао. Моргал, аплодировал и, склонившись к Ши Чжэ, громко выражал ему своё смятение. А может, – и возмущение, ибо на его месте я и сам подумал бы, что Сталин это подстроил. То ли, мол, куражится, то ли что-то готовит.
Чиаурели с француженкой, наоборот, не моргали. Взявшись за руки, пытались протиснуться ближе к майору. Не пустил Лаврентий.
– Гамарджоба шени! – сказал я и протянул майору руку. (Здравствуй, мол.)
Тот затряс небритым лицом с огромным грустным носом на нём и с большими же глазами. Потом сообразил, что если не перестанет аплодировать, не сможет пожать мне ладонь:
– Гамарджобат, батоно! (Сами здравствуйте, господин мой!) – проговорил он негромко, но мгновенно опомнился и воскликнул. – Дидеба Сталинс! (Слава Сталину!)
В глазах его вспыхнул было восторг, но тотчас же улёгся. И уступил место печали. Но он ещё раз опомнился, вернул себе собственную ладонь и продолжил рукоплескать.
Я заметил, что одна рука у него короче другой. Как у меня. Потом шагнул к нему ближе. Тот же рост.
Берия не сводил с меня взгляда и улыбался. Не мне – себе. Я пальцем велел всем прекратить шум.
Позже всех перестал хлопать Хрущёв.
– Аба ткви сахели! (Назови-ка своё имя!) – сказал я майору.
– Иосика Паписмедови, амханаго Сталин! (Я, товарищ Сталин, есть Ёсик Паписмедов!)
– Да ара Иосеби, хо? (А не Иосиф, да?)
– Мама бавшобаши Иосикас медзахда, – улыбнулся он, – Иосебис гирси джер ар харо! Болобмден шемрча Иосика. (Отец в детстве звал меня Ёсиком; до Иосифа, мол, ещё не дорос; так я Ёсиком и остался!)
Я решил пошутить:
– Арц Иосебс гедзахда арц Иосес? (Ни Иосифом не хотел звать, ни Иисусом?)
Ёсик поджал губы и хмыкнул.
– Ра мохелеа мамашени? (Чем отец занимается?) – спросил я.
– Ориве абрдзанебулиа. (Оба преставились.)
– Ори гхавда? (Их было два?)
Майор доложил, что всю жизнь мать была замужем за тифлисским плотником, но отцом велела Ёсику звать не только его. Я удивился: а кого ещё, соседа?
Нет, улыбнулся и Ёсик, настоящий отец жил не в Тифлисе. И был торговцем. Я догадался. Точнее, вспомнил: настоящий живёт на небесах? И ни на чём не оставляет отпечатков пальцев.
Лаврентий не выдержал:
– Мама миси мартлац мезобели ико, амханаго Сталин. Тквени! (Его настоящий отец и вправду был соседом. Но – вашим соседом, товарищ Сталин!) – и снова улыбнулся. Теперь уже не только себе.
Позубоскалить о Давиде Паписмедашвили, который был якобы и моим отцом, не позволил Лаврентию Мао. Шагнул к нам и объявил, что вместе с переводчиком пришёл к заключению, будто все грузины похожи на Сталина. И что он понимает: Сталин хочет что-то ему доказать.
– У вас с товарисцем майором есть цто-то обсцее! – заключил Мао. – Но у него есть много обсцего и с Иисусом, а у вас – нету!
– С каким Иисусом? – насторожился Лаврентий.
Я не дал Мао ответить. Буркнул, что у него, у Мао, тоже есть что-то общее с китайцами. Потому что и сам он китаец, и китайцы – китайцы. А у меня с майором общего быть не может. Ибо я грузин, а он как раз нет. Еврей.
При последнем слове Ёсик преобразился. Откинул голову с носом назад и вытянул в струнку три пальца на ущербной руке. Я собирался уточнить для Мао, что майор не просто еврей, а с продолжением, грузинский, но Ёсик не позволил. Прервал:
– Не тот еврей, который по обрезанию, а тот, который – в душе! А потому каждый человек – немножко еврей.
Я сообразил, что Ёсик страдает скользящей персономанией. И только что ускользнул в Иисуса. Посчитав это преждевременным, я попытался вернуть его назад. В майора:
– Гиквирс ром дагидзахе? (А ты удивился, что я вызвал тебя?)
Ёсик ответил теперь по-грузински. Как – майор:
– Ара, амханаго Сталин! Амханагма Бериам митхра белади дабадебис дгезе дагидзахебс. (Нет, товарищ Сталин! Товарищ Берия сразу же предупредил, что Вождь позовёт тебя в день юбилея!)
Я вздрогнул. Во-первых, из-за того, что Ёсик, оказывается, умел не ускользать. То есть – и ускользать, и не ускользать. Быть и майором, и Христом. Сразу.
Во-вторых же, – хотя Лаврентий после кумранской авантюры постоянно уговаривал меня немедленно вызвать майора, он, получается, знал, что позову я того в день юбилея!
– Лаврентим дзалиан беври ицис, – огорчился я. (Лаврентий знает слишком много.)
Берия ослепил майора колкими стрелами пенсне:
– Ан дабадебис дгемде дагидзахебс, ан мере, ан им дгестко! (Я сказал, что Вождь вызовет тебя или до юбилея, или после. Или же в тот самый день!)
Я решил отшутиться. Повернулся к Мао:
– Ваши люди так умеют?
Мао рассердился на переводчика за то, что тот не знал грузинского.
– А один наш учёный, тоже мингрел, доказал, что все, кого поражает привычка кушать, в конце умирают! – добавил я.
Мао рассмеялся.
– Но мы всё равно будем эту привычку поддерживать, – сказал я майору. – Потому что после смерти можно воскреснуть. Да?
– Нет, нельзя! – ответил тот, но Мао опять громко рассмеялся.
Хотя я не понял майора, развернулся к гостям:
– Все за стол!








