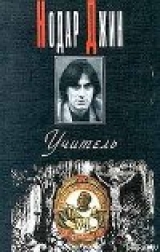
Текст книги "Учитель (Евангелие от Иосифа)"
Автор книги: Нодар Джин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 26 страниц)
4. Лучшая мысль – её отсутствие…
В детстве, при наступлении внезапной тишины, я верил народу: это тихий ангел пролетает. То есть дурак рождается. Глупая примета. Учитывая число дураков, в мире должна стоять бесконечная, но внезапная тишина.
Теперь уже тихих ангелов я бы просто извёл. Тишина – это одиночество. И от тишины нигде не укрыться. Даже на сцене Большого театра. Как сегодня. Среди славословий, оваций, гимнов и гостей. Весь вечер держалось обычное ощущение, что пребываю в одиночной камере собственного тела. Без мебели.
В прежние времена люди не знали одиночества: никто не воспринимал себя отдельно. Когда же это обвалилось? Видимо, чуму посеяли власть и достаток. Чем ты сильнее, тем более одинок.
Один индус признался мне, что Первозданный создал мир, заболев одиночеством. Собственно, в одиночестве никакого ужаса нет. Ужас в том, что оно воспринимается людьми, как ужас. И ещё в том, что против него нет лекарства.
Одни лечатся затворничеством. Другие богом. Третьи – поисками порядка в мире. Четвертые, наоборот, – абсурдного и необычного. Но абсурд тоже иллюзорен. В мире нет ни абсурда, ни логики – ничего. Мир создан из ничего, и это видно во всём.
Поэтому – даже когда Надя была живая – я был один. Ибо и любовь обрекает на замыкание в себе. Любить – это возиться прежде всего с собой.
Учитель, правда, говорил, что единственная область, где революция не закончится, – любовь. Поскольку она лечит любой душевный недуг. Хотя сама же недугом и является. И хотя он сам же, Учитель, «любил», порой ненавидя.
– Крылов! – прервал я себя. – Сколько осталось?
– Теперь недолго, товарищ Сталин!
– На какой вопрос ответил, Крылов?
– Вы спросили – далеко ли до вашей дачи, товарищ Сталин. До Ближней?
– Вопрос понял правильно, но ответил неправильно. Ещё раз!
– Километров 20, товарищ Сталин! Если б не пурга, – ехать четверть часа.
– Ответил лучше, но опять не хорошо. Ответил в сослагательном наклонении. А оно есть мысль, Крылов. Но плохая. Для народа лучшая мысль – её отсутствие. Скажу проще: жить надо односложно, а говорить точно. Ясно?
– Так точно. Ясно. Доедем через 30 минут.
– Вот видишь! – повернулся я к Власику. – Получается, времени у нас, начальник, много. Переходи ко мне, поработаем…
Мне не столько работать захотелось, сколько время убить. Хотя не мы убиваем время, а наоборот.
А убить его захотелось потому, что в последние годы меня стала раздражать жестокая нелепость: на перемещение в пространстве собственного тела уходит слишком много времени. И невозможно не только перемещаться из одного места в другое с быстротой мысли. Невозможно и быть в этих местах одновременно.
Невозможно пока. А в будущем будет возможно. В будущем люди научатся быть в разных местах одновременно. Как сказал Лаврентий, где бы кто ни находился, его можно будет заподозрить в злодеянии в любом месте.
Впрочем, я никогда не знал, где бы я хотел находиться ещё. Как не знал, куда я, собственно, всю жизнь спешил. Удивительно другое: когда не знаешь, куда спешишь, оказываешься не в том, а в другом месте, но я всегда оказывался там, куда, как потом выяснялось, следовало спешить. Бог, видимо, мне доверяет.
Ещё удивительнее другое: я давно уже перестал чему-либо удивляться. Например, – что человек в воде не растворяется.
Действительно, ни в чём ничего удивительного нет. Ничего другого в мире, – кроме того, что известно или неизвестно, – ничего другого быть в нём не может…
5. Палач лучше солдата…
Власик – пока располагал себя на заднем сиденье – раздавил нечаянно коробку Казбека и стал извиняться.
Я умышленно прихватил в театр не «Герцоговину» или трубку, а «Казбек». Хотел показать, что не подражаю даже себе. И что у меня нет привычек. Кроме того, рисунок на Казбеке мне нравится больше. Тем более, что коробку можно начинить другими папиросами…
Как только я выкрутил вверх стеклянную перегородку, Крылов произнес какую-то фразу. Я не расслышал её, но махнул рукой – и колонна двинулась дальше.
Потом я стал искать в коробке уцелевшую папиросу, но не нашёл. Все оказались сплюснуты.
– Ты очень тяжёлый, Власик. Худеть надо.
– Я кушаю средне, но толстею.
– Кушать можно сколько угодно. Глотать пищу надо реже.
– Знаю, Ёсиф Высарьоныч.
– Но забываешь. Я тоже забыл – что делаю завтра.
– Завтра вы собирались бросать курить. Вы дочери обещали. И она вас тоже учила как отвыкнуть от курева, – хихикнул он. – Не класть в рот папиросу и не зажигать её.
– Знаю, но тоже забываю. А что еще завтра?
– Завтра вы решили отдыхать, Ёсиф Высарьоныч.
– Я устал. А сегодня кто к нам, значит, едет на ужин?
– Товарищ Берия, товарищ Булганин, товарищ Ворошилов, товарищ Каганович, товарищ Маленков, товарищ Мао с переводчиком, товарищ Микоян, товарищ Молотов, товарищ Хрущёв и товарищ кинорежиссёр Чираули с дамой.
– Чиаурели, – поправил я. – А чем дама тебе не «товарищ»?
– Она француженка, Ёсиф Высарьоныч, и не работник, а журналистка. Вам Лаврентий Палыч про неё рассказывал…
– Это правильно, что мы Чиаурели пригласили…
– Очень правильно! – согласился Власик.
– Я не закончил.
– Извините, товарищ Сталин!
– Чиаурели живой человек.
Власик не понял.
– Миша, я говорю, художник. Живой человек.
– Ах, в этом смысле! – догадался он.
– А в каком ещё? И правильно: Прокурор мне про эту даму рассказывал. Он Мише завидует. Он и про генерала моего вредно докладывал. Что тот в Берлине Марику Рёкк наяривает.
– Певицу?
– А кого ещё? И это, мол, опасно: она буржуазная певица. А я Прокурору сказал, Власик, что опасная идеология распространяется по другим каналам.
– По другим? – испугался он.
– Не перебивай! Сперма, я сказал ему, не чернильное пятно. Она следов не оставляет. А если и оставляет, то выиграет, значит, наша идеология…
Неожиданно для меня Власик понял, что я шучу – и рассмеялся. Он был счастлив оттого, что мне стало весело. И ему это счастье захотелось закрепить:
– А можно спросить, Ёсиф Высарьоныч?
– О чём?
– О товарище Мехлисе.
Я насупился:
– А вот он как раз почти не живой. И не товарищ.
Власик задумался. В том числе, наверное, и о том, что ошибся, упомянув товарища, который, по моему мнению, уже почти не живой. Хотя когда-то – как Власик сейчас – тоже был крупным начальником. Крупнее, – в Политуправлении Красной армии.
– Спроси! – разрешил я Власику, списав его ошибку за счёт того же праздничного «вздоха».
Власик засиял:
– А это правда, Ёсиф Высарьоныч, что Мехлис – когда был полностью живой, – доложил вам про одного маршала, который каждую неделю менял фронтовую жену. А затем спросил вас: «Что будем с маршалом делать?» И вынул блокнот. А вы долго молчали. И потом сказали: «Завидовать будем!» – и расхохотался. – Это правда, Ёсиф Высарьоныч?
Я не ответил:
– А почему ты начал список гостей с Прокурора?
– Я по алфавиту! – испугался Власик. – У Лаврентия Палыча фамилия первая.
– Даже к алфавиту подстроился! «Знамя побед», да?
– А что, правильно сказал: вы и есть знамя побед, Ёсиф Высарьоныч!
– Я человек, Власик, а не знамя, – произнёс я и подумал, что из Лаврентия писатель не вышел бы: людей нельзя сравнивать со знаменем. – Вот другие выразились правильней: «знаменосец».
– Да! «Знаменосец коммунизма»!
– А что ты ещё запомнил, Николай Сидорович?
– Всё, Ёсиф Высарьоныч! Что вы продолжатель дела Ленина и творец сталинской Конституции…
– Это ясно. Особенно – что творец сталинской. Если она сталинская, – Сталин и творец. И что «продолжатель»… Все мы что-то продолжаем. Вот ты, например, продолжаешь прикладываться.
– Но ведь день такой, Ёсиф Высарьоныч!
– Я не про сегодня.
– Вы про вообще? А вообще я и ем, и пью меньше. Да и то потому питаюсь, Ёсиф Высарьоныч, и потому выпиваю, чтоб не засорять голову мыслями о кушанье и выпивке…
– Скажи лучше – какая ещё мысль тебе в эту незасорённую голову запала? Из услышанного.
– Что вы маршал и генералиссимус!
– Это не мысль. Это факт.
– И ещё, что Отец и Учитель!
– А это старые слова. Но тоже неправильные. Отец не я, а Господь Бог. А Учитель… Ты знаешь кто Учитель?
– Вы, Ёсиф Высарьоныч! Был Ильич, а сейчас вы!
– Учитель – Иисус Христос. Слышал это имя?
– Слышал, – обиделся Власик потому, что я усомнился в его наслышанности. А может быть, потому, что отказался от этого звания в пользу неживого еврея. И для него неавторитетного.
– А кто из мастеров слова выразился лучше всех?
– Все говорят, что товарищ Тольятти. Из дружественной Италии. А высказались – я посчитал – 34 товарища!
– Италия пока не дружественная, а Тольятти не мастер слова.
– А вы спросили про мастеров, да? – Власик вдруг сник и поморщился.
В его глазах собралась жалоба на то, что жизнь – игра с несправедливыми условиями. И что – будь на то его воля – он бы на эти условия не согласился. И ещё – что если неполное знание чего-нибудь опасно, полное смертельно.
У меня возникла к нему жалость. Действительно несправедливо: он с кем-то пропустил «по вздоху», а я трезвый.
Но, с другой стороны, он моложе, а трезвость – тоже иллюзия. Неадекватное состояние из-за неприсутствия в организме «вздоха». Хотя я, как сегодня сказали, «почётный пионер», он моложе. И не знает пока самого главного: человек способен понять жизнь не раньше, чем поймёт, что понимать в ней нечего!
Но вот этого как раз Власик никогда не поймёт.
И потому из него тоже никогда бы не вышел художник. Он не способен думать о чём-нибудь таком, что называют «ничего». Зато при его качествах – невежество и дефицит чистоплотности – он, не пойди в солдаты, сделал бы приличную политкарьеру. Впрочем, раз уж стал генерал-лейтенантом, эти качества необходимы и солдатам.
Из меня бы солдат не вышел. Палач лучше: он казнит мерзавцев, а солдат убивает невинных. Законопослушных.
Потом пришла мысль, что – пусть даже я и не «гениальный машинист локомотива революции», – в последние годы мне удалось стать мудрецом. Я полюбил размышлять ни о чём. Это единственное, о чём можно что-то наверняка знать.
6. Головная боль начиналась в ступне…
– Вспомнил, Ёсиф Высарьоныч! – вспыхнул вдруг Власик, поразив меня скоростью, с которой уныние на его лице сменилось ликованием. Обычно я считал, что такая скорость возможна лишь в обратном направлении, – от счастья к страху.
– Я вспомнил про мастера слова, Ёсиф Высарьоныч, который про вас сказал, как никто!
– Кто такой? – не поверил я. Потому что никто не говорил про меня, как никто.
Власик уверенно натянул на лоб фуражку с начищенной до счастья звездой:
– Вот вы, Ёсиф Высарьоныч, отнеслись с недоверием к моей знакомой, ну, к блондинке с сердцем, то есть с носом, а ведь она дружит – и крепко – с лучшим мастером слова. А про вас он сказал лучше, чем другие мастера! Я слово в слово заучил. И знакомая тоже. А сами вы – но не сегодня – при мне сказали про него Лазарю Моисеичу: поддержать! И он поддержал: орден дал и народного…
– Что же он сказал, Власик?
– Он сказал, что… Он про вас сказал, что он…
Власик поморщился.
– Что с тобой, начальник? – спросил я.
– Я запутался, Ёсиф Высарьоныч…
– В чём же ты ещё запутался? – поинтересовался я, но сам же и догадался. – Ты в местоимениях запутался?
– В них. Но я разберусь…
Власик разобрался не скоро:
– Он, значит, этот поэт, он сказал что он, то есть вы… Нет, не так! Вот как он сказал слово в слово: «Он сын моей страны…» То есть, вы – сын его страны… Он под «он» имеет в виду вас!
– Это я понял, – повысил я голос. – И всё?
– Нет, конечно. «Он сын моей страны, улыбкою родною народы греет он, и полон счастья тот, кто руку жал ему, и, высясь над землею, завидует ему огромный – извините, высокий – небосвод!» – и звезда на власиковой фуражке проколола мне глаз острым лучом.
– Вургун?! – рассвирепел я. – Самед Вургун?! Бакинец?! Он не поэт, а козёл, Власик, и подруга твоя потому с ним и водится! С тобой же и с другими дуроёбами из твоей шоблы она мудохается потому, что вы пиздюки! А она враг, Власик: пасётся с англичанами! Я всё знаю!
– Я этого не знал… – пролепетал Власик и снял фуражку, теперь уже снова несчастный.
– Чего не знал? Что я всё знаю?!
– Нет, я про англичан не знал, Ёсиф Высарьоныч.
Я прислушался к себе: нога не болела. Болела зато голова. Причём, – странно: боль начиналась в ступне, и чем выше, чем ближе к голове, тем сильнее давило. После летней кондрашки любая боль в голове меня настораживала, но в этот раз боль возникла у меня от ярости, а не давления.
Вообще зимой я сержусь чаще, чем в другие сезоны. Может, ссылки сибирские невольно вспоминались. Горец я всё-таки. Потому и греет мне душу всадник на фоне Казбека.
Постучав пальцами по его силуэту на папиросной коробке, я отвлёк себя фразой, которую рассказал «товарищ кинорежиссёр Чиарули». Один тбилисский психиатр проверял пациентов на нормальность странным вопросом: «Вот высота горы Казбек 5047 метров. Считаете ли вы это достаточным?».
Надо бы с этим психиатром встретиться…
– «Я про англичан не знал, Ёсиф Высарьоныч»! – передразнил я Власика. – Не знал, а надо было! И надо было ещё знать, что этот засранец произнёс свой сраный куплет не в Большом театре. И не сегодня, а давно. И пал потом, лжец, на колени. На персидский ковёр. Почему его и духа не было сегодня в театре! Понятно?
– Понятно, товарищ Сталин.
– Хорошо же ты, получается, слушал всё и наблюдал сегодня, начальник охраны! Если б слушал, то запомнил бы кто из мастеров слова сказал «как никто».
Власик молчал и теперь уже не решался убрать пот над бровями. Я прикрутил фитиль и после паузы сказал:
– А «как никто» сказал писатель Леонов. Тоже плохой… Что он сказал?
Власик молчал.
– Он сказал так: после сотворения мира люди стали измерять его возраст. Начали, как всегда, евреи. Про евреев он не говорил. Это я говорю. И измеряли, мол, себе пока не родился Учитель. Он не называл его Учителем. Это я. А родился Учитель в 3760 году после сотворения мира. А кто, спрашиваю ещё раз, Учитель, Власик?
Не осмелившись назвать Христа, Власик засопел.
Я хмыкнул и продолжил:
– Ты прав, – Христос. И после его рождения люди стали пренебрегать богом. То есть датой творения. И начали измерять возраст мира заново: один год, два и так далее. Но писатель Леонов предложил, Власик, забыть и об этом. И с нынешнего дня измерять возраст истории по-новому. Со дня рождения кого, Власик?
– Товарища Сталина! – обрадовался он.
– Ты ему веришь, Власик? Веришь в его искренность?
– Верю! – заспешил Власик, как если бы речь шла об искренности не Леонова, а его самого. Потом, правда, одумался. – Хотя…
– Я тоже верю, – качнул я головой. – Но дело не в этом.
– Нет? – насторожился Власик.
– Нет. Я позвал тебя не языком чесать, а работать. Я не блондинка. К тому же нога болит. Даю поручение, Власик… Ты помнишь такую фамилию…
– Какую, Ёсиф Высарьоныч?
– Подожди! Паписмедашвили.
– Так точно, товарищ Сталин! Майор Паписмедашвили, он же Паписмедов! О котором Лаврентий Палыч вам докладывал седьмого числа. На ужине. Седьмого ноября. В честь Октября. Вы ещё смеялись. А потом вдруг перестали. Все смеялись. А потом тоже вдруг перестали.
– Молодец, Власик! Майор Паписмедов, правильно! А как там его ещё зовут?
Власик захихикал:
– Ёсик. Исусик. Иисус Христос.
– Исусиком его Матрёна окрестил.
– Так точно, Исусиком его товарищ Маленков назвал…
– А Христом майор называет себя сам, правильно?
– Так точно. И ещё Лаврентий Палыч. Он говорил, что тоже этому верит.
– Чему?
– Что Исусик и есть Христос.
– Прокурор ничему не верит. И никому. Это он так тогда сказал. Неизвестно почему.
– Именно: неизвестно.
– И не в этом дело, Власик, потому что мы это тоже выясним. Дело в том, что у меня есть для тебя поручение. Но сперва напомни мне слово в слово, что Прокурор про Ёсика-Исусика тогда говорил.
7. Капитан стал майором послезавтра…
Как я и ожидал, рассказывал Власик так же вредно, как Лаврентий.
Лаврентий самоуверен: даже кроссворд заполняет сразу чернилами. И поэтому рассказывает хитро: сперва – главное, а потом – детали. Получается вред: вот тебе мои выводы, на которых я основываю факты. Он начинает всегда со смысла, а это опасно.
Власик же и главное, и детали рассказывает одновременно, не разбираясь ни в том, ни в другом. А если и разбирается, то не верит, что разбирается. Он ни во что не верит. Даже атеистом не стал потому, что атеист верит в несуществование бога. Поэтому Власик рассказывает не только без смысла, но и без всего остального.
У Лаврентия полувековой опыт жизни. Власику столько же, но опыт у него годичный, которому полвека.
В жизни ничего не происходит, но Лаврентий живёт так, слов-но в его жизни каждый год происходит ничего. Ничего не происходит и у Власика, но за полвека это произошло с ним уже 50 раз.
Ни один, ни другой поэтому не способен повествовать безвредно. Перескажу тут сам.
Паписмедашвили, или Паписмедов, – еврейская фамилия, и майор – Ёсик, то есть, Иосиф! – родился в Петхаине, в еврейском квартале Тифлиса. Ровесник революции и Учителя, когда того казнили. Сперва, в Тифлисе, изучал семитские языки, а потом, в Москве, историю.
Был не только талантлив, но и сообразителен: стал чекистом. Работал поначалу в Центре и считался там лучшим из молодых работников. А с 43-го – в оккупированном Тегеране. Там, по заданию Центра, сдружился с молодым, но слабоумным шахом Мохаммедом-Реза, которого обхаживали и американцы.
Я услышал фамилию Паписмедова, когда в том же году, в ноябре, съездил в Иран на конференцию с тогдашними союзниками.
Фамилию знал раньше. В детстве. Был у нас с мамой сосед Давид Паписмедашвили. Мелкий торговец. Любил меня, как сына.
И жалел за то, что мой отец, во-первых, много пил, во-вторых, не умел этого делать, в-третьих, пил не вино, а главное – умер не естественной смертью. То есть – не от водки. А в драке.
Давид иногда подбрасывал мне деньги, чтобы я не отвлекался от учёбы. От бога – ибо меня готовили в священники. Я тоже к нему привязался.
А он к тому же за Кеке, за мамой, волочился, хотя и женатый был. Я даже где-то читал, будто Давид и был моим отцом. За исключением Святого Духа – кого только мне в папы не прочили!
А про Давида я вычитал это после того, как принимал его в Кремле в 24-м. У Кеке я бы никогда не спросил, а у него – если бы прочёл раньше – спросил бы. Прямодушный был мужик: грузинские евреи не похожи на российских. Они из другого колена. Тоже потерявшегося, но – совсем иначе.
Мы с Давидом тогда у меня пили. Я – вино, а он – водку, хотя жалел отца именно за это. Ещё мы с ним смеялись и вспоминали старое. Я, кстати, наказывал ему забыть о торговле, потому что это обман. Он спорил: мелкая торговля не обман. А я ему: мелкая – мелкий обман. Вот обмен не обман. И он обрадовался, потому что по-грузински торговать – это «обмениваться», «брать-давать».
Но дело не в этом: с той поры я о нём не слышал…
А о Ёсике Паписмедове услышал в Тегеране, когда Лаврентий решал – как заманить Рузвельта? Чтобы, ограничивая мои передвижения по городу, не я поселился у американцев, как те настаивали, а наоборот – они в нашем посольстве. И дело не в том, объяснил Лаврентий, что для гостей он уже «благоустроил» тайными микрофонами даже сортиры. Дело, мол, в психологии: в этом мире ты либо хозяин, либо, увы, гость.
Вдобавок Лаврентий не доверял меня американцам, хотя по отношению к ним у него предрассудков нету. Презирает он их не больше, чем остальных.
Я предложил сказать Рузвельту, что тоже, подобно ему, боюсь и не хочу воевать, и что, поселившись в его посольстве, могу потребовать политическое убежище. А это, дескать, конфуз. Лаврентий рассудил, что для введения этой шутки в американский мозг нужен нейрохирург.
А что ты предлагаешь, спросил я, – серьёзное?!
Не обязательно, ответил он. Есть предложение заявить Рузвельту, будто Сталин согласен гостить у него, если тот гарантирует мою безопасность не только на территории посольства, но и на пути к этой территории. А на этом пути, по разведданным шаха, немцы, мол, подготовили на меня покушение. В худшем случае меня убьют, в лучшем – похитят.
Лаврентий предлагал завершить послание Рузвельту риторическим вопросом: а что Сталину делать в лучшем случае, то есть в немецком плену?! Тем более – в такой ответственный момент! И разве, мол, не хватит немцам того, что они выловили его сына?
Хорошая идея, согласился я, кто автор?
Друг шаха, капитан Ёсик Паписмедов, сказал Лаврентий. И добавил, что – если Рузвельт клюнет – капитан станет завтра майором.
Капитан стал майором послезавтра, поскольку Рузвельт клюнул не сразу: настаивал, чтобы мы поселили у себя и его филиппинских поваров. И если бы не странная беда, сейчас уже майор был бы не только подполковником, но и орденоносцем.
Беда, однако, началась как волшебная арабская сказка с бедуином.








