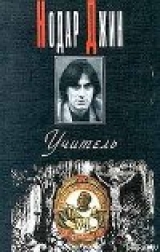
Текст книги "Учитель (Евангелие от Иосифа)"
Автор книги: Нодар Джин
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 23 (всего у книги 26 страниц)
85. И улыбнулся, как человек, решивший помочиться…
Шумной вознёй Берия и воспользовался. Вернувшись в гостиную через ту же дверь, за которой скрылся Орлов, он зашёл мне за спину и пригнулся:
– Икидан даурекес – пирвелс сасцрапо саткмели аквс гограствисо да мандедан елапаракеба ту сахлидано? (Оттуда звонили: Первому, мол, надо срочно с тыквой переговорить. И как тому быть – звонить тыкве прямо сюда или домой?)
Я взглянул на часы:
– Асе гвиан? (Так поздно?)
– Пекинши дилаа. (В Пекине уже утро.)
– Рао мере аман? (И что он решил?)
– Акедано (Сюда, мол), – и рассмеялся. – Тити сацивши амоивло. (Сюда, мол, – даже палец в сациви ткнул).
– Эс гавиге. Орловзе гекитхеби. (Это я понял. Спрашиваю об Орлове.)
– Чавицеро да дилит чвен «чинелебс» ватаргмнинебо. (Орлов сказал – запишу, а утром дам на перевод нашему «китайцу».)
– Вири! Твинианс тавис «чинели» акве эхолеба! (Осёл! Будь у него мозги, он держал бы сейчас своего «китайца» поблизости!)
– Сцореа, Висарионич! Мец ес утхари! Ар гиндатко – ме чеми «чинели» тан мхавстко! (Точно, Виссарионович! Я это и сказал! А ещё сказал: не нужен мне, говорю, твой «завтрашний» китаец. Мой «китаец» уже сегодня при мне!)
– Молодец! – вырвалось у меня. – Сад датове? (Куда его определил?)
– Гвердзе узис! (С ним рядом и сидит!)
Я не поверил памяти – скосился влево. Мао сидел между своим переводчиком и Мишелью.
– Эс лилипути чвениа? (Этот лилипут – он наш?) – не удивился я.
– Лилипути вис унда, Висарионич? (Кому нужен лилипут, Виссарионович?) – рассмеялся он. – Калиа чвени! (Наша – женщина!)
– Ки мара прангиа! (Она же француженка!)
– Чинетши газрдили! (Выросшая в Китае!)
Я ухмыльнулся: мне стало смешно. От того, что Берия слишком умён! Ему, однако, я объяснил свою ухмылку иначе:
– Чинетшио? Ахла мджера ром дзамиком бебиамис цхвири даусера. (В Китае росла, говоришь? Сейчас уже верю, что братишка искромсал бабушке носик.)
Берия тоже ухмыльнулся, потом потрепал по плечу Ёсика и похвалил его, но возвращаться на место не стал. Ждал Хрущёва, который снова возился с граммофоном. Маленков стоял рядом. Покорно, вытянув руки по швам. Видимо, сдался.
На этот раз Никита запустил «Сулико». В исполнении кутаисских сестёр Ишхнели. Как только вспорхнули начальные звуки гитарного перезвона, Хрущёв облапил Маленкова, а Берия шагнул к Мишели и расшаркался.
Поднялся и Мао. Валечка, вернувшаяся из «ссылки», поняла, что он направляется к ней, и метнула на меня испуганный взгляд.
Я отвернулся к Ёсику.
Подобно Маленкову, сдалась и Валечка.
Я спросил майора – нравится ли ему «Сулико»…
Когда-то очень. Сейчас – другая: про «Золотой Иерусалим». Который в Кумране…
А тоскует ли по Грузии?
Больше по Палестине…
Не поспешая с главным вопросом об Учителе, я вернул Ёсика Паписмедова в детство и велел рассказать об отце. Не о том, который был плотник…
Настоящего звали Давид Паписмедашвили, но он отсёк ему конец, «швили», вместе с крайней плотью…
Почему? – удивился я…
Давид не терпел, если незаконные отпрыски носили его имя…
Я с благодарностью подумал о маме. В отличие от Ёсиковой, она ругалась, видимо, не только с мужем. Иначе бы не доставало плоти и мне. Впрочем, по Иисусу, от принадлежности к евреям не спасает и необрезанность…
– А почему Иисус не настаивал на обрезании и… – осёкся я.
Ёсик смотрел в другую сторону. Маленков с Хрущёвым и Мао с Валечкой суетились под музыку с учёным видом. И молчали. Зато шатались почти в такт. Берия же носил своего «китайца» так порывисто, что никакая мелодия подладиться не сумела бы.
И дело было не в том, что Лаврентию приходилось сразу и кружить француженку, и инструктировать её. Этому он, вероятно, научился давно. Ему приходилось ещё и озираться на меня с майором. И нервничать, что беседуем мы без него. Поскольку раньше этого никогда ещё не было.
– Рас дахтис трациани харивит? – кивнул я Ёсику на Лаврентия. (Чего это он скачет, как бычок во время поноса?)
Занервничал и майор. Особенно, когда Лаврентий – как только я сделал вид, будто отвернулся – кивнул ему на дверь. Ёсик потёр себе нос, как человек, решивший солгать. И солгал:
– Пардон, амханаго Сталин, унда гавиде! (Пардон, товарищ Сталин, мне надо выйти!)
И улыбнулся, как человек, решивший пописать.
Я выгнул бровь:
– Ты пока ничего и не пил.
– Гранатовый сок, – и направился к двери.
Лаврентий вышел следом.
86. Хотя и блядь, она ни при чём…
Сразу после «Сулико» вернулся «Амурский вальс».
Булганину наконец удалось перехватить Мишель. Он уже был весёлый, кружился с ней и гордо поглядывал на Ворошилова. Держал, однако, француженку на отдалении вытянутой руки. И от волнения снова икал.
Валечка зато задыхалась в китайских клешнях. То хихикала, то, наоборот, морщилась и отворачивалась. Вальс они с Мао танцевали ещё хуже. Его замучил её бюст, а её – его дыхание.
Молотов громко жаловался Микояну и Ворошилову на Берия. В связи с проблемой мёртвого бога. И косился на мой портрет.
Хрущёв не выпускал Маленкова из объятий и учил его вести бёдрами при кружных разворотах.
Ши Чжэ украдкой наливал в стакан вино.
Каганович дожирал фаршированную сельдь, изготовленную сестрой Розой.
Мне становилось хуже. Раскалённый шарик снова плыл из щиколотки вверх, а в животе пучило. Я отвернулся от всех в сторону шкафа времени. Отвратителен стал мне теперь и он.
Как только вальс закончился, распахнулась дверь и появился Орлов. Мао не выпускал Валечку из объятий и тыкал в сторону граммофона. Сейчас, дескать, снова заиграет.
Орлов дошагал до Ши Чжэ, развернулся и пошёл обратно. Бросив тому какую-то фразу. Тот вскочил и засеменил с ней к Мао.
Мао выслушал, отпустил Валечку и развёл руками. Она раздосадовалась. Китайцы – уже под звуки танго – заспешили к выходу из гостиной.
Мишель наотрез отказала в танго Булганину и вышла следом за китайцами. Булганин решил не скучать. Пригласил Микояна. Тот неожиданно согласился, но не позволил себя обнять.
Булганин ошалел. Не знал что делать с партнёром, который не хочет обниматься.
Микоян нашёл выход. Отступил на шаг и – не отворачиваясь от министра – стал мелко перебирать ногами лезгинку.
Когда Валечка приблизилась ко мне, я поднялся со стула и развернулся к моей двери. Она застыла на месте и прекратила дышать. Одновременно с громким выдохом из груди – из-под век у неё вырвались крупные слезинки. Она смахнула их и запричитала:
– Иосиф Виссарионович, миленький вы наш! Я-то при чём? Ни при чём, родненький вы наш! Видит бог, ни при чём! Ни причём, ну! Совсем-совсем, на ноготочек даже ни при чём! Не ревнуйте, сокол вы наш!
Хотя Валечка блядь, она действительно была ни при чём. Меня тревожило другое. Показалось, что подкрадывалась тошнота. Я заспешил к выходу и, открыв дверь, бросил Валечке через плечо:
– Когда вернётся майор, дашь ему поесть-выпить, а потом – ко мне! Его, не себя!
87. Нашей легенде не хватает несбыточности…
Я был прав. Меня стошнило.
Стоило мне вернуться в кабинет – весь мой желудок взметнуло вдруг к горлу. Я прикрыл рот и бросился к веранде. Ключ торчал теперь в замочной щели.
Рвало меня, правда, недолго. Но я ничего и не ел. Тархуном отравиться нельзя. Тархун – не лаврентиева мамалыга. Или лазарева сельдь.
Отдышавшись, я задрал голову вверх. Небо по-прежнему кружилось в плотном снегу.
Шагнув к яблоне в глиняном горшке, я дотронулся до заголившейся ветки. Потом прикрыл её отставшей холстиной, но мысль о детстве погнал теперь прочь.
Погнал и белок, встревожившихся за вождя.
Что же произошло? – спросил я себя. Этот привычный вопрос не имел сейчас смысла. Ничего не произошло. Просто впервые в жизни меня вытошнило ни от чего. И тревожиться незачем, поскольку просто впервые же в жизни я постарел.
Догадку о подкравшемся конце тоже, впрочем, погнал. Старость ни при чём. Хотя беспричинная тошнота находила на меня и раньше. На Надиных похоронах, например.
Но до рвоты тогда не дошло. Я защитился злостью.
Тащился в толпе за гробом и думал, что теперь – и навсегда – остаюсь один. И некому меня любить. И теперь никому уже нет дела до моей души. И что это очень несправедливо. Даже если она, эта душа, пустая. Как почти у всех людей.
И всё равно это несправедливо, что никому теперь нет дела до моей души. Я нормальный человек. Настоящий. Я не могу жить, если никому не нужен…
Шёл я ровно, но Ворошилов, вышагивавший рядом, то и дело сжимал мне локоть и выговаривал два слова: «Сосо! Крепись!» Каждый раз, правда, менял порядок. Я молчал, и ему казалось, будто я в нём нуждался. Будто от его прикосновений мне становилось легче. Или от слов.
С каждым шагом становилось, наоборот, хуже. Потому что я в Ворошилове не нуждался. Ни в ком кроме Нади. А её уводили…
И поднялась тошнота. Её беспричинность испугала. И не так, как пугает помышление о цианистом калии в пище. Иначе испугала.
Я понял, что моя тошнота не беспричинна. И что тошнит меня по ужаснейшей из причин. По причине бессилия перед одиночеством. От этого ощущения бессилия во мне и всколыхнулась тогда злость на Надю. За то, что её уводили от меня потому, что она ушла сама.
Когда Ворошилов в очередной раз сжал мне локоть, я не дал ему открыть рта. Рванулся из толпы прочь и поехал домой.
Сейчас, однако, злиться было не на кого. Ёсик ни при чём. Я и сам уже догадывался, что когда-нибудь Учитель перестанет быть не только им, но и богом, – станет человеком. Настоящим. Но настоящий человек мне давно был не нужен.
К Иисусу я возвращался – после Нади – мучительно. Пытаясь забыть её, задавался простым вопросом: кем она была?
Отделаться от неё надеялся лёгким ответом: она была никем. Обыкновенным, увы, настоящим человеком. Из тех, без которых любой настоящий же человек легко обходится. Из тех, которых он не запоминает.
Но от этой правды мне тогда легче не стало. Напротив, с каждым днём после похорон боль крепчала. Ибо каждый день пытала новыми вопросами. Один мучительней другого…
С каждым же днём, однако, мне становилось ясно, что на эти вопросы не найти ответа, пока не найду его на простейший: отчего мне без Нади так больно? Без этого настоящего человека.
Ответ я нашёл. Оттого просто, что она была со мной и меня любила, а это – тоже просто – связывало меня, оказывается, со всем миром. Настоящим миром. Или скрывало мою несвязанность с ним.
Надина ко мне любовь приобщала меня ко вселенскому сознанию. К тому, что единственно и защищает от страха перед нашей обречённостью…
И вот её уход эту связь оборвал…
Действительно, догадался я тогда, любовь к тебе нужнее всего остального. И если догадаются об этом и все вокруг… Если, стало быть, все вокруг станут кого-то любить, то мир – пока все будут кого-то любить – не распадётся. Как распался он внутри меня с Надиной смертью.
Это понимание и возвратило меня к Иисусу. Который тому и учил. И который поэтому и был Учитель.
И который ещё – а это главное – поэтому и сам ведь любит всех и каждого. В том числе меня. Любит беспредельно. Больше, чем себя. Такою любовью, о какой мечтает каждый, но на какую никто не способен. Любит до отрешения от собственной жизни ради меня.
Не ради себя, как Надя. Думай она обо мне – не ушла бы.
Возвращение к Иисусу вернуло мне и чувство, что я не покинут. Не одинок. Что со мною теперь он. Что меня по-прежнему кто-то любит. И что от любви ко мне уже никогда не убудет. Ибо Иисус вечен.
Эта вера была сильнее любого сомнения во всём, чему ещё Учитель учил. Будто смирение хорошо. Будто распадение мира плохо. И будто спасёт его от краха одна лишь любовь.
Хотя люди не стали любить больше, а спасение в мир не пришло, – я понимал, что в человеке Учитель неодолим. Ибо человек не желает, чтобы его, человека, одолели.
Поэтому Иисус и стал настоящим богом.
Но когда – хотя иначе – стал богом и я, настоящий человек, душу мою начали терзать подозрения, что таким же был и он. И что неодолимость его – в непреодолимости легенды.
В которой самое правдивое – это мечта человека о том, чтобы его любили больше всего остального.
И вот теперь уводили от меня и Учителя. Он тоже уходил сам. Теперь – уже окончательно – я оставался один…
Но стошнило меня от другого. От понимания, что Берия прав. Оттого, что Лаврентиева правда – правда и моя.
Хотя уход Учителя меня самого обрекал на отчаянье, Ёсик и вправду, как вначале докладывал Берия, привёз из Кумрана бомбу, которую мне придётся взрывать. Иначе грядущий скоро крах этот мир не спасёт.
Если в нём жива легенда об Учителе, нашей легенде мир этот потом – после его краха – не собрать и не возродить.
Ей не хватает несбыточности. Поэзии. Надин Учитель, Ильич, после смерти – пусть и пробился в боги, – сошёл, как все, вниз. А настоящий Учитель вознёсся в небеса. Где и сейчас болеет душою за каждую душу. Тогда как Надин – если всё ещё чем-нибудь и болеет – то тем же сифилисом. Правда, наследственным.
Ухмыльнулся я, однако, в собственный адрес. Одна из вернувшихся ко мне белок то ли хихикнула, услышав о сифилисе, то ли чихнула на морозе. Верно, кивнул я: о том же самом я могу думать и в тепле! Иначе заболею и сам. Ученик…
88. Во всём глупом можно искать тайный смысл…
Вернувшись в кабинет, я направился к книжным полкам.
Буква Б была, как всегда, прямо под Надей, но под этой буквой Библия, как ни разу прежде, стояла за Булгаковым. Валечка, видимо, роется и тут: когда Мао попросил у меня Завет, она сорвалась с места с такою готовностью, какая бывает лишь, когда точно знаешь – куда хочешь прибежать…
Валечку пора убирать, вздохнул я и стал быстро пролистывать Библию. Я тоже точно знал – куда мне хотелось прибежать. К Откровению. Между тем, подобно Валечке же, сорвавшейся тогда с места, но застывшей под моим взглядом, я внезапно остановился.
На одной из страниц оказалась закладка из резной кости. Которою я раньше не пользовался! Хотя бы потому, что вьетнамцы подарили её только вчера. К юбилею…
Закладка оказалась там не случайно: три стиха в четвёртой главе из Марка очерчены были жёлтым грифелем. Которым я тоже не пользовался…
Совладав с изумлением, я прочёл в этих строчках, что Иисус сказал народу:
«Кто имеет уши, да слышит! Но когда народ разошёлся и Он остался без него, окружающие Его, вместе с Двенадцатью, спросили Его о притче.
И Иисус сказал им: „Вам дано знать тайны Царствия Божьего, но им, внешним, всё преподносится в притчах. Так что они своими глазами смотрят, но не видят; своими ушами слышат, но не разумеют“…»
Это не Валечка! – заключил я. А если и она очерчивала, то не по своему разумению. Ибо она – когда и своими глазами смотрит, то всё равно не разумеет… Это один из окружающих меня. Один из тех, – в гостиной. Один из двенадцати.
Усы на бакинском ковре – по пути к дивану – обрели теперь некий зловещий смысл. «Это Сталин! Самый мудрый и великий человек! Не рождал орла такого ни Кавказ, ни мир вовек…» Показалось, что и этот глупый стих под ковровым портретом держит в себе двойную тайну.
Тайну глупого содержания и тайну глупой очерченности стиха жёлтою же краской цветов из ширванской долины. Особенно концовки: «Нет, ты только посмотри! Ничего не говори!»
Глупее не скажешь, подумал я. Но всё на поверку оказывается глупым. Даже – жизнь Учителя. Хотя в ней, как и во всём глупом, можно искать иной, тайный смысл. Если захочется, – то и великий!
«Ничего не говори!»
Так, собственно, я и решил. Ничего никому не говорить. Ибо доверять никому нельзя. Нельзя будет даже потом, после искоренения зла. После Страшного Суда.
Когда всё само собой и развяжется. А этот час уже близок. И потому нет теперь смысла гадать – кто же очерчивал жёлтым грифелем три стиха.
Я закурил и пролистал Библию к конечным страницам.
К Откровению. К тем самым словам, которые Учитель говорил мне только сегодня. Когда я погнал от себя Валечку. И потом провалился в сон на этом же диване.
Жёлтым грифелем очерчены были и эти слова!
Я, как и обещал себе, гадать не стал.
Стал делать другое – пробираться к Спасению. К самой последней чаше гнева.
«Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя: и сделалось царство его мрачно, и он кусал язык свой от страдания, и хулил Бога небесного от страданий своих и язв своих; и не раскаялся в делах своих.
Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона и из уст зверя и из уст лжепророка трёх духов нечистых, подобных жабам.
Это – бесовские духи, творящие знамения; они выходят к царям земли вселенной, чтобы собрать их на брань в великий день Бога Вседержителя…
И он собрал их на место, называемое Армагеддон.
Седьмой ангел»… постучался в дверь.
Ёсик пришёл не один.
И не сам даже объявил о приходе.
– Иосиф Виссарионович! Вызывали? – произнёс Берия.
– Да, – кивнул я. – Майора вызывал.
– Хо да моведит! (Вот мы и пришли!) – улыбнулся Лаврентий.
В одной руке он держал бутылку «Телиани», в другой – три яблока. Два зелёных, одно красное.
Я ничего не имел против его присутствия, но проверил:
– Лаврентий, ты майор?
Берия переступил порог, прошагал к креслу, бережно усадил в него себя и ответил:
– Я маршал. Майор – это он.
Майор уселся напротив меня. С тех пор, как мы с ним расстались, он очень устал.
– Лаврентий, – продолжил я, – яблоки у меня есть. А что касается грузинского вина, я выпью армянский коньяк – и направился к тому самому подарочному штофу «Арарата», из которого наливала себе Валечка. Вместе со своей рюмкой принёс и два винных стакана.
Берия рассмеялся и, оставив в руке красное яблоко, вонзил в него нож. Ёсик сидел недвижно.
– Товарищ Паписмедов, – начал я, вернувшись с рюмкой на диван, – мне рассказывали, что в Кумране, когда вы догадались обо всём, пошёл особый дождь: прямые крепкие спицы из воды между небом и землёй. Это правда?
– Это правда.
– Скажите ещё про Кумран.
– Воздух там такой тяжёлый, что давит на плечи. И такой вязкий, что мешает ходить.
– А почему он тяжёлый и вязкий?
– Кумран находится ниже уровня моря.
– Опишите мне море.
– Описать Мёртвое море? Я его видел только издали. Но оно покрыто толстой кожей…
– Это вы хорошо сказали… – кивнул я. – А теперь главное: этот ваш пешерский метод, он один из или единственный?
– Никакой другой не даёт смысла. Другого и нету.
– А если с вашим кодом познакомить других учёных… Скажем, зарубежных. Придут ли они к тому же прочтению Завета?
– Товарищ Сталин, я же говорил: это – как загадка, разгадка к которой только одна… Другой быть не может!
Лаврентий решительно качнул головой: нет, не может.
– А возможно ли, – продолжил я, – что другие учёные, скажем, зарубежные, тоже уже обнаружили этот код?
Лаврентий решительно кивнул головой: да, возможно. И протянул мне на ноже ломтик разрезанного им яблока. Я отказался.
– Почему? – обиделся он.
– Прекрасно знаешь: я не ем с кожей.
– Сейчас почистим… Да, зарубежные учёные, возможно, тоже всё уже про Иисуса знают, но молчат. Понятно почему. Попробовали бы пикнуть! Сул ориоде кациа танац – да аравис ахло ар акаребен! (Их всего-то несколько человек, – остальных к этим свиткам не допускают!) Причём, главный из них – антисемит…
Берия не умел чистить яблоко. Правда, срезать кожу с ломтика труднее, чем с целого фрукта.
– Возьми целое! – подсказал я.
– Ара, эс ткбилиа. Цителиа! (Это сладкое. Красное!) – и пере-шёл на русский. – Хотя бы тот же Ватикан… Вы правильно однажды сказали, Виссарионович: у Римского папы армии нету. В самом Ватикане, правильно, солдат нету! – и перенёс взгляд с яблока на меня. – Потому что они служат в разных правительствах. На главных постах. Они тоже правы…
– Кто? – не понял я.
– На Западе. У Римского папы большая армия…
– Это всё ясно – и не говори глупостей! – остановил я его и взглянул на майора. – Вы долго жили за рубежом. Что там произойдёт, если Христос окажется… Ну, обманщиком?
– Он не обманщик! – вскинулся майор. – Наоборот: написал всё как есть! Точно и честно! Но этим народ не привлечёшь. Народу нужно невероятное. Не мудрое, а святое. Чего в жизни не бывает. Всё-как-есть народ не устраивает, а поэтому написанное для немногих было упрятано между строк. А для народа эту правду нарядили в чудеса и притчи. Как для детей. Детям не история нужна, а истории. Сказки… Детям нужно, чтобы герои умели всё…
Я остановил и его. Ибо ясно было и это:
– Я спросил другое: что произойдёт за рубежом?
Ёсик взглянул на Лаврентия. Тот соскоблил с ломтика последний красный островок кожицы и стряхнул его с ножа:
– Паписмедов жил в Иране… Там как раз ничего не произойдет. Там ислам. Но меня, Виссарионович, интересует пока не ислам, – и поправился. – Нас интересует Запад… Зачем нам возиться, если вместо нас справится Христос!
Потом поднял на меня глаза и договорил:
– Запад стоит на Иисусе, которого он, бодиши (извините), изговнял! Говорит одно, – Христос, мол наш бог, – а делает всё ему наперекор! Христос, пардон, Виссарионович, – Христос нам гораздо ближе, чем им! Он наш союзник! – и протянул мне очищенный ломтик. – Он их и развалит!
Я снова отказался от яблока. Лаврентий ухмыльнулся и опустил ломтик не на тарелку передо мной, а рядом.
На раскрытую Библию.
Потом разлил вино в два стакана и молча поднял один. Но – в отличие от Ёсика – не выпил.
– Он их и развалит! Дедас гепицеби! (Клянусь мамой!) – повторил Берия. – Без Армагеддона!
– Без Армагеддона?! – вздрогнул я.
Теперь – наоборот – ответил Ёсик. Но тихо:
– Армагеддон – тоже неправда…
Засуетившись, он забрал с книги мой ломтик и просунул его себе в горизонтальную щель под нависшим над ней носом.








