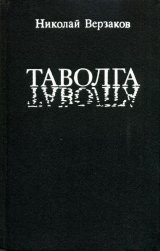
Текст книги "Таволга"
Автор книги: Николай Верзаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 18 страниц)
Теперь Матвей припомнил Кирюшку Лихолетова, сильно припадавшего на одну ногу и негодного к армии, большого выдумщика смастерить самокат, изладить свистульку, вырезать диковинку.
– Из холостых-то не нашлось? – искренне пожалел.
– Сватались. – Она помолчала. – Максим Мельников сватался, Колесников Иван, Гриша Кузнецов…
– Гришка? – обрадовался тому, что воспоминание о сверстниках как бы спрессовало годы, приблизило старое время. – Как же! И Гришку, и Максю Мелю, и Ванечку Колеска помню.
– Все там остались.
– Ах ты, батюшки, а какие ребята были! Ухорезами росли. – Он покачал головой, развел руками: – Ишь што… Да-а, а я в городе кооператив купил. Жизнь, грех жаловаться, да, видно, свинья не родит бобра, – усмехнулся, – на приволье тянет, своим домом пожить охота, коня завести.
Лицо его будто высветлилось изнутри:
– Помнишь, Аннушка, раньше в рождество – белое поле, крыши в куржаке, гривы полощутся, в кошеву крупу заметывает. Да с гармонью – душа поет пташечкой. Или на троицу в лес по веники… Было, да быльем поросло. Кооператив, конечно, продать, на книжке деньги есть, да ведь и пенсия идет. Так что есть деньги.
– А зачем теперь деньги, Матвей? – спросила она.
Он растерялся. Вот тебе и раз, зачем деньги.
– А вдруг сто лет проживем?
– Сто? – у Анны поднялись брови. – Для чего?
Для чего живут люди. Жили раньше и по сто, так поди спроси их, зачем. Жили и жили.
– Ребята выросли, – продолжала она. – На их детей поглядеть еще, а больше зачем? Кирилл вот рано умер. – Она сняла портрет с телевизора, провела по нему ладонью. – Жалеют его тут.
– Значит, есть за что. – Он пытался вернуть доверительный тон разговора.
– Помнишь, раньше печи, пол-избы занимали – всем хороши, да дров много шло. В войну издалека возить невмоготу стало, арему выпластали, подступились и к Касьянову бору. Кирилл и вывел по-новому дымоход – меньше пошло. В своей деревне печи переклал, в другую звать стали. Шел из Зареки, под лед и ухнул. Застудился да неделю и похворал всего.
Он возвратил портрет.
– Ну, а у тебя, Матвей, семья, внуки есть?
– Худую ты шутку сшутила, Анна, как отравы приворотной хватил. На какую ни глядел, все ты блазнилась.
– По правде говоря, я думала, в живых нет тебя, – на ее виске билась жилка и мелко дрожало веко. – Ты с белыми ушел…
– Белый, красный, голубой… Кто мог тогда что понять в той мешанине.
– Вот и не было счастья. – Анна подумала вслух.
– Да и тебе его, видно, не лишку тут перепало, – задел он укорливо.
– Сколько было – все мое. – Она как бы очнулась.
– Было, – повторил с обидой. – Зачем, говоришь, сто лет жить? А что я видел? Разве я жил? Мне пожить надо!
– Поздно, Матвей, добрые люди в старое время смертное припасали в эту пору.
Рот его перекосило, задрожала губа:
– Смертное припасали? Припасай! Ложись и складывай руки, а я не хочу. Я назло проживу сто лет – еще семь, а то и восемь ваших пятилеток!
Некстати пришла рыжая баба:
– Матушка, Анна Егоровна, в ножки падать пришла, право слово.
Анна встала:
– Что случилось, Поля?
– Маньку привезли, да за стол без тебя не садятся. Ты уж не побрезгуй, матушка, нами.
– С внуком тебя! Никитой назвали?
– Никитой. – Баба увидела Матвея и смутилась: – Пойду, недосуг, а ты, матушка, будь милостлива.
Баба ушла. Анна открыла ящик комода. «На зубок, должно быть, достает», – подумал он. Она накинула газовый шарфик. Матвей встал.
За воротами сказала:
– Алешу-то зря ты погубил, – и пошла по дороге.
Он задами спустился к реке, берегом, вдоль обрыва, поднялся на взгорок, где когда-то отец осадил Каурого. Поглядел за реку. Там дымила труба маслозавода и синел Касьянов бор.
Поясница набрякла болью. Руки, ноги – все ныло. Проклятый медведь. Часы дразнили: зря-ты, зря-ты, зря-ты… Кто-то позвонил. Потом еще. Хотел встать и не мог. Простучали каблуки и стихли – Настя-почтальонша пенсию приносила. Торопится – четверо ребят дома. Напоить-накормить, обуть-одеть… Пропадут деньги… Ах, господи, своей бы рукой отдать: это, мол, ребятишкам… Никто и не вспомнит. Глаза прикрыть некому… Часы бьют… Нет, колокол звонит… Сверкает излучиной река, чайка над ней… Щука сыграла в затоне… Аннушка смеется: «Зачем теперь деньги?..» В дверь стучат – Настя вернулась…
Шеф прибивал звездочку.
ТАВОЛГА
Наступила городская весна, затяжная и холодная, с мелкими дождями, грязным снегом на улицах, обнажила задымленные горы с прибитым к мертвой траве темным листом. И Костя Скрипачев затосковал. Он сравнивал себя с журавлем, привязанным за ногу к колышку, не взлететь, сколько бы ни махал крыльями, можно только ходить, насколько позволяет веревка, и смотреть в печальное небо. Никогда еще ему так не хотелось уехать. И никогда еще не был он так нерешителен.
К маю вязкие дороги просохли. На горах, под деревьями, пробили тлен подснежники. В неделю распустились березы, зажелтел первоцвет, зацвела медуница. А в низинах, вдоль просветлевших речек, закипела белой пеной черемуха, и над водой плыл ее горьковато-пряный настой. Тишине по ночам не давали устояться соловьиные свисты. В такие ночи Костя подолгу не мог заснуть, беспокойно метался и думал: «Все равно уеду». А утром шел на завод.
Из родных у Кости была только бабка. Когда он вернулся из армии, она всплеснула руками:
– Вернулся? Время-то как пролетело! – Похлюпала носом, деловито высморкалась и дала Косте рубль.
Через несколько дней он уехал на Север.
Теперь он снова жил у бабки и снова собирался уехать – в четвертый раз.
Обронила цвет черемуха, прошел соловьиный угар, в воздухе явственно запахло летом. А он думал о волнах холодного моря, об одуряющей тишине тайги, о мареве над солончаками. И ловил себя на мысли, что там, в дальних краях, он тосковал о своем маленьком городе. И это были не просто воспоминания, а яркие картины с голосами, цветом и запахом. И чем дальше он был от маленького города, тем сильнее чувствовал одиночество. Возвращался, затихал, а потом его снова тянуло куда-то – сильно, неудержимо.
А однажды он понял, что уехать из маленького города, затерянного между горных кряжей, не может.
В то июньское утро он проснулся рано от сердитого хлопка двери. Это вернулась из огорода мокрая от росы бабка. Рукава ее замырзанной кофты завернуты по локоть. Тонкие жилистые руки с морщинистой кожей – черны от земли. Она шлепает калошами по половицам, кое-где еще сохранившим следы краски, и ворчит:
– Лежит и горя мало, хоть бы помог. Все едино никакого толку. Деньги? Слава только, что деньги. Все едино я их не вижу.
– Хватит, ба-бу-уся. – Костя блаженно зевает и тянется к пачке сигарет.
– Вот-вот, только от тебя и слышишь. Женился бы скорее, развязал бы руки-то.
– Невеста не выросла. – Костя тушит спичку, глубоко, с удовольствием затягивается и пускает тонкую струю дыма в потолок.
– Чем Зойка Нестерова тебе не девка? Чего выжидаешь? – Лицо бабки становится сосредоточенно-суровым. – Как репа ядреная, да нешто тебе, шалапуту, достанется.
– Их, Зоек-то, тысячи, а я один, – поддразнивает Костя.
– Ы-ых! – бабка сердито гремит ведром. – Оттого и мечешься, как сыч на свету. А я, дура, лотерею купила, думаю: выиграю пять тыщ, Косте дом куплю.
– На кой он мне сдался. – Костя давит окурок в консервной банке, заменяющей пепельницу.
– Вот и поговори с ним, – вздыхает бабка. – Ну ин ладно, не хошь дом – на кооператив отряжу, живи, поминай старуху.
– Может, заявление подать, пока места есть?
– А что, разберут. Народ-то ныне в кооператив все метит. Да гляди, на пятый этаж не соглашайся.
– Ладно, выигрывай.
Костя неторопливо встает, идет в одних плавках во двор, зачерпывает из бочки ведром воды, опрокидывает на себя, фыркает, урчит от удовольствия, обтирается толстым мохнатым полотенцем до красноты.
– Чапля и чапля. – Бабка с укоризной кидает стыдливый взгляд на поджарое тело Кости. – Страм один, и больше ничего. Ишь, космы-то распустил, чисто дьякон.
Костя ухмыляется, пьет чай, стоя у стола, и смотрит в окно. Сегодня он чувствует себя легко, радуется солнечному лучу, что играет в створке окна; зарянке, сидящей на проводе и подрагивающей в такт песне хвостиком; ветке рябины в палисаднике, на которой появилась крепкая завязь и которая, если пожевать теперь, сведет скулы.
На завод он идет медленно, в развалку, засунув руки глубоко в карманы, и насвистывает. Натекает прохлада, сорит цветом липа, придавленный солнцем туман в распадках гор и сами горы похожи на высокие острова в молочном море.
В цехе еще тихо. Он идет через термичку, где от печей несет жаром и где в ваннах утробно булькает масло. На механическом участке он видит Зойку Нестерову. Зойка кокетничает с Сизовым и улыбается. А когда она улыбается, то на щеках у нее появляются ямочки и две скобки очерчивают рот по углам. Сидор Сизов – парень как парень, рыжий, коренастый, крепкий, жаден в работе, при случае не дурак выпить, и Костя против него ничего не имеет. Но когда видит его рядом с Зойкой, внутри начинает щемить и покалывать.
Небрежно кивнув Сизову и Зойке, Костя идет в свою кабину. Через неплотно зашторенное окно падает узкая полоса света на оптико-шлифовальный станок, отчего ручки и маховички сияют, суппорты матово поблескивают, не рассеивая, однако, общего полумрака.
Он снимает пиджак, надевает нарукавники, зашторивает окно, включает станок. Зашипели, набирая обороты, моторы, засветился экран.
В дверь просовывается Зойка, подходит, заглядывает через плечо:
– Я по линии культмассовых мероприятий.
– Ты вначале заметку напиши. – Он оборачивается к ней и оказывается носом к носу. Губы у Зойки алые и влажные, будто морошку ела. Костя вспомнил про репу и не согласился с бабкиным сравнением. Короткая стрижка придает Зойке легкомысленный вид. Глаза под темными ресницами поставлены широко, брови густы, несколько неправильный овал лица не нарушает гармонии.
– Не написала заметку? – Косте хочется поцеловать Зойку.
– Возьмешь замуж – напишу, – смеется Зойка.
– Надо будет авоськи таскать, а я на это неспособный.
– Да я за тебя и не пойду, – Зойкины брови ползут вверх. – Мне Сизов предложение сделал.
– Чего же не идешь?
– Не хочу. – Она сдувает упавшую на глаза прядку.
– Цыганский хор приехал, идем? – Костя кладет ей на плечо руку.
– Обойдешься, – она отстраняется.
– Хочешь, ударником стану? Пятилетку в три года – и портрет маслом в аллее героев.
– Не люблю трепачей – за три года ты три раза сбежишь с завода.
– Идем на «цыган» или нет?
– Сизов «Жигули» купил, мы с ним в лес едем.
– Ну и отвались.
Зойка выходит. Мечется вверх-вниз алмазный круг, качается тень на экране. «Сизов предложение сделал». Врет Зойка, непременно врет.
Целый день перед глазами круг да экран. И еще мысли в голове о себе, о Зойке, о Сизове – разные мысли.
После смены он идет в душ. Тело обретает упругость, уходит куда-то усталость. Кто-то шлепает по спине. Костя оглядывается – Сизов: рыжие волосы обвисли, похожи на мокрую мочалку.
– Кончай, а то слишком чистого сороки унесут.
– Куда торопишься?
– Зойку надо по грибы свозить.
– Да мы ж с ней на «цыган» идем!
– Как на «цыган»?
– Взяла два билета, идем, говорит, Костя, в дэка, там «Ромэн» приехал.
– Вот подлая девка! – ругается Сизов.
Горячая пыль на дороге к проходной, горячий металл в штабелях у прокатки, горячие крыши цехов, горячий воздух. Костя вглядывается в людской поток, чтобы выхватить из него коротко стриженную Зойкину голову. Накатывает волна томительной тоски. Вспомнился вечер восьмого марта. Пригласила к себе Зойка цеховых, был и Костя. Шуршало платье у Зойкиной матери, и вихрь за ней ходил, когда носила на стол закуску. Лучшее подкладывала Сизову. Костя вышел в сени и прислонил горячую голову к дверному косяку. И тогда ему сильно захотелось уехать – сесть в вагон и уехать все равно куда. Он решил это сделать немедленно и вернулся в комнату, чтобы одеться. И столкнулся в темных сенях с Зойкой.
– Зоя, ты где? – открыла дверь мать.
– Иду, – ответила Зойка и прижалась к нему, словно искала защиты. А потом… а потом – ничего, словно не было той минутной встречи в сенях и не было ее губ.
– Зойка, стой!
Она останавливается.
– Подожди, – Костя не может отдышаться.
– Чего тебе?
– Дорогой скажу.
Идут и молчат.
– Что ты хотел сказать?
– Жара. Идем купаться?
– Очень надо. Тороплюсь за грибами, рыжиков много развелось.
– Рыжиков. А Сизов тебя и брать не хочет. – Костя идет разбитной походкой и насвистывает.
– Как бы не так. – Зойка старается сбить его тон.
– Сейчас говорил: Зойка набивается, да свободного места нет.
– Врешь, Костя?
– Вру. – Костя останавливается и долго смотрит в ее глаза, так долго, что Зойка отворачивается. – Зачем тебе рыжики?
– Засолить. Хорошо потом со сметаной.
– Засолить… со сметаной… – Костя презрительно кривит рот, смотрит на горы, потом выше гор, в пустоту неба и вдруг спрашивает: – А ты видела, где орлы живут?
– Чего?
– Видела, спрашиваю, где орлы живут?
– Нет.
– Это недалеко, сперва на трамвае, потом километров двадцать пешком. Жду на остановке, да не забудь на ночь теплую кофту! – кричит уже на бегу к автобусной остановке.
Они идут по заброшенной дороге, густо заросшей мятликом. Тепло. Пахнет смолой, валерианой, цикорием. Тишина такая, что пушинки висят неподвижно. Вьется облачко мошкары. А по бокам дороги, на обомшелых валунах, под которыми бьют холодные ключи, рассыпаны белые бусы брусники. У пней, на пригорках, алеет земляника. Зойка быстро набирает горсть, догоняет Костю и прилаживается к его широкому шагу. И чуть не наступает на маслят: топорщатся из-под палой хвои. Зойка останавливается, выковыривает их, торопливо очищает липкие шляпки.
– Не отставай! – кричит Костя.
– Ау! – Она бежит, стараясь не глядеть по сторонам, но прихватывает глазом бронзовую шляпку боровика. – Стой, Костя! – разламывает крепкую ножку, нюхает, дает понюхать Косте: – Дух-то какой!
Иногда лес расступается, пестрит разнотравьем некошеных полян. Среди зверобоя, ромашки и клевера голубеют колокольчики, тянут короны к свету конопатые лилии. Как на параде, в шапке с малиновым верхом, стоит татарник – далеко виден.
Дорога ведет под гору. Ухо улавливает неровный шум. Напахивает сыростью – и вот река. Костя сбрасывает рюкзак, поводит уставшими плечами:
– Хорошо!
– Хорошо, – соглашается Зойка.
Они набирают дров, оставшихся на берегу от паводка, высушенных ветром и выбеленных солнцем. Потом Костя разводит костер и разматывает леску.
– Я скоро, – и скрывается в кустах.
Зойка на камне, покрытом зелеными водорослями, чистит грибы. Вода в речке студеная, на дне видны камешки. На отмели струей заворачивает лист купальницы с белой изнанкой. На него старается сесть стрекоза и не может. Ветку ивы клонит течением, и она хлопает по воде.
Хрустнул сучок. Зойка вскинула глаза, увидела рогатую морду. Уронила нож и от страха зажмурилась. Открыла глаза – никого нет. Прислушалась – тихо. «Поблазнило», – подумала Зойка, вылавливая из речки нож.
– Гляди, какого поддел! – Из кустов вышел Костя, кинул в траву бьющегося хариуса. – Уху заварим, какой тебе и не снилось.
– А тут рогатый кто-то подошел и смотрит. – Зойка сдувает с носа комара.
– Сохатый пить приходил.
В костре потрескивает. Костя снимает котелок, достает хлеб и консервы, сырки, пучок зеленого лука и бутылку.
– А это зачем?
– Не бойся, не водка. – Он повертывает бутылку этикеткой и думает: «Вот, пожалуйста, Зойка уже покушается на свободу, а я должен давать объяснения».
После ужина Зойка присела на корточки у костра, прибирая остатки еды, а он отправился на берег.
Надвигалась ночь. Шумела речка на перекате. Шепталась куга, как шепчутся люди, когда у них есть тайное. Трепетно мелькала летучая мышь. Какая-то птица пела: «Спи-и-и, спи-и-и».
Подошла Зойка, села рядом, прижалась плечом:
– Вот все говорят: счастье да счастье, а какое оно?
– То-то что говорят, и всяк по-своему. А что о нем говорить?
– Хочется же счастья.
– Хорошо тебе сейчас?
– Не знаю. – Она зябко поежилась.
– Если хорошо, так это и есть счастье.
И снова подкатила волна томительного ожидания, и близость Зойки опять, как тогда в темных сенцах, стала желанной. Он перехватил ее дыхание долгим поцелуем. Она не ответила, но и не противилась, а только спросила:
– А дальше что?
– Дальше-то? Что дальше? Ничего… – И он опять поцеловал ее, но уже не по желанию, а потому, что не знал, что ей ответить.
– Обязательно, что ли, это? – спросила она и показалась ему покорной и слабой.
Он представил себе на миг, что все может кончиться сейчас, здесь, на берегу, под крик глупой птицы, нелепо. И Зойка, может быть, станет ему неприятной, как это было у него однажды с другой женщиной. И что тогда они уже не смогут просто вести себя, будут друг другу чем-то обязаны. И ему вдруг стало неловко от этой мысли и стыдно чего-то. Он наклонился, загреб пригоршней воды, плеснул в лицо и сказал:
– Конечно, не обязательно. – Встал и пошел к берегу.
Вышла луна. Стрекотали кузнечики. В болоте за рекой скрипел коростель. Слышался еще какой-то гортанный звук, что-то сипело, посвистывало, чавкало. А птица все кричала: «Спи-и-и, спи-и-и». Он всмотрелся и увидел ее. Она была величиной с дрозда, сидела на макушке ели, вытянув шею, и пела. Первобытная тоска слышалась в этой песне.
Костя нагнул ломкий стебель таволги, с ее шапки брызнули росинки, сверкая холодным светом. Обломил стебель: аромат горьковатый, нежный. И вспомнил он, что в армии, а потом на Севере, в тайге и в Казахстане ему не хватало именно этого запаха, напоминающего родное и близкое, а что – пока вспомнить не мог. Он наломал букет и понес его Зойке.
Костер угасал. На искристую траву падала ажурная тень ветвей. Костя подбросил охапку сучьев. Огонь оживился, облизывая сушняк. Ярко вспыхнула еловая ветка, раздвигая сумрак и высоко подбрасывая искры.
– Этот запах напоминает мне детство. – Зойка утопила лицо в мокрой таволге. – Помню яркое утро и мокрый, желтый от лютиков луг. Мы с мамой куда-то идем.
– Рассказывай, – он сел рядом.
– Это другая мама, родная. Она умерла… давно уже, – тихо сказала Зойка. – Идем мы с ней. Я устала и прошусь на руки. А мама показывает: «Вон, видишь белый цветок? Дойдем до него и отдохнем. Но за этим цветком, впереди, оказывался еще цветок, потом еще и еще… Ничего я не помню больше – ни откуда вышли, ни куда и зачем шли. Только залитый солнцем луг, желтый от лютиков, белый цвет и этот запах. И теперь бывает… когда думаешь, что счастье-то – вот оно, и хочется остановиться, я слышу мамин голос: «Подожди, видишь вон там, впереди, белый цветок?»
Косте вдруг показалось, что он давно знает Зойку, с самого детства, и что здесь, на берегу, они сидят тоже очень давно. И никого вокруг нет, костер только да луна, да белый призрачный блеск берез, да их двое. Да под рукой его, как метроном, стучит Зойкино сердце.
– Ты виновата, – сказал он.
– В чем?
– В том, что я не уехал, не ушел с завода, не провалился в тартарары. В том, что я здесь, и, наверное, в том, что не могу без тебя.
И качнулись звезды, и повалились темные пики елей.
Небо светлело. Восток опоясала неяркая полоска зари. Ночная птица устало тянула: «Спи-и-и, спи-и-и»… Над речкой садился туман.
Первое, что почувствовал он после пробуждения, было ощущение тишины, нежности, восторга и едва уловимого беспокойства. Он рад был, что мысли, тревожившие его ночью, не оправдались. Он любил ее, как никогда и никого еще не любил. И будущее теперь представлялось ему долгой дорогой, по которой они идут вдвоем. Они идут, а за каждым поворотом открывается неожиданный вид. «Давай отдохнем», – просит Зойка. А он смеется: «Вон, видишь впереди белый цветок?»
Голова его лежала на Зойкиной руке. Ветерок покачивал травы. Высокие, вершины елей скрадывали бездну неба.
– Моя, – прошептал он.
– А вот возьму и сбегу, – улыбалась Зойка.
– Ах, ты подслушиваешь? – Он подхватил ее на руки и закружил. – Хочешь, закину на солнышко?
– А жить-то как без меня будешь?
Потом они поплескались в речке, собрались и пошли в горы по едва заметной тропе, ведущей через мочажины, завалы валежника и каменные россыпи. А когда забрались на самый верх, глазам открылась удивительная панорама. Горы, сколько ни гляди вокруг, горы да леса. Редко где осколком сверкнет прудок, либо речка на перекате. Камень, на котором они стояли, гол, даже лишайник не рос на нем. От высоты захватывало дух. А внизу россыпи, трава, ниже кустарник, мелкая сосна и лиственница, с исковерканными ветром вершинами, потом пихтач в бородатом лишайнике, еще ниже густая, трудно проходимая щетина леса. В самом низу, в поймах речек – буйное чернолесье. Ветер свеж, воздух ослепительно прозрачен. В стороне царственно парит птица.
– Смотри, – Костя передал бинокль. – Видишь? Орел!
Здесь, на высоте, Костя по-особенному ощутил строгое величие гор. Немые камни мудро смотрят на бег веков. Тишина и покой. Только ветер звенит в ушах да треплет волосы.
А внизу люди построили заводы, города, возделали пашни. Там жили великие мастера, там ломались в схватках клинки и лилась кровь, там люди трудились и трудятся из века в век. Там любили и продолжают любить.
В голове рождались хорошие мысли и неслись над мелкими заботами, не касаясь их.
Костя думал о жизни, о заводе, о людях, и они казались ему сейчас сильными и красивыми.
И сам себе он казался сильным, красивым и добрым.
Орел пологой спиралью спустился на неприступную вершину гребня, вытянул лапы, сел, сложил крылья и слился с камнем.
– Жизнь, как картины Врубеля, нельзя рассматривать очень близко, иначе увидишь лишь бугорки да полоски. Надо отойти, поднять себя, чтобы увидеть дальше; так подняться, чтоб выше уж и нельзя было. – Костя смущенно посмотрел в глаза Зойке: не слишком ли путано он говорит. Но она слушала внимательно, и он был ей благодарен за это, и ему хотелось говорить еще и еще умными словами о самом хорошем, что есть на свете.
А на вершине гребня отдыхал орел, спокойный и уверенный в себе. Там ему не было равных по силе. Напахнуло чем-то очень знакомым. Это Зойка достала из кармана поникшую таволгу.
– На память взяла, – объяснила она.
В город вернулись к ночи. Костя хотел идти домой, к бабке, но Зойка не отпустила. Она его за руку повела к себе. Так они и пришли в маленький домик на краю рабочего поселка.
– Явилась? – Зойкина мать подозрительно посмотрела вначале на нее, потом на Костю. – Вот как – рука за руку, а мать убивайся тут.
– Будет вам, мама, – у Зойки порозовели уши.
– А Сизов-то два раза по грибы сгонял. Корзину вот нам принес, видишь, сколько!
В углу стояла корзина, полная рыжиков.
– Человек самостоятельный, ничто из рук не выпадет. Свое хозяйство, сад, копейка в доме ведется, машину купил…
– Мама, это Костя… Ты должна помнить…
– Нет, не помню, – сухо ответила мать.
– Он был у нас…
– Мало ли кто у нас не был.
– Мы с ним, понимаешь, мама… – Зойка окончательно смутилась.
– Ты переоденься-ка лучше, Сизов-то зайти обещал.
«Вот оно», – думал Костя. Зойкина мать словно наперед знает, что у Кости никогда не будет лишней копейки в доме, как не будет сада и своего хозяйства. И уж, конечно, не будет машины. Даже если каким-то чудом у него вдруг окажутся большие деньги, то и тогда он ими распорядится как-нибудь глупо.
Словно поняв Костины мысли, Зойкина мать постаралась сгладить неловкость:
– Садитесь, молодой человек.
– Мне пора. – Костя взялся за скобу.
– Посидели бы, чай будем пить.
– Поздно.
– Куда ты? – Зойка тронула Костю за плечо и виновато поглядела большими круглыми глазами.
– Идти надо. – И он вышел.
На улице стояла тихая теплая ночь. По дороге кто-то неторопливо шел. Белел отложной воротничок рубашки. Вспыхнул огонь сигареты и выхватил крупный нос Сизова.
Костя уходил все дальше и дальше. Послышался топот, но он не останавливался и не оборачивался. Тяжело дыша, Зойка схватила его за руку:
– Что же ты, а? Как же ты, а?
– Мать… Сизов… Не хочу.
– А ты меня спросил? Спросил меня? Как же я-то без тебя буду? Подумал, а?
– Никогда я к этому не привыкну. Никогда, слышишь?
Зойка говорила и говорила, но Костя не понимал ее, он только чувствовал, как дрожат ее руки. Зойка торопливо сунула ему что-то: «На, возьми», – и быстро пошла обратно.
Гулко стучали, удаляясь, шаги. Костя обернулся. Редко и сильно билось сердце. Он мял, ломал в руках то, что дала ему Зойка, крошил на дорогу. Потом пошел обратно, все ускоряя шаги, побежал и почти наткнулся на Зойку:
– Это ты?
– Я.
– Идем со мной, к бабке. Она будет рада тебе, а там посмотрим.
Зойка взяла его руки, спрятала в них свое лицо, всхлипнула:
– А руки-то… таволгой… па-ахнут…










