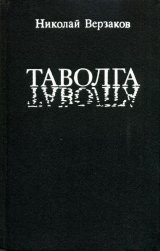
Текст книги "Таволга"
Автор книги: Николай Верзаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 18 страниц)
БЕРИ, ДА ПОМНИ
В тени свежесметанного стога хлебаем суп с курицей. Курица хотела снестись в котле с гудроном. Гудрон от тепла размяк – ноги увязли, и курица попала в суп. Обгладываем косточки, ломаем с дедом дужку. Он уже два раза меня подлавливал, но теперь я начеку. Надо ему дать что-нибудь неожиданно и сказать: «Бери, да помни». Тогда-то он никуда не денется, и я пойду на охоту, может быть, даже подстрелю волка. Не спускаю глаз с дедушки, но никак не могу выбрать момента. Он собирает кости в чашку, ворчит на Бобку:
– У, жиган! Куда носом-то в чашку, – протягивает мне, – вытряхни под куст… Бери, да помни.
Обидно до слез.
– Ума-то, что у малого, то и у старого, – бабушка прибирает «со стола», – далась тебе эта дужка.
– Пусть привыкает. В школу скоро пойдет – по старым временам бороноволок.
Ерошит мне голову.
– Задолжал, выходит? – откидывается и дремлет.
Какое же будет у дедушки желание? А ну-ка ночью на сеновал пошлет? Или на конюшню, а там домовой Рыжке гриву заплетать начнет. Рыжка будет храпеть и биться, пока пена с него не станет падать. Тормошу дедушку.
– Что? – поднимает он голову. – А-а… Станешь деньги зарабатывать, так сапоги мне и купишь.
Дедушке ноги ломает «рематизма проклятая», и хорошие кожаные сапоги – его давняя мечта.
– Кабы золота комышек найти, тогда бы зажили. – Бабушка кладет ложки в котел.
– А что бы купили? – любопытствую.
– Нашли бы чего. – И загибает пальцы: – Пяток бы ярок, корову – Зорька старая стала, шубу мне, сапоги деду, тебе валенки, – и больше ничего придумать не может.
Беру ведро, в котором поим Рыжку, и бегу на Березовку. Набираю песку, полощу его, черпаю горстями, вглядываюсь – не пропустить бы золота. Нет, не блестит – и откидываю. Перебрал три ведра – фарту не было.
Много в Березовке утекло воды с тех пор. Давно не ищу в ведре самородков. Но память чем дальше, тем чаще возвращает в прошлое.
После долгой отлучки иду на Березовку. Поскрипывают ремни, блестят сапоги, лихо сидит фуражка с «крабом», у лацкана «крылышки» – волшебный ключ от небесных ворот.
Снегу еще нет, но в колее лед. Ручьи высветлились. Качает водой ветку калины, кровавая кисть обмерзла и ослепительно играет сосульками на солнце, пахнет едва уловимой холодной пряностью осеннего тлена. В мшистой тишине: фьюи-фьюи-фьють… Щуры клюют калину, роняют капельки-звуки: фьюи-фьюи-фьють…
А вот и дом. Лает Тайга. Лай неуверенный. В дремучих глазах вдруг искра – узнала: молотит хвостом, уши прижала, повизгивает.
Дедушка в проеме:
– О-о! Вася приехал…
Колобком скатывается с крыльца бабушка:
– Васенька, милый ты мой, кормилец, – суется мягким носом.
Кормилец, к слову. Никто их не кормил до последнего часа. И у самого начинает рябить в глазах. Поднимаюсь, захожу в сени, здесь по-прежнему пахнет зверобоем и душицей.
Настает время развязывать мешок. Достаю дедушке гравированный, с золотой насечкой портсигар с рубиновым камешком-кнопкой, а бабушке – кусок панбархата.
– На ково это мне? Ково я с им делать стану? – А сама прикидывает к груди, глаза блестят – рада.
И дедушка рад – заскорузлым, плохо гнущимся пальцем открывает, достает дорогую папиросу, нюхает и кладет обратно. Щелчок как бы добавляет массивности подарку и доставляет особое удовольствие.
Я где-то начинаю ощущать, что вещи эти тут не нужны, и радуются старики не им, а тому, что не забыты, не обойдены вниманием. И от того, что доставил им приятное, испытываю волнующую радость.
– Летшиком ведь он у нас стал! Ах…
– Хотела квашонку завесть, так будто нечистый под руку толкнул. Теперь уж раньше вечера не поспеет пирог. Ты, старый, петуха того, с голой шеей, заколи, да натаскай воды в баню, да веник с голубницы добудь.
– Какой петух, он уж в горы глядит, – смеется дедушка.
– Неужто побежишь? – огорчается бабушка.
– Надо бы…
– К вечеру-то воротишься?
– Как выйдет.
Бабушка вздыхает:
– Завтра, гляди, не припоздайся, баня к обеду поспеет, чтобы не выстыла.
В чулане вынимаю из посылочного ящика одежду для охоты, которая хранится тут постоянно. Достаю ружье из чехла, собираю и вешаю в комнате на лосиный рог. Бабушка готовит еду, дедушка улыбается:
– Ты ему петуха с собой положь, в рябчика теперь не попадет, отвык.
Сбор волнует. Рисуется дорога, места, по которым пойду, какую увижу дичь. Тайга учуяла сборы – запах ружья ей хорошо знаком – поскуливает.
Через Березовую гору направляюсь в верховья Багруша. Вдали срываются тетерева – птицы глуповатые, но осторожные. В ельнике собака взлаивает на рябчиков, гонится за зайцем, возвращается, высунув язык, глядит: правильно ли, дескать, делаю – и снова скрывается.
Я не был тут два года. На склонах там и сям вырублен лес. Под топор, скорее всего, попадает сосна, и глухарь уходит с обжитых токовищ. По ключам спускаюсь в Уренгинку, вытекающую из болота, по ней – к поселку, от которого осталось три жилых дома.
Здесь когда-то процветал промысел живицы, но неподсеченной сосны не осталось, и добыча сошла на нет. Из крайнего дома старуха Марья, днем единственная тут, позвала чай пить. Меня же манило дальше, скорее нагрузить усталостью тело.
Марье, очевидно, хотелось узнать новости от знакомого (она знала нашу семью). Одичавшая от тишины и безлюдья, она долго глядела вслед. И я пожалел, что не уважил старуху.
Ночевать остановился на склоне горы. Под прикрытием каменных выходов развел костер, очередил для похлебки рябчика. Собака набегалась, лежит, глядит на огонь дремотно. Давно забытое ощущение оторванности снова вернулось. И мир с турбинным ревом, кислородной маской, пахнущей резиной, номером в гостинице и жидким шоколадом на завтрак стал казаться пришедшим во сне. Действительность же – костер, нависшая глыба скалы над головой, шум сосен, запах дичи в кипящем котле. Здесь все не так. Даже опрокинутый ковш Большой Медведицы над вершиной горы совсем не тот.
Вспышки костра пляшут на камнях. Кажется, лежу у входа в пещеру, а сам я – пещерный человек. Ноги гудят радостной усталостью, тело распустилось в блаженной истоме, и все во мне унялось – спешить дальше некуда. Мысли успокоились, желания уснули, но шевельнулась печаль: внутренняя тишина ненадежна, скоротечна. Потому что есть другая тишина и другая ночь, где не дремлет дежурное звено. Где на прогазовочной полосе едва проступают белесо веретенообразные тела самолетов. А в летном домике кошка Мотька научилась безошибочно определять сигнал тревоги. По нему Мотька выскакивает, подняв хвост. А потом сидит на краю полосы, пока не дадут отбой… Печально оттого, что жизнь завертела, как собаку в колесо, и не отпустит, что иной ритм для меня теперь невозможен. Да и сам я, наверное, не смогу долго прожить в лесу, отдаться ему – часть меня навсегда осталась там, среди турбинного рева.
Возвращаемся умаянные. Тайга бредет сзади. А дома уж все готово и ждут, самовар на столе. Баня натоплена, веник заварен.
Баня. Кажется, она была, прежде всего, всегда с ее антрацитовым блеском стен, скобленым полком, запахом дыма, березового листа и жара. И благодатная прохлада сквозь бабушкину руку, и приговор: «С гусенка вода, с беденка вода, с младенца Василья – вся худоба».
Паримся с передыхом, в три захода.
– Поддать? – Дедушка перекидывает веник с руки на руку.
Меня и без того коробит, как бересту на огне, но сдаваться невозможно.
– Не замерзать же…
Волосы трещат на затылке, а деду хоть бы что, он люто гонит «рематизму проклятую».
Потом чай до бесконечности и разговоры.
Дужка у рябчика маленькая. Ломаемся. Вспоминаю вдруг, что привез ему алмаз резать стекло (помню, почему-то ему хотелось иметь не стеклорез, а алмаз). Дед тронут. Шепчу на ухо:
– Бери, да помни.
– Огудал! – хохочет. – Что же, отыгрывайся, твоя взяла.
Мне хочется сделать ему подарок по душе.
– Ничего мне не надо, все есть.
– Вот и просил бы сапоги, – вступает бабушка. – Куда ему деньги девать.
Я и вправду, не привыкнув к деньгам, иногда не знал, куда их употребить.
– Сапоги нешто яловые? – размышляет дедушка. – Не терпят ноги в резиновых.
Просьба мне кажется слишком скромной. Но сапоги, так сапоги. Я слышал, недалеко от гарнизона хорошо шили на заказ.
– Давай снимем мерку.
Это приводит дедушку в совершенный восторг. Он ставит ногу на лист, я очерчиваю контур, меряю взъем и рисую вид сбоку.
– На заказ, как генералу! – восторгается дед.
Дни утекают, как вода из пригоршни. И опять Березовка – родимый край мой – отходит на задний план, вспоминается реже.
Переучиваемся. По горло теории. На стоянке ходим вокруг нового самолета, обживаем кабину, на тренаже отрабатываем «слепую» посадку. Наконец, провозные, разбор полетов, предполетная подготовка, опять полеты. Сапоги дедушке подождут, успею.
Телеграмма: дедушка умер. Вышел напоить скотину, схватился за бок – и готов. Так я и не выполнил единственной его просьбы.
ЖИЗНЬ НЕБЕСНОГО КОРОЛЯ
Я дневалил – стоял под грибком, чтобы не напекло голову, и поглядывал за порядком. Когда пришла смена, отстегнул от пояса штык, передал и обошел палаточный городок. Было пустынно – шли полеты. Заглянул в инструкторскую палатку – там пахло смесью «Золотого руна» из забытой трубки и шипра. Взял графин со стола – заменить теплую воду – и увидел альбом.
Я знал, что читать чужие письма и записные книжки нельзя, но можно ли смотреть чужие альбомы? Да простит мне согрешение Анатолий Иванович, лучший из людей, мною встреченных когда-либо, ибо научить летать может только хороший человек. А он учил этому.
Откинул корку альбома. Под затейливой вязью «Жизнь небесного короля» увидел рисунок оборвыша в великом для головы летном шлеме и больших, выше локтя, крагах. Перевернул лист и стал читать.
«Моя бабушка носила по деду пожизненный траур, ходила в черном. Уличные озорники принимали ее за монашку и дразнили: «Господи, помилую кобылу сивую по шее батогом, чтобы бегала бегом».
Мои отец с матерью рано умерли, я находился на попечении этой бабушки, а когда умерла и она, остался совсем один. Правда, была еще в поселке тетка, но, обремененная семьей, она, при виде меня, испытывала немного радости.
Днем я уходил на гору, ложился там, смотрел в небо и слушал шум сосен. Если долго смотреть, то кажется: не облака бегут, а я мимо облаков мчусь в неведомые края, как летят осенью птицы – все в даль. Случалось, засыпал под дремотный шум деревьев и, проснувшись, с сожалением покидал гору, набрав по пути вязанку хвороста или мешок шишек.
Я рано усвоил две истины: нельзя брать чужого и стыдно быть богатым. Когда у соседа, старика Агапа, мы, пацаны, увидели в чулане мешок сухарей, сочли его буржуем, улизнувшим от возмездия.
Дом мой не закрывался – взять там было нечего. Зато, вернувшись, находил на столе кусок хлеба, чашку квашеной капусты или кулек килек. Этого хватало, и непонятны были жалобы тети Сани соседкам после того, как однажды сводила меня в детский сад на праздник.
– Ето што же тако, бабы, – негодовала она. – Другие едят – за ушами пишшит, а он бумажки подбирает. Так бы и зашибла паршивца.
Зато какие были на конфетных обертках картинки! Самолеты, дирижабли, парашютисты… Я их рассматривал по вечерам, устроившись в продавленное кресло возле печки, где ржели жаром сосновые шишки, и уносился в мечтах в неведомые страны. Я не понимал теткиных возмущений, ведь конфете можно радоваться раз, съел – и нет ее, а картинку можно разглядывать сколько угодно и думать о счастье. Счастье понималось, как ожидание боязливой радости, как падение сверху на больших качелях – знаешь, не упадешь, а сердце мрет.
За печкой стояла моя кровать, над кроватью висели ходики. На них был нарисован тигр. Он без устали водил глазами. Я пробовал водить так же, но уставал, а тигр будто подразнивал: ус-тал, ус-тал…
Так однажды я сидел в кресле возле печки. Было тепло. Надвигались сумерки. Мне не захотелось переходить на кровать.
– Так-так, – подмигнул тигр.
– Что ты понимаешь? – возразил я. – Ты всего только тигр, да и то не настоящий.
– Не так-не так, – ответил он.
– Висишь, ну и виси себе. А я, когда вырасту, заработаю много денег, куплю новые часы и уплыву в другие страны.
Тигр чихнул и покрутил головой.
– А то возьму да и сделаюсь королем.
Тигр замурлыкал, поводил усами, выгнул спину, расправил лапы, потянулся и спрыгнул на пол. Засверкали искры, и комната наполнилась голубым светом. Тигра не было, зато передо мной стоял человек в кожаном шлеме со спущенными на глаза очками, в кожаных перчатках.
– Разрешите представиться. – Он склонил голову. – Я Великий Неизвестный Пилот, – и отвесил поклон.
– Какой же вы великий, когда неизвестный? Вот Чкалов известный, Громов, Леваневский, еще были Уточкин, Нестеров, – я перечислил всех известных мне летчиков, – их знают все мальчишки, но даже они не считают себя великими.
– У нас, мой друг, совсем немного времени, и пока ты собираешься, я расскажу тебе свою историю. Как-никак нам предстоит провести вместе целую ночь, и ты должен знать, с кем имеешь дело.
– Куда я должен собираться?
– Но ведь ты сам сказал, что решил стать королем, и я помогу тебе, если, конечно, ты этого очень хочешь.
– Да. Но только короли богаты, а я богатых не люблю.
– Прекрасно! Ты не будешь богат, но будешь самым могущественным королем, какие когда-либо жили на свете. Тебе не будут завидовать, потому не свергнут в результате дворцовых интриг. Ты будешь небесным королем, а в небе нельзя вбить колышки и сказать: «Это мое». А если кто-то и попытается, то первый же колышек тотчас выпадет. Ты будешь летать, как не снилось и птице, и будешь видеть солнце, когда оно скроется от людей, и на землю, как теперь, упадут сумерки. Это большое счастье – видеть свет, когда другим он уже недоступен. Так вот слушай.
Когда-то я был таким же сорванцом, как ты, и как все сорванцы на свете мечтал о славе. Меня научили летать. Наверное, я был неплохим пилотом, ибо обо мне писали в газетах. И тут, заметь, я допустил глупость, какую только может допустить человек: загордился и забыл друзей… Я летал над городами и государствами, глядел сверху на землю, где люди задирали головы. А я кричал: «Я – великий!» Тогда небо рассердилось: «Ты великий? – и раскололось от множества молний. – Отныне ты будешь неизвестным. Никто не вспомнит о тебе, пока ты не исполнишь умного желания такого же, как ты, человека. А таким, согласись, умные желания приходят не часто». – И небо стукнуло мой самолет о гору, а меня превратило в кусочек железа. От самолета лишь осталось немного жаростойкой краски, которая, как известно, не может сгореть. Железо и краску нашел жестянщик. Из железа он вырезал тигра, раскрасил его жаростойкой краской и подарил своему другу – часовщику. Часовщик очень обрадовался, так как только что сделал превосходные часы, а украсить их было нечем. Часы купили на ярмарке в день свадьбы твоей бабушки, и с тех пор я висел на стене, и ни разу не слышал, чтобы кто-то захотел стать королем, самым бескорыстным в мире, чтобы работать больше всех в своем королевстве. Идем же, на дворе глубокая ночь, а мне не хотелось бы опоздать.
Он взял меня за руку и повел за собой. За воротами, где мы считались, чтобы играть в «красные-синие», стоял самолет. Великий Неизвестный Пилот открыл дверцу, посадил меня и сел сам.
– Сейчас я увижу небо! – Он в нетерпении потер ладони и нажал кнопку запуска.
Завертелся пропеллер, самолет сдвинулся с места и полетел. Под крыльями побежали огни. Промелькнула школа, угловое окно на четвертом этаже в моем классе. Я крикнул: «Прощайте!», но голоса своего не услышал, потому что сильно свистел ветер…
– Та-а-к, – раздалось за спиной.
Я увидел моего инструктора, Анатолия Ивановича, и смутился. Он выслушал путаное объяснение и сказал, что воды принесет сам.
История жизни небесного короля осталась недочитанной. Однако воображение мое было растревожено, и я стал всматриваться в жизнь инструктора.
Ррра-ррра-ррра – дорогу припечатывают сапоги.
Брызгают в стороны куры. Из-за подсолнухов вскидываются глазки станичных красоток. Мы показываем строевой шик. Ррра-ррра-ррра!.. – и выстрелом: «Эх!» – и после вдоха:
Крепки ребята-ястребки,
С «мессершмиттом» справится любой.
Ты согрей нас жарко,
Фронтовая чарка,
Завтра утром снова в бой.
Ни о какой чарке никто и думать не думает, но именно в этом месте – оглушительный рев. Мы идем в станичный клуб на концерт – сами артисты, сами зрители. Клуб набит. На сцене хор. Запевает Гошка Вирясов, мой приятель еще по аэроклубу и сосед по нарам в палатке. Мы с ним в одном экипаже у Анатолия Ивановича. Он в строю стоит четвертым, я пятым. Когда разделили по экипажам, при первом знакомстве инструктор спросил Гошку: «Поешь?» (он основательно познакомился с нами по характеристикам). Дернуло за язык: «Лазаря», – всунулся я. Анатолий Иванович даже не повернул головы. За мной не числилось эстрадных способностей, я не умел рисовать, не был спортсменом, ничем не выделялся. Знал, правда, лес, повадки зверей и птиц, умел стрелять влёт, но кому это было интересно в степи? Анатолий Иванович постоял возле меня и отошел к следующему. Внутри царапнуло.
На сцене две скамейки – купе вагона. Входит человек с большим чемоданом, вероятно, нэпман. Озирается, ставит поклажу, снимает шляпу, утирается и садится – это инструктор Земский. Появляется Анатолий Иванович, смотрит жуковато на нэпмана-Земского, шикарно сплевывает окурок: «Нам, железнодорожным ворам…» – кидает балетку, кепку, растягивается на лавке и храпит. Нэпман-Земский ворочается, то и дело вскакивает под смешки зрителей, хватается за чемодан и боязливо косится на соседа.
Но вот Анатолий Иванович встает, потягивается, смачно зевает – отлично выспался – и благодарит Земского за то, что тот покараулил его балетку. В зале вой…
Сижу в квадрате. Анатолий Иванович рядом, смотрит в сторону четвертого разворота, буднично спрашивает:
– Видел, как ломают самолеты?
– Нет, – верчу головой, полагая услышать историю.
– Смотри.
Планирует самолет на посадку – ничего особенного, разве чуть прискальзывает, исправляя неточный заход. Выравнивает, выдерживает, касается земли, вдруг припадает на плоскость, дает волчка и скрывается в пыли.
Нас обгоняет пожарная машина. Разбитый самолет – жалкое зрелище: плоскости смяты, винт загнут в бараний рог. Оказалось, нога при выпуске не встала на замок и сложилась на посадке. Инструктор заметил это с земли.
Часто на предполетной подготовке он задавал вопрос, на первый взгляд далекий от сути:
– Аданичкин, скажи, что такое метриопатия?
Медлительный и спокойный Саня хлопает белесыми глазами:
– Не знаю, товарищ инструктор.
– Хромов, а ты знаешь?
– Понятие философское, можно объяснить как умеренность или золотую середину.
– Вот-вот, золотая середина! А почему ты дергаешь ручку на посадке? Ведь просто прелесть, какого ты «козла» оторвал, ведь за это к самолету подпускать нельзя…
Или:
– Аданичкин, что такое терция?
Незамутненно глядят васильковые глаза Санечки.
– Объясни ему, Хромов.
– Это буквы в типографии определенной величины.
– Понял, Аданичкин? Возьми энпэпэ (наставление по производству полетов) и втолкуй Хромову обязанности стартового наряда под этой самой терцией, чтоб не снимал залогов на финише.
Или:
– Аданичкин все равно не знает, скажи, Хромов, что такое хокку?
– Не знаю, товарищ инструктор.
– И я не знаю, – разводит руками Анатолий Иванович.
Если уж он не знает, так нам и подавно можно не знать, и даже не нужно. А через три дня:
– Аданичкин, что такое хокку? – и читает:
Ива склонилась и спит.
И кажется мне, соловей на ветке —
Это ее душа.
Неловко, стыдно, рождается злость на себя. Вслушиваюсь в ночные шорохи за палаткой, и кажется, там бродят неприкаянные души. Завожу знакомство в библиотеке и нахожу трехстрочники в томике японской поэзии.
Возвращаемся из зоны – вполне определенного места в небе над вполне определенными геометрическими контурами на земле.
Вдруг трапеция станции, рассеченная диагональю речки, пропала под натекающей облачностью. Сектор газа под рукой пошел назад – Анатолий Иванович взял управление на себя – и хлопнула по ушам тишина, и тело освободилось от ощущения вибраций. Капот сошел с горизонта, и потекли на него ослепительно белые горы с причудливо курчавыми вершинами, обманчивая мягкость которых соблазняет. Но заходить в кучевку нельзя – турбулентность, или попросту тряска, может развалить аппарат как хрупкое, эфемерное сооружение.
Суемся в «окно», и словно в сказочном ущелье летим в бездну, крутимся среди причудливых утесов, фантастических гротов, откуда, кажется, вот-вот взмахнет крылами потревоженный дух изгнанья. Я отдаляюсь как бы сам от себя, забываю о земной бренности, ошеломленный неповторимым мигом, ярким как молния. Испытываю состояние детской жути и восторга при падении во сне, а падаем мы мимо трехкилометровой толщи кучевых напластований с синеватым поддоном – предвестником назревающей грозы.
После посадки подхожу к инструктору, как того требует порядок, получить замечания по полету. Он сдвигает шлемофон на затылок, отмахивается: погоди – и глядит на солнечный сноп, падающий из «того» окна.
И вот позади учебно-боевой истребитель конструкции Яковлева. Высший пилотаж, маршруты, типовые атаки «воздушных боев» – все вместилось в летную книжку одной строкой: столько-то полетов, столько-то часов.
Прощаемся в вокзальном ресторане. Анатолий Иванович улыбается:
– Аданичкин, что такое брудершафт?
– Не знаю, товарищ инструктор. – Саня невозмутим.
– Скажу ему, Хромов.
– Это когда двое пьют сразу, а потом целуются.
– Понял, Аданичкин? А теперь забудь. Небо беспощадно к тем, кто заблуждается. На милость его не могут рассчитывать даже короли.
Надо уметь все объяснить. Даже сны, которые приходят много лет спустя.
Есть на приборной доске автоматический радиокомпас – самый большой прибор в кабине истребителя, с самой большой стрелкой. Она показывает на дальний привод, как правило, аэродрома посадки и не дает заблудиться – ставь на ноль и никуда не денешься, придешь домой.
Вижу себя в кабине самолета. Стрелка слетела с оси, лежит за стеклом внизу прибора. Горючее на исходе, надо садиться, а я не знаю, где нахожусь. Охватывает леденящая жуть, как бывает только во сне, я цепенею и просыпаюсь. Долго не могу успокоиться, хотя не первый раз вижу этот сон, и даже во сне знаю, что это неправда. Можно было бы объяснить, что я потерял цель, иду неведомо куда, и главное для меня осталось в том времени, когда стрелка чутко подрагивала на малейшее отклонение от курса. Но откуда постоянство снов?
Все просто. Я с упорством маньяка постигал теорию и практику полета, они вошли в меня через поры, через нервные окончания, через клетки мозга, проникли в самую суть. И будут со мной, пока я жив. Как сказано в «Жизни Небесного Короля»: «Душа пилота – вечный узник неба».









