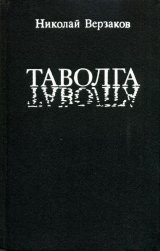
Текст книги "Таволга"
Автор книги: Николай Верзаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 18 страниц)
КУНИЦА
«Вот как куница охотится, – рассказывал давний приятель Владимир Иванович. – Сижу это в сумерках под елью. Мешок развязал. Мимо белка – и на ствол, да как шнурком ее вверх дернуло. За ней – другая. Жую хлеб. Первая перелетела на соседнее дерево, за ней… куница! А у куницы, сам знаешь, мех-то получше, чем у чебурашки, будет. Схватил ружье. Смертный крик слышу – вынула из белки душу. Тихо стало. Сколь ни заглядывал, признака не оказала. Черной молнией сверкнула – и нет ее».
Куница – редкий подарок охотнику. Встреч с ней немного бывает. Каждая запоминается…
Лучи пронизывают хвойную сутемень – яркие пятна на податливом мху. Путаюсь в еловом буреломе, того и гляди ноги вывихнешь. Гортанный ропот – выбуривают истоки горной речки. Вода студеная, лилово-туманная в вечной тени. Замшелые стволы вкривь и вкось. Валит усталость. Леший меня занес. Скинул мешок и повалился в прохладные мхи.
Таких гиблых мест человек не чтит. Грибов, ягод мало, гнусу полно. Но пройдут первые заморозки, отсеют осенние ситнички, и наступит тихая благодать. И хороши станут в это время глухие ельники.
Лесовик глуповат и забывчив, пасет солнечных зайчиков на мягком мху. «Тень-тень-тень», – счет ведет на свой лад и сбивается. Котомка худая: трусит золотой хвоей, сыплет клюквенный бисер, ронит лист-багрян. Колокольчиком сладкоголосым синичка позванивает. На талинке качается аляпка – речной воробей – задумчивая птица. «Тень-тень-тень…» Опять сбился со счета. А вот тебе, чтоб не подслушивал – и повел рукой лесовик: марь в глазах, потекла усталость по жилам, разнежилось тело, смежились веки.
Пролетела сойка, уронила лазорево перо – голубыми кругами пошло. Лисица махнула огненным хвостом. Пал сокол и рассыпался ярью. Косач-лирохвост приосанился, – и пошел по лесу перелив бубенчатый. Высунулась острая мордочка – круглые ушки, острые зубки, повела носом в одну, в другую сторону, сиз-туман в глазах. Вытянулась струной, расстелилась платом дорогим. Махнул лирохвост крылом, да и был таков…
Капля сорвалась с ветки да по носу мне. Открыл глаза.
Небо синее, хвоя темная, белый мох. Вверх-вниз, вверх-вниз, не бежит, не летит, а перетекает плавно, повторяя невидимый узор, куница – золотая грудка.
Ах, как хорошо! В балете разве, да и то изредка, такое можно увидеть. Все дальше и дальше прошивает узор на темной ткани урмана. Ушла.
Досады нет. Радостная грусть – старости первый стук.
НЕБОЛЬШАЯ ПОВЕСТЬ О БОЛЬШОЙ ПТИЦЕ
Как же это, друзья?
Человек глядит на вишни в цвету,
А на поясе длинный меч!
Керай (поэт средневековой Японии)
Первой весной
Искристым утром, в изломе месяца Травы, он вывелся под старой елью, на толще прелой хвои, скупо устланной рыжими перьями.
Проклюнулся первым и успел обсохнуть, пока его братья и сестры выпрастывались из скорлупы. Когда же земля задымилась испариной, Старка вывела их из духоты хвойного полога. Три с половиной недели, большей частью прохладных, с дождями, истощили ее. Боясь застудить кладку, выходила ненадолго перехватить листьев брусничника, вершинок чистотела, почек дудника. Торопливо возвращалась, опять терпеливо сидела, поправляя под собой то или иное яйцо.
Но вот истек последний день ожидания. Вывелись все десять. Измученная долгим сидением, теперь она была довольна, и зеленый мир плыл в зыбком мареве.
Солнце ярило, гнало зелень в рост, развязывало бутоны, распускало языки птичьему народу и прочую мелюзгу поощряло скрипеть, жудеть, стрекотать.
Лес кормил и укрывал от опасностей, но он же таил многие беды. Знала Старка, что к месяцу Желтых Лиственниц от ее выводка едва ли останется половина, и боязнь за детей не покидала ее.
Но вот в лесу наступил тихий час, и Старка успокоилась. Сохатый в тени густых елей опустил вислогубую морду и дремал. Рысь растянулась на горячем каменном выступе, обняв лапой спящего рысенка.
В лагунку, образованную изгибом ручья, забрел медведь, повалялся во взмученной воде, выходить раздумал и лег. Подлетел кулик, поискал что-то возле и замер, подняв одну ногу. На медвежий нос сел слепень. Медведь щелкнул зубами, почавкал и прикрыл нос лапой. В воздухе стоял звон – это был час насекомых.
Вдруг проверещала сойка, но не во сне, не по пустому делу, а тревожно, предупреждающе. Кулик опустил поджатую ногу, пискнул и улетел с криком к небольшому болотцу за ручьем. Медведь приподнял голову, потянул носом, встал и проворно покинул лужу. Рысь прихватила пастью детеныша и тенью скользнула в каменную расщелину. Лось повел ухом.
Старка вытянула шею. Тревога передалась птенцам, и они замерли. Шуршала трава. Страх гнул шею. Старка вжималась в траву, втягивая голову. Так нередко она отсиживалась в прежние времена. Все сильнее шумела трава. Послышались шаги и прерывистое дыхание. Качнулись колпачки наперстянки. Страх вытолкнул птицу – она прянула и потянула над травой. Дымчатый пес – уши торчком, хвост калачиком – с визгом кинулся за ней. Старка взмыла и ушла из виду. Пес метался и обидчиво взлаивал.
Она выдразнила собаку, но там остался Человек…
Птенцы слышали шаги, неторопливые и осторожные. Вверху, над лапчатым лабазником, показалось нечто большое и неуклюжее.
Человек наблюдал, как цыплята, едва обсохшие, изо всей мочи помогая себе крылышками, ковыляли в разные стороны. Один пробирался через стебли прямо к Человеку. Уткнулся в носок сапога и, видимо, решив, что укрылся надежно, затих и стал похож на охристый, в темных пестринах, листок.
Человек накрыл его ладонью, взял в горсть и поднес к лицу. Глухаренок еще не знал страха. Он смотрел в лицо Человека – оно ему не нравилось: бесперое, с тупым мягким клювом.
– Попался! – улыбнулся Человек. – Испугался собаки? Да, братец, с ней шутки плохи. Что прижух? Вырастешь – черным будешь. Черный глухарь, Кара-Суер – как тебе нравится? Ну-ну, ступай себе, да смотри, не попадайся осенью…
Человек бережно опустил копаленка на теплую, пахнущую сырой травой землю и пошел было прочь от этого места, да оглянулся. Птенец, загребая крылышками, бежал следом.
– Э-э, да ты, по всему видать, компанейский мужик, – и Человек покачал головой, – однако не дело задумал. Не торопись, придет твое время, – и прибавил шагу.
Когда солнце спустилось к опушке и жара спала, вернулась Старка. Распушила перья, распустила крылья и тихо поквохтала. Собрала цыплят, подправила их под собой, чтобы каждому сиделось удобно, и не шевелилась, пока они дремали. От каждого исходило тепло, вливалось в нее нежностью, наполняло тихой радостью. Она опять была счастлива.
На закате они зашевелились, стали просовывать головки между перьями. Она повела их кормить. Еды было вдосталь: комары, мелкие кузнечики, гусеницы, мягкая зелень. Цыплята склевывали мошек, тлей, перехватывали друг у друга личинок, суетились. Старка поощряла к поиску робких, призывала к благоразумию тех, кого не в меру заносило в сторону. Особенно тот, что вывелся первым и которого Человек назвал Кара-Суером, то есть черным глухарем, – требовал глаз да глаз.
По траве скользнула тень. На сухую березу свалился тетеревятник. Пока складывал крылья и осматривался, она укрыла малышей и затаилась. Ястреб все-таки заметил движение, насторожился и стал ждать – он когтил только летящую птицу. Ждал долго, но так ничего не высидел, снялся и бесшумно пропал в сумеречном лесу. Почти тут же резкий крик канюка заставил замереть. А как только сгустились сумерки, над еланью появилась сова: вертя глазастой башкой, взаривалась в траву. Во тьме неподалеку чем-то долго шуршал еж – этот тоже не прочь был бы перехватить пуховичка. Но вот ночь миновала, из-за горы снова выбралось солнце…
На десятый день птенцы вспархивали. И тут одного из них снял с ветки чеглок – он вывернулся из-за кустов внезапно. На другого вскоре напал горностай. А на исходе месяца Первых Ягод, в дождь-косохлест, намокшая копалушка запуталась в повители и не увернулась от зубов рыси.
Глухаренок Кара-Суер с той поры еще раз видел Человека. Это случилось на втором месяце его жизни, в жаркую пору, в самый зной, когда и осиновый лист не шелохнулся, травы отяжелели, пахло сосновой живицей и маслятами. На этот раз Человек был без собаки. После разлета выводка он остановился, отер изнанкой кепки мокрую голову и сказал: «А славные нынче выводки» – и ушел, высоко поднимая ноги, без шума. Глухаренку показалось, Человек боится птиц и старается быть ими не замеченным.
Осенью
Веером пали на небо золотые снопы. Обрумянилось облачко. Дали высветились. Лес смолк. Все как бы набрало воздуху в полную меру и затаило дыхание. И вот за горой будто открыли заслонку, и ослепительно брызнуло из зева невидимой печи. Лес выдохнул.
Над еланью кружил молодой канюк, млея в волнах упругого утреннего воздуха. Восходящий поток заносил птицу все выше и выше. Кольцо горных вершин расступалось, открывались новые виды. Он спокойно наблюдал за галдежными ватагами дроздов внизу, за молчаливой суетой птичьей мелкоты, за своей тенью на пестрой земле, за вывороченной елью и тремя рябыми птицами возле – тремя зыбкими пятнами. Ничто не задерживало внимания. Он был молод, сыт и доволен собой.
Старую ель повалило в месяц Красных Рябин, ту ель, под которой Старка вывела глухарят. Там, где были корни, земля высохла и превратилась в пыль. Старка часто полоскалась в пыли, подгребая ее под себя крыльями.
В этот сухой и теплый месяц Отлета Стай она была спокойна. Ее выводок распался. Правда, две копалушки находились еще при ней, но уже более в силу дочерней привязанности. Молодые глухари отмежевались и ночевали отдельно. Вначале они навещали Старку и сестер каждый день и, побыв час-другой вместе, улетали. Потом появлялись реже, и вот она их не видела другую неделю. Они все меньше и меньше при встречах узнавали друг друга – родственная связь слабла.
Молодые глухари держались вместе. На исходе Желтых Лиственниц, как водилось, они должны были слететься с другими и пробыть вместе до Первых Капель.
Старка склюнула несколько белых камешков и развалилась блаженно на боку, подставляя другой солнцу. Две молодые копалушки копошились рядом, может, последний день. Еще один выводок, третий по счету, отделился от Старки, а вместе с ним отпали и заботы. Настали недолгие часы расслабленного покоя. Вприщур Старка видела кружение канюка, но он теперь не был страшен.
Жизнь в вывороченной ели еще чуть-чуть теплилась – один корень связывал ее с землей. Но хвоя потеряла свежесть, подморенные шишки лущили клесты, по стволу шмыгали поползни, обирая козявок. На сучьях висели клочьями белые мхи. В паутине запутались листья, да крупные капли отягощали ее, ослепительно искрясь на солнце. До слуха долетел успокаивающий говор ручья. Редко что нарушало тишину леса, кроме гроз, а к ним, как и к тишине, Старка привыкла.
Потому, когда раздался невдалеке выстрел, она не очень встревожилась, приняв его за раскат грома. Насторожило ее то, что канюк вверху встрепенулся и полетел прочь. Почти тотчас резкий отрывистый звук повторился. Она поднялась и забеспокоилась.
Ее глухарята находились где-то неподалеку. Они подросли настолько, что неопытный глаз не отличил бы их от взрослых. Только чуть короче хвосты, синее дудки маховых перьев, меньше борода, не так велики белые пятна на сгибах крыльев да не густо еще зелени на груди. И с дерева они снимались без «тух-тух-тух…» – звука вошедших в пору глухарей.
Вот почему, когда захлопали крылья, она определила, что это был молодой глухарь. Он шел сверху, от релки, то есть с гребня горы, опоясал край елани и неловко ушел вниз, в болотную крепь. Растрепанный вид птицы был так необычен, что Старка не узнала своего Кара-Суера.
Вскоре неподалеку треснул сучок, Старка выглянула из-за корня. Прямо на нее шел Человек. Она поднялась на крыло и потянула вдоль склона, отвлекая внимание для того, чтобы копалушки могли улететь в сосняк под прикрытием елового корневища.
Грохнуло. Тело пронзила боль. Старка накренилась в поворот, раскинула крылья и, уже не шевеля ими, стала уходить со снижением под гору. Еще рвануло, и она опрокинулась на спину, упала в пахнущую мухоморами прогорклую прель. Выхлапывала перья в отчаянной попытке взлететь, но перебитое крыло не давало, и она лишь переворачивалась на месте.
Болото широким кольцом охватило гору со старой лиственницей на вершине, похожей на корабельную мачту с обрывком паруса. По склону спускались сосны, разреженные березняком. И всюду – буйные заросли пырея, затянувшего старую гарь. Сорил семенами дудник, шумел от ветра лабазник, иван-чай с висюльками белой пряжи, опутанный повителью, – делали место труднопроходимым.
У подножья горы – полоса камней, покрытых зеленым бархатистым мхом и брусникой. Полоса окаймлена калинником, роняющим ягоды на корню. За ним – темными колоколами ели – дневное убежище зайцам. Еще далее вниз – кочкарник с мелкорослой сосной и мрачным пихтачом. И, чем дальше в болото, тем тоньше пихтач, клочковатой бахромой свисает с уродливых сучьев лишайник. Внизу мох, обтекающий кочки, сверху мха – тонкая сетка стеблей-нитей и россыпи клюквы. Еще дальше худосочный кустарниковый сор. За ним небольшие разводы чистой воды – гибельные зыби.
В одно из таких окон попал сохатый. Взмутил воду, поднял со дна пузыри и тяжелый дух гнилости. Сохатый хотел тут же вылезть, да раздумал. Вместе с тиной со дна поднялись водоросли, ростки и листья. Он губами прихватывал стебли рогоза и, мотая головой, вытягивал их, хрустел корнями и жмурился. Медленно продвигаясь вперед, оставлял за собой широкий след, разрывал рогом затянутую поверхность, выбирал лучшие стебли с мясистыми кореньями.
Ему нравился перелом осени – благостное время, когда еще достаточно тепла, вдосталь корма и ни зуда комаров тебе, ни гуда слепней, ни нахальной, забивающей глаза и ноздри мошки. Красное время!
Осень, словно добрая бабушка, что села отдохнуть на минуту и любуется теперь с тихой улыбкой на свои дела: все ладно вышло, все получилось в меру.
Вдруг что-то большое мелькнуло сбоку и вмялось в мох с тугим звуком. Сохатый махом выскочил из полыньи, оставив на воде пузыри. В грязи, в тине, с вехотками водорослей на рогах, он замер, напряг мускулы и раздул ноздри. Но вот тело его обмякло, он мирно опустил голову и потряс ею, словно укоряя: «Ну, брат, нельзя так, надо предупреждать».
В кочках, раскрыв клюв, будто изнемогая от жары, тяжело дышал глухарь, насторожив черный глаз на сохатого. Основание хвоста пронзительно саднило, подхвостье намокло от крови, в глазах застыло недоумение: что случилось? Ему помнилась первая встреча с Человеком, тепло ладони, мягкий охват пальцами, улыбка. Свежа была и другая встреча, когда Человек ушел, не оглядываясь, осторожной походкой. Он думал, так будет всегда. И, когда два его брата, один за другим, снялись, он еще медлил, еще сидел в густой траве. Прогрохотало. Он поднялся и заметил, как Человек что-то поднял. Опять грохнуло, обожгло, посыпались перья. Обезумев от боли, он кинулся к болоту. Неуклюже тянул над землей, правил к горке, где бы мог укрыться в лапчатом ельнике, но боль прижала посреди болота.
Неподвижный глухарь сверху походил на пихтовый обломок, обросший лишайником.
Сохатый выбрался из бучила, отряхнулся и ушел к горе, подремать в тени.
Тело глухаря набрякло болью, в голове стучало, в глазах колебалось горячее марево. В горле пересохло, но он не пошевелился, лишь под вечер проглотил несколько клюквин. Из-за болота, с той стороны, откуда прилетел, учащались хлопки. Высоко над головой отмахал тетерев, должно быть, выжитый из родимого места выстрелами. Надоедливо трещала камышовка. Пара куликов-плавунчиков что-то искала в жиже, взмученной сохатым, и перекликалась резким писком.
Но вот навалились сумерки, и все стихло. Нависла немая ночь. Набежал ветер, все вокруг зашелестело, зашуршало, заколыхались тени в неверном лунном свете.
Глухарь нахохлился, стараясь удержать тепло. Оно уходило капля по капле. Ему вспомнились ночи там, на Светлой елани. И Старка. Как хорошо сиделось под ее крыльями!
Мир, теплый и ласковый, пришел к нему на изломе месяца Травы, пугающий и непонятный уходит в начале Желтых Лиственниц.
Под боком оказался сук. Матово светились на нем нити белого мха. Глухарь клюнул его раз, другой и стал жадно рвать сухие пряди, пока не очистил сук. Кровь перестала капать. Боль стушевалась, и его охватил сон.
Зимой
Несколько дней Кара-Суер пролежал в полузабытье. Ушедшее тепло возвращалось медленно. По утрам на траве хрустел иней, закрайки полой воды все чаще стягивались льдинками. Только к обеду болото оттаивало, покрывалось испариной.
К концу месяца Отлета Стай солнце уже редко пробивалось сквозь тучи и грело слабо. Мочили дожди. Ветры словно расстреливали чернолесье – сыпались мокрые листья. Они или оседали медленно, нехотя, или кружились, подхваченные порывом, иногда поднимались высоко, но все же падали на сырую землю и, прибитые дождями, чернели.
Изреженный лес птицы покидали с тягучими криками, словно им, как и листьям, не хотелось отрываться от вскормивших их мест.
Сохатый в болоте больше не появлялся. Он ушел в ельник, откуда по вечерам слышался стук рогов. Кустарник осыпался. Трава легла. На кочках выставилась клюква.
Надвигались холода, а рана заживала плохо.
Внезапно выпал снег. Глухарь удивился белому вокруг. И стал выбираться к горе, к чахлым сосенкам – единственному спасению, склевывая по пути лишайники, от которых унималась боль.
Первый снег пролежал день и растаял. Осень оказалась затяжной. Он научился ловко бегать, но летал плохо.
Зима выдалась знобкой. Стужа рвала корье – только треск стоял. Но страшнее были свирепые ветры, вздымающие снег так, что разобрать уже нельзя было, где небо, а где земля. Лютую пору глухарь коротал в снегу, иногда отсиживался в нем по нескольку дней. Но, когда голод оказывался сильнее, он покидал убежище, садился на сосну, одетую куржаком, клевал промерзлую и оттого ломкую хвою и, набив ею кое-как зоб, нырял в сумет. Пробирался там немного, охлапывал место, подбирал под крыло голову, сжимался в тугой ком и под вой вьюги впадал в забытье.
Всю зиму никто не потревожил, но на исходе ее случилось событие, которое его чуть не погубило. Однажды с заходом солнца он устроился на ночлег и запасся терпением на долгую ночь. Ближе к полуночи послышалось легкое шуршание снега. Там, наверху, кто-то был. Вначале подумалось: лиса ищет мышей, потом – горностай или куница промышляют. Шорох временами стихал, но возникал снова. Глухарь подобрался, готовый взорвать снег над собой, но тут наступила тишина. Иногда так бывало: налетит ветер, качнет деревья, собьет с них комья снега или обломает засохший сук, проволочет поверху. А то вырванное бурей дерево лежит словно на плече другого и под ветер такой скрип и стон раздается – мороз по коже.
И только успокоился, как навалилось на него сверху, примяло – рванулся он что было сил. Щелкнуло сзади, дернуло за крыло – вырвало перья. И несколько спустя раздалось:
– Ы-ы-ы-о-о-о-у-у-у…
Волк, истерзанный в схватке, истекая кровью, отполз в глубь леса и лег. Он был молод, силен и заносчив. Нет, он не жалел, что в метельный февральский вечер нарушил закон стаи – восстал против старшего. Но, когда пасть Матерого капканом сомкнулась на шее, надо было оставить его с волчицей. А он, отпущенный, поступил против правил и напал. Взбешенный вероломством, Матерый подмял его, и через минуту на месте схватки ветер гонял клочья шерсти. Под вой вьюги волк уполз, чтобы разгоряченная запахом крови стая не разорвала его.
Неделю он лежал в урмане. Потом встал. От слабости качало. Одна мышь – все, что удалось добыть за день. В последующие дни тоже только мыши, да и тех трудно было добыть. Еще через несколько дней бока его опали, ребра выступили, голова стала казаться непомерно большой. Жизнь в стае, тоже нередко голодная, представлялась ему теперь сплошным пиром.
Впереди оттепели – лучшее время охоты на лосей и косуль. Волк подумывал о возвращении в стаю, но прежде надо было подкормиться, набраться сил. Он обнюхивал следы, свежие заячьи лежки – голод грыз тощее брюхо и приводил в отчаяние. Даже во сне виделось мясо.
Он выходил на дорогу в надежде перехватить зайца, подбирающего сенную осыпь, или отставшую от воза собаку. От изъянного месяца снег тускло блестел, и все вокруг казалось мертвым. Лисьим хвостом протянулся вверху Млечный Путь.
Волк был грязно-белого цвета, сливался со снегом, и только скользящая тень выдавала безмолвный бег. Так, рыская, он оказался на островке в болоте, где нашел много следов, оставленных большой птицей. Некоторые хранили запах. Под соснами он обнюхал хвою, сброшенную при кормежке, и хвою переваренную, из чего заключил, что глухарь здесь был совсем недавно. Обостренное голодом чутье подсказывало, что птица близко, а врожденная повадка заставляла быть крайне осторожным. Поводя носом и часто останавливаясь, он подошел к месту, куда упал глухарь. Обнюхал вмятину в снегу и замер. Птица была под снегом. Он точно определил, где именно, уставился в ту точку и сжался для прыжка, не знающего осечки. С подветренной стороны ему удавалось обычно подойти к заячьей лежке настолько близко, что зверек не успевал сделать стремительного скачка, каким отличаются все зайцы в минуту крайней опасности.
Голод и болезнь сделали волка легче, подвижнее. Он и теперь мог бежать десятки километров. Но так продолжаться не могло. И он прыгнул, чтобы вонзить клыки в птицу.
Снег взорвался, обдал брызгами, осыпал волчью морду, залепил глаза. Зубы щелкнули, и в пасти волка осталось несколько перьев. Он прыгнул вслед, понимая тщету затеи.
Вернулся, обнюхал лунку в снегу, еще державшую тепло и острый до головокружения запах перьев. Сел, поднял морду и завыл тем воем, от которого все живое цепенело в лесу.
Спустя два года
Конец второй зимы выдался ведренным. Воздух отмяк. Хвоя сделалась темной. У комлей появились затайки. На дорогах отпотели сенные отруски.
С приближением весны Кара-Суер почувствовал беспокойство и в один из дней ушел с острова в сторону Светлой елани. Там встретил еще несколько глухарей. Два были его братьями, но он совсем уже не помнил их. Птицы, должно быть, уже не первый раз собирались на горе. Они благосклонно приняли пришельца. Только Старый глухарь-токовик глядел на него дольше других, потом отвернулся: пусть сидит себе. Больше птиц – даже лучше на случай опасности: какая-нибудь да заметит ее.
Во все стороны, куда ни погляди, горы. Матовый, голубой, синий – чем ближе, тем гуще, тяжелее цвет гор. Покать напротив совсем темна. Вкрапления сиреневого березняка, золотисто-зеленые сосновые полосы прореживают темную глубину елового леса.
Отсюда, с горы, виделось все, что делалось внизу. На противоположном склоне отдыхало небольшое стадо сохатых, и в нем выделялся черный бык. Лисья строчка огибала беспорядочный заячий след. С вершины соседней ели порошила снежная сыпь – белка искала шишки. Стая суетливых чечеток обивала семена с березы. Белые синички с длинными хвостиками перелетали кивками, словно несли их невидимые волны.
Вдруг на соседней горе сверкнуло – там Человек поднял бинокль, и от стекол отскочил солнечный зайчик. Уже не первый раз Человек пытался подобраться к глухарям во время кормежки. Старый снялся, разлетелись и остальные.
В месяц Голубых Теней Кара-Суер стал каждый день прилетать на гору. Тело его наливалось беспокойной силой и тяжелело. Теперь он часто опускался на землю и бродил между стволами. По ночам плохо спал – тяготила тьма, а с рассветом часто перелетал с места на место. Так однажды он попал на токовище, площадку, поросшую сосной и лиственницей, с одной стороны ограниченную скалистым уступом, за которым начиналась непроходимая падь, с другой – непролазный кустарник, с третьей – топь. И только с вершины горы был узкий доступ к токовищу, заросшему брусничником, загроможденному завалами и валежником.
Перед месяцем Пробуждения солнце распустило наст, снег на лобных местах изник. Глухарь однажды не улетел с токовища, а после захода солнца устроился на кряжистой сосне. Прилетели другие, и каждый занял свое место. Так было каждую весну, много веков. Старились и умирали деревья, вырастали новые и тоже старились. Появлялись незнакомые звери и птицы. Бесследно исчезали тьмы насекомых. Неизменными лишь оставались горы да токовище, куда собирались древние, как мамонты, птицы. Как они, тяжелые и неуклюжие, прошли через тысячелетия, когда и от более расторопных не осталось помину?
Вечер как из тины волочился. Тьма густела медленно. Лес гомонил. Синицы, почти единственные зимой в лесу, потерялись в многоголосье. Кричали пролетные стаи. Взмывали в воздух и, распустив крылышки, садились на вершинки лесные коньки. Керкали дерябы, юрчили вьюрки, не умолкали певчие дрозды – все сливалось в неугомонный звон.
Но мало-помалу деревья потеряли объемность и растворились во тьме. Успокоились птицы. Только тенькала еще пеночка да чакал кем-то встревоженный рябинник. Промелькнуло белое пятно – линяющий заяц пересек поляну. Напахивало дымом – вдали горел костер.
Ночь весной наступает несмело, постепенно приглушая звуки, но полностью ей этого не удается. Только в полночь лес чуть задремывает.
На исходе короткой ночи Кара-Суер выпростал из-под крыла голову и прислушался. Вверху просвистела стая крякв. Изредка перекликаясь, на большой высоте медленно шел реденький косячок лебедей. Потом будто кто песку кинул в воду – над самыми вершинами пронеслась станичка какой-то мелкоты.
Прокричал клинтух свое: «Ху-бу, ху-бу…»
На несколько мгновений установилась полная тишина. И вдруг – щелкнуло, будто кто-то стукнул грецкими орехами друг о дружку. Этот глухой стук был так непохож на все лесные звуки, что Кара-Суер насторожился в сильном волнении. А когда щелканье повторилось, ноги глухаря вдруг напряглись, хвост раскинулся веером, шея вытянулась, перья на ней вздыбились, борода встопорщилась, пурпурные брови, кажется, еще больше набухли. Он щелкнул в ответ. Прислушался и снова щелкнул.
На земле у валежины медленно ходил и еще медленнее поворачивался Старый глухарь-токовик, исторгая дикую, как заклинание шамана, песнь. Подлетевшая копалуха казалась очень маленькой по сравнению с ним. Он словно бы и не заметил ее, продолжая двигаться с той же размеренностью, и только голова почти запрокинулась, да звуки полились без перемолчек. Как только он отошел метров на пять, копалуха подбежала к нему, но он опять ее не заметил.
Справа в хвойной тьме сидел первогодок. Брови его еще не были настолько красными, чтобы петь, и он прилетел на ток просто так, движимый неясным предчувствием.
Медленно опуская шею, Кара-Суер повернулся, опустил крылья и пошел по суку. Остановился, поднял голову и щелкнул при этом, как бы прислушиваясь к собственному голосу. Потом с ним что-то произошло.
Он видел Человека, крадущегося со стороны, где дымил костер. Но и Человек, и все вокруг выключилось из сознания. Он не слышал ни лесного гомона, ни хруста веток.
Вышло солнце и облило покать розовым светом, легли голубые тени. Посветлел ельник вдали. Березняк налился веселым красноватым цветом, нежно зазеленели стволы осин. Издалека доносилось бормотание тетерева.
Кара-Суер видел Человека и не мог улететь, как бывает нельзя прервать сновидения. Так продолжалось недолго, он приходил в себя и прислушивался. Но периоды просветления сокращались, и он снова становился беззащитным.
Вот Человек остановился, поднял ружье и стал изноравливаться.
После выстрела Кара-Суер посунулся вперед, задержался на мгновение, как бы стараясь сохранить равновесие и допеть песню, однако не удержался, песни не допел и стал падать. На земле, волоча крыло, он добежал до сосны, разбитой грозой прошлым летом, густая крона которой валялась теперь, всунулся в красные усыхающие ветви и затих.
Выстрел подшумел Старого, и он, с треском проламываясь через заросли, распугал ток.
Кара-Суер видел, как Человек прислушался, вероятно, надеясь уловить хлопки смертельно раненной птицы. Потом бросился в одну сторону, в другую – нет. Пробежал до конца площадки, за которой начиналась падь, прилежно всматриваясь в островки снега, – следов не было. Стал ходить кругами, сужая кольцо. Когда примостился на краю валежины, солнце поднялось над лесом.
А глухарь сидел под вершиной, видел, как Человек закурил, бросил до половины сгоревшую спичку, устало поднялся и ушел прочь.
На земле
Он забрался в крепь и не выходил, пока рана не зажила. А она оказалась тяжелой: кость предплечья перебита, обломки ее прокололись изнутри крыла. Постепенно кожа вокруг них уплотнилась, затвердела, вместо недостающей части кости появился крепкий хрящ. Крыло срослось, но перестало сгибаться в суставе.
Навсегда придавленный к земле глухарь почувствовал ближе ее, отходящую от зимнего озноба, отмякшую, пронизанную голубым прострелом и золотистыми звездочками гусиного лука, затем медуницей и барашками, а позже, когда прогрелась, сочевичником и сон-травой.
Принужденный всю зиму клевать сосновые иголки, теперь с жадностью поедал зелень. Заглушив голод, большую часть дня он просиживал неподвижно, стараясь не тревожить понапрасну больное крыло. Смотрел в синее небо, на то, как по нему диковинными белыми птицами тянутся облака, на узорчатые шапки лиственниц, в которых тихо поет свои песни ветер, где он так любил дневать раньше.
Лиственниц здесь было мало, и стояли они далеко друг от друга, были кряжисты и не похожи на тех, что растут в густом лесу и тянутся изо всех сил к свету, а потому бывают тонки и ровны. Эти же кривы вверху и плоски, словно встретили на своем пути невидимый потолок и стали раздаваться вширь. Изогнутые в сторону пади вершины показывали, что туда многие годы дули ветры и склонили, наконец, головы могучих и непокорных деревьев.
Теплая и ласковая земля в мягком покрове, войдя в пору лета, запестрела цветами, загудела насекомой живностью, стала горячей – и затяжелели травы под бременем зреющих семян.
В месяц Линьки иногда подходил Токовик. Старик тоже терял перо и предпочитал отсиживаться, надеясь больше на ноги в случае опасности, чем на изреженные крылья. При встречах птицы останавливались, молча глядели друг на друга и так же тихо расходились, пригнув шеи, невидимые со стороны в густой траве.
Лето выдалось грозовым, часто шли дожди. Раньше он, вымокнув в росяной траве или от ливня, поднимался на вершину лиственницы или сосны и там просыхал. Теперь после дождя выбирался на край каменной гряды, за которой начиналась падь, и грелся на теплой плите. Здесь почти всегда дул ветерок. Высокие лиственницы чуть слышно шумели, навевая дрему, и он нежился, смежив веки. Под выступом той же плиты пережидал, если случалось, затяжное ненастье.









