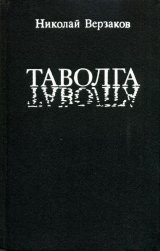
Текст книги "Таволга"
Автор книги: Николай Верзаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 18 страниц)
„КОРОБОЧКА“
«Скорость, высота, курс…». В щель палатки синеет рассвет. «Скорость, высота, обороты…» – с этими словами я открыл глаза, с ними вчера как в омут провалился. Подъем в половине четвертого, завтрак – и на летное поле.
Мы ходим по «коробочке», то есть отрабатываем взлет, развороты и, главным образом, посадку. Несколько счастливцев уже летают самостоятельно. Может, и мне в этот раз повезет. Пайвин запланировал меня первым, когда воздух еще плотен, и самолет ведет себя спокойно. Если хорошо слетаю два круга, отдаст на проверку командиру звена Балашову, а тот – командиру отряда.
Пристегнулся, жду. Пайвин гоняет двигатель. Слева у плоскости Коля Белов, он будет провожать и встречать меня. «Готов?» – Пайвин оборачивается – в очках блики, улыбка обнажает длинные редкие зубы.
– Выруливай.
В шлеме слева вделано «ухо» с изогнутой трубкой, к ней присоединяется шланг. Он оканчивается в инструкторской кабине раструбом, в него-то и говорит Пайвин. Это о нем поется в известной курсантской песенке:
…Летит По-2, расчалками звеня.
Моторчик надрывается,
Инструктор в шланг ругается…
Перед стартом осматриваю кабину, приборную доску и думаю, как бы не сделать ошибок. На линии исполнительного старта оглядываю полосу – свободна ли, потом поднимаю руку. Стартер взмахивает флажком. Вывожу газ.
Из-за горизонта только что показалось солнце, и лучи, словно разбитые винтом в мельчайшие брызги, сливаются в радужный круг.
Самолет набирает скорость – только бы не упустить направление. Кажется, ничего… Пора и хвост поднимать. Капот опускается… стоп – придержать надо, не дать оторваться на малой скорости. Отошел, теперь выдержать. Край глаза ловит: бегущая полоса из черной становится зеленой – скоро край поля, пора переводить в набор высоты. Проскочила дорога от станции к лагерю. А вот и крайние дома, и водонапорная башня – над ней должно быть пятьдесят метров – начало первого разворота. А в «ухо»:
– Высота.
Так и есть, перебрал.
– Скорость…
Скорость падает. Первый разворот давно пора, башня под крылом пропала, но скорость… Чтобы наверстать, закладываю побольше крен.
– А направление?
Да, затянул со вторым разворотом.
– Ты куда пошел?
Конечно, озерцо должно быть слева, а оно оказалось справа. Как в той песенке:
…Утюжу я воздушный океан.
Но тут беда случилася —
Коробочка скривилася,
И вышел из коробки чемодан.
А мне не смешно. То и дело в «ухо»: «Высота, скорость, курс…»
– Брось управление, положи руки на борт. Погляди: солнышко-то! На озере дед Никита карасей в лодку кидает. В лесу птички славно поют. Прекрасно! Ты же ничего не видишь. А летчик все должен видеть. Все! Не будет видеть – не будет жить. Расслабься и не выжимай из ручки сок… Давай третий разворот.
После второго полета я пришел в квадрат с чувством досады и усталости. Солнце совсем немного поднялось, а мне казалось, что я успел постареть.
Самолеты ходят друг за другом, вертится карусель. Юра Выборнов взял в квадрате мешок с песком и ушел на старт, он вылетал самостоятельно, уже третий с «Ларисы Дмитриевны». Кеша в восторге.
Механики ревниво следят, в каком экипаже и сколько вылетело – дело престижа. Где больше, там и летчик, значит, не лыком шит, и механик не лаптями торгует. У нас вылетели Колпаков и Писарев. Вылегжанин тоже принес мешок, возможно, он станет третьим.
На первые два самостоятельных полета в чашку свободного сиденья клали груз, чтобы не нарушилась центровка самолета.
Солнце поднималось, нагревалась земля. Начинало подбалтывать – беда невелика, однако для учебы помеха. Курсанты вылезали из кабин потными, передавали парашюты, и самолеты снова уходили в воздух. И только инструкторы сидели бессменно, иногда по тридцати и более полетов в день. И когда покидали кабину, едва могли разогнуться.
Вечером мы – в «городке», где у каждого экипажа свое место – скамейки буквой «П», между ними – столик инструктора. На столике модель самолета, на земле – взлетно-посадочная полоса с посадочными знаками из щепочек.
– Рассказывай. – Пайвин подает мне модель.
Я «выруливаю» и «взлетаю», стараюсь припомнить хотя бы главные ошибки.
Багровое солнце перед закатом слепит. Толчется мошкара, обещая жаркий день. На лице Пайвина кривая усмешка. Может, ему пришло на ум, что ошибок у меня, что мошкары?
– Запиши четыре круга, пойдешь третьим. Опять шлак зубами…
Я прокручиваю «коробочку» по дороге в столовую, перед сном и даже во сне. «Скорость, высота, курс… положение капота относительно горизонта, величина крена…» Словно верующий, взявший себе за правило повторять десять тысяч раз в день слова молитвы, нанесенные на диск. Крутится диск, и слова зрительно оседают в памяти. «Скорость, высота, курс…» Чувствую, что начинаю изнемогать.
Я выбрал свои провозные полеты, и Пайвин возил теперь за счет Колпакова, которому хватило половины нормы. Правда, за мной еще были Дима Ткаченко, Коля Белов и Яша Груссман, но это не утешало. Четверо уже летали по кругу самостоятельно, а Колпаков подобрался к «зоне», то есть простому и сложному пилотажу. Я после полетов подходил к Пайвину получать замечания. Однажды он ничего не сказал, и я понял, что пора пришла задуматься о будущем. Слетал с командиром звена, добродушным и спокойным Балашовым. Он передал заместителю командира отряда майору Вилистеру, хотя майором он был во время войны, а теперь так звали по привычке. Он не выпустил. Участь мою мог решить командир отряда Редченков, которому, говорили, не хватило до Звезды Героя пяти боевых вылетов. Но его не было. У меня оказалось много свободного времени. От нечего делать стал летать за пассажира. Сравнивал и уверился, что мог управиться не хуже. Так отчего же не получалось при сдаче? В голове неотступно стучало: «Скорость, высота, курс…» – как будто сходил с ума. Наконец Редченков приехал. Ночь была жаркой, сон не шел, я вышел из палатки и сел на обрез дороги.
На западе поблескивало, глухо ворочалось – собиралась гроза. Вспомнился дом, Березовка, разорванная в клочья тьма, грохот в горах и полыхающая лиственница Я не любил степи, всегда тянуло в горы, но теперь даже домой не хотелось. На плечо легла рука – Пайвин сел рядом, закурил:
– Что собираешься делать?
– Не знаю.
– Зачем в аэроклуб пришел?
– Хотелось стать летчиком.
– Отчего же теперь не хочешь?
– Хочу.
– Мало хотеть, – затяжка осветила глубокие морщины вокруг рта. – Надо обозлиться. Да-да. Я с понятиями гуманитария был застигнут войной. Представь равнину бесконечную вереницу людей и гул штурмовиков. Пришлось лечь – «мессершмитты» прочесывали дорогу. Только встал, а они снова заходят. Лежу на горячей земле, затылком чувствую зудящий гул. Как бы ни протестовало все существо мое против насилия, а вот заставил же он меня лежать носом в землю. А я ничего не сделал дурного в жизни. Изучал историю, увлекался поэзией востока. Меня любила мама, я любил девушку. И вот меня держит в прицеле фашист, в очках похожий на паута. Я поклялся отомстить…
Гроза разразилась ливнем. Поле размякло. Выбоину на полосе залило водой. Мы бродили по озерцу, пробивали кольями ямки, чтобы быстрее просочилась вода – сушили полосу.
Бездарным всюду плохо, в авиации невыносимо. Тут ты весь на виду и ясно, чего стоишь не вообще, а именно в эту минуту. Колпаков в столовой кивает: подай хлеб, – хотя мог бы и сам дотянуться до тарелки. Подаю. Жует и смеется, а я уж ничего не слышу – обидно.
Полоса просохла на третий день. Пайвин дал два провозных и передал парашют командиру отряда.
Ничего не могу сказать об этих двух полетах, не оставили следа в памяти. Помню только после первого Пайвин заскочил на плоскость и также быстро спрыгнул. После второго он подошел к проверяющему уже на земле. Тот ответил что-то и ушел к столу руководителя полетов. А я не знал, расстегивать привязные ремни или нет. Вылегжанин и Писарев притащили мешок. Пайвин вытянул два пальца – два самостоятельных. Я как будто еще не совсем понимал, что произошло, и только после второго разворота над золотистым полем подсолнухов увидел бегущую тень самолета, и прорвало – один! Один в воздухе! Я орал, что есть мочи, благо никто не мог слышать, покачивал крыльями – посылал «привет колхозникам», вертел головой, как бы впервые увидел небо, ласковое и дразнящее.
Ах, какое это было утро! После посадки меня окружили, надавали дружеских затрещин. Я ошалел. И только когда Кеша поднялся с кошмы, вспомнил о «Казбеке».
Дарить механику хорошие папиросы в день вылета – обычай. Сколько дней носил в кармане заветную пачку на старт – и наконец-то! Лисицын церемонно разорвал ногтем соединительную наклейку и раскрыл. Кеша одну сунул в рот, другую – за ухо и продекламировал:
Так и курсанты, подобно винту,
Горькую участь изведали ту.
Вечно в движенье курсантский народ —
Крутится, вертится, рвется вперед!
Впоследствии у меня было еще несколько событий по силе подобных пережитому в то утро. Но если бы даже их не было, а только бы остались те несколько минут, то и тогда ради них я повторил бы все сначала.
ПАШКИНА ПЕТЛЯ
Вначале Павел Колесов ничем не выделялся среди нас. Потом заставил говорить о себе инструкторов, видавших виды. Он словно бы чутьем улавливал землю на посадке и быстро шел по программе. Его мягкие касания в створе посадочного «Т» вызывали почтение к нему и будили интерес. Говорили, будто по спору он надел башмаком – хвостовой опорой самолета – брошенную заранее в полосу приземления кепку. Походило на правду, в чем я убедился, будучи финишером. При мне он сделал три посадки одна в одну, не подняв неизбежной пыли.
Если я «отдирал козла» или подвешивал самолет на посадке, Пайвин спрашивал, вижу ли землю. Я отвечал: вижу. Как же можно ее не видеть? Земля, она и есть земля. Но однажды, действительно, увидел, и с тех пор садил уверенно, но с Колесовым в сравнение не шел.
С этим Колесовым произошел вот какой случай. Как-то Борис Вылегжанин шепнул:
– Пашка собирается сделать петлю.
– Как петлю?
– Так, петлю.
Колесов ходил в зону – отрабатывал фигуры, но петля в их число не входила. Почему-то именно она, «мертвая» петля, казалась верхом пилотажного искусства, хотя потом мы их крутили во множестве, не находя в том необычного. Своевольничать в воздухе категорически запрещалось. Пашкина подготовка велась в тайне. Я прошел мимо него в квадрате, он держал раскрытым на «петле» КУЛП (курс учебно-летной подготовки) и походил на человека не от мира сего.
– Ждет третью зону, – сказал Вылегжанин.
Наблюдать за самолетом в третьей зоне было трудно – против солнца слезились глаза, и «петля» вполне могла сойти за «боевой разворот» с последующим пикированием. Впрочем, за порядком фигур никто не следил – лишь бы самолет был виден.
Третья зона досталась Колесову на другой день. О его умысле знало больше людей, чем он предполагал, в тесном кругу трудно сохранить тайну.
Мы следили, как он вошел в зону, сделал вираж влево, вираж вправо, штопор влево – выход боевым разворотом, штопор вправо. Потом вошел в пикирование, чтобы разогнать скорость, и пропал в блеске солнца. Долго не могли обнаружить, смотрели не туда, он оказался много ниже – штопорил, то есть падал, как падают, вращаясь, осенние листья. Штопор изучают, как следствие возможной ошибки, и каждый с него начинает зону, ибо, если не уметь выводить, самолет будет падать до земли. В Пашкином штопоре было что-то не так. Давно пора было выводить, а он ввинчивался. Кольнуло альбомное: «Так, значит, крышка, так, значит, амба – любви моей последний час…»
– Где самолет? – спросил инструктор Веригин у наблюдающего.
Тот развел руками.
Квадрат охватила тревога…
Пашка неожиданно вошел в круг. После четвертого разворота оказался под углом к полосе, исправил поздно, промазал, приткнулся за передним ограничителем и чуть не выкатился в подсолнухи.
– Что случилось? – обеспокоился Веригин. – Ты потерял землю?
Пашка, словно не слышав вопроса, прошел в квадрат, выпил две кружки холодной воды и безвольно опустился на скамейку.
Как выяснилось впоследствии, он на петле стал терять скорость, чтобы вывести самолет в верхнюю точку, перебрал ручку на себя и сорвался в перевернутый штопор – случай редкий, если не редчайший, когда самолет вращается и падает вверх колесами, а пилот висит на ремнях вниз головой. Пашку спасло то, что он потерял управление, и самолет вышел из штопора сам, перешел в пикирование.
Вечером, на разборе полетов, Веригин не мог добиться от Колесова вразумительного рассказа о том, что произошло.
Утром мы пошли на летное поле, а Пашка на станцию, к утренней электричке.
ВОСПОМИНАНИЕ
Мы стоим за палатками первого отряда. Она ковыряет носком ботинка землю. В одной руке ее шлем с подшлемником, другой – держится за пояс комбинезона. Молчим.
Солнце село. Закат за летным полем остывает… Полосатый конус – указатель ветра – повис. Надо бы что-то говорить, а я забыл все слова и терзаюсь. Она выпинывает камешек.
Может, про медведя и ночные страхи в лесу рассказать? Ребята в палатке слушали и даже смеялись. Или про лося, который загнал меня на дерево? Молчание невыносимо, а ей непременно надо достать камешек. «Вот раз было», – начинаю и не слышу своего голоса. Она смотрит на меня и вдруг вспугнутым зайцем бежит прочь. Вижу под ногами белое и не вдруг понимаю – подшлемник, обронила. Он прохладен и пахнет ветром.
Надо бы бежать мимо планеров, самолетной стоянки, к палаткам второго отряда, догнать, остановить, рассмеяться непринужденно, как будто все идет так, как надо. Потом проводить ее на электричку или даже до дома. Что тут особенного? Учимся летать: я на самолете, она на планере – общие интересы.
Иду, как спутанный, смотрю, будто впервые, на планер-блин, хотя он стоит тут все лето. Я никогда не видел, чтобы этот урод летал. Говорят, главное его достоинство – может держаться на малой скорости, и на закритических углах не срывается в штопор, а только переваливается с боку на бок. Странный человек его выдумал. Не лучше ли тогда ходить по земле? Никогда не сорвешься в штопор. Иду медленно, да теперь уж и поздно спешить.
Проклюнулась луна за полем. Гудит электричка. Уехала. Планеристы летают два раза в неделю. Ждать до воскресенья.
В субботу наш первый отряд разъезжается по домам. Я остаюсь. Читаю про беспризорников затасканную книжку. Ее герои: Амелька, инженер Вошкин, Дунька Таракан несколько напоминают приятелей детства. Таким же был Чага, с которым вместе учились. В третьем классе он оставил школу – на третьем году войны. Мы иногда встречались, играли в чику, или ходили в кино на пробируху, то есть через слуховое окно (билетов достать было невозможно). По пути заходили на базар. Однажды Чага сказал: «Видишь тетку в цветастом платке?» – тетка под передник совала деньги. «Сейчас они будут наши. Жди тут», – и затерялся в толпе. Раза два мелькнула его голова у прилавка. Подошел он неожиданно с другой стороны с горстью мятых рублей.
Доро́гой грызли семечки. Вдруг Чага толкнул: «Сверни. Ни к чему, чтобы Бандуров тебя рядом видел». Навстречу шел участковый, сутуло горбясь, будто нес бревно на плече. Он поманил пальцем Чагу. Тот подошел на безопасное расстояние.
– У Алексеевской базы вагон просверлен – пшеницы много утекло. Твоих рук дело?
– Что вы, Тимофей Кузьмич, – благородно оскорбился Чага. – Пионер – всем ребятам пример, и бабушка говорит: брать чужое – грех великий.
Участковый погрозил пальцем и прошел мимо.
Вскоре Чага исчез. А после войны вернулся из детской колонии бледнолицый и звероватый. Встретились. Разговора не получилось. Детство кончилось.
Коптилка откидывает на полотно палатки мою лохматую тень. Читаю то место, когда Амелька по ошибке сбросил мать из тамбура под откос. Жуть. В голове стучат колеса. Гудит паровоз, проносясь мимо… Не паровоз – электричка. Выскакиваю из палатки. Так и есть, брезжит утро, затихает перестук вагонов. Хотел встретить ее на станции, спать не ложился. Ах, как все глупо.
Рассинелось быстро. На поле проехала машина с посадочными полотнищами. Порулил самолет-буксир. Его задача: поднять планер на высоту, отцепить и вернуться. Планеристы от столовой идут. И она там. Ее я сразу узнал. Ее нельзя не узнать. А она неужели меня не видит? Наверное, нет. Можно бы пойти на старт, да находиться там посторонним не принято.
На буксире пилот-инструктор Холстов. Ему лет тридцать пять, и он кажется безнадежно старым. А старые люди излишне осторожны. В то время, когда курсант обычно уже в кабине, он сидит на парашюте и курит, как бы пытаясь оттянуть время. Наш Пайвин всегда успевает первым, и вообще он самый лучший человек. Все мы от него без ума и все решили стать летчиками.
У меня впереди все ясно – буду истребителем: высота, скорость, маневр – огонь! Случится война, докажу, что не лыком шит. Кончатся боеприпасы, в запасе таран или лобовая атака на выдержку: кто кого. И если погибну – ничего. Разве может быть лучшим конец для летчика, чем умереть в воздухе? Настоящему летчику погибнуть на земле так же зазорно, как актеру на сцене забыть свою роль. Это говорит Пайвин, а он-то кое-что понимает в этих делах.
Словно легкий лист в водовороте, кружит планер. Он попал в восходящий поток, и его заносит все выше и выше.
В глазах ее рассеянная глубина. Душа ее еще не на земле, еще там, высоко, где теряет силу восходящий поток над пашней.
– Хорошо было? – спрашиваю.
Зачем этот вопрос, разве на него можно ответить.
– Пойдем на озеро, – предлагаю.
Ей все равно куда. Она переживает восторг полета.
Озерцо сбоку от четвертого разворота, и сверху похоже на стоптанный башмак. Теперь-то она узнает, что я умею не только молчать. Пока идешь, можно много кое-чего рассказать. Хоть ту же книжку про беспризорников, что ночью читал. Надо только выбрать начало, чтобы было интересно.
Вот и конец летного поля, вот и березовый островок. Из-под ног будто выстрелил – схлопал крыльями косач. Она вздрогнула, подалась назад, мы коснулись руками. Прикосновение приятно волнует.
Нас отсадили от девчонок в сорок третьем, очевидно, полагая привить больше стойкости и мужества, необходимых в войну.
Женщинам-учителям приходилось с нами нелегко. Кто-нибудь, добыв по пути в школу семечек на базаре или кочерыжку в огороде, устраивался у батареи или под партой, и достать его оттуда было непросто. Пелагея Михайловна, прозванная мальчишками Палашей, в таких случаях нервно вертела очки:
– Танцырев, сядь на место.
Костя и ухом не вел.
– Танцырев, ты разве оглох? Выйди из класса!
Костя ни гу-гу.
– Танцырев, я прекращаю занятия до тех пор, пока не выйдешь.
В наступившей тишине Костя звонко щелкает семечки. Пелагея Михайловна сосредоточенно пишет в журнале. Костя встает и, медленно волочась, выходит. Мало-помалу порядок водворяется. Приоткрывается дверь, просовывается рыжая Костина голова:
– Что, полегчало? – и скрывается.
День серый. Сечет дождь. Ветер качает тополя. Ветка хлещет в окно. Все утихают как бы в томительном предчувствии надвигающейся беды. Опять открывается дверь, и с грохотом влетает жестяная вентиляционная труба…
Я дежурный. После урока несу в учительскую карты. Пелагея Михайловна сидит за столом, уронив голову. Плечи вздрагивают. Рядом стакан с капустой и маленькая ложечка.
Не знаю, насколько преуспели реформаторы, но девочки для меня навсегда остались загадочными существами, как одиссеевские сирены или ночные зверьки лори в Британской Гвинее.
Опять язык одеревенел, хоть откуси да выплюнь. Что ей за дело до какого-то Амельки или Дуньки Таракана? Скоро озеро, а еще ничего не сказал. Состояние как перед прыжком с парашютом. Каждый раз надо переступить через что-то в себе, каждый раз захватывает дух, и к этому нельзя привыкнуть.
– Ты можешь проводить меня на электричку? – Она срывает цветок цикория и покусывает стебель.
– Конечно! Но до нее ведь еще не скоро.
– Два часа.
Целых два часа. Нет, она просто молодец.
– Провожу. Я люблю провожать людей на электрички. И сам ездить тоже очень люблю. Теперь ты тут, а через час совсем в другом месте – это здорово. Сегодня здесь, завтра там. И вообще на одном месте не стоит засиживаться. Буду летчиком, много кое-чего повидаю. Не стоит обрастать, только маленький чемоданчик. Взял – и до свидания.
– Я тоже люблю путешествовать. В прошлом году была у тети в Амдерме. Это на берегу Карского моря. Тогда там все время был день. Знаешь, как удят там рыбу? Цепляют на крючок красную тряпочку – и вот такие ловятся.
Озерцо заросло осокой, рогозом и вовсе не похоже на башмак. На берегу следы стада, и ни души вокруг. Рогоз выпустил бархатистые стрелки. Я подвертываю штаны и лезу в воду. Дно илистое. Срываю несколько стрелок и выбираюсь на берег в липкой тине.
– Шоколадное эскимо, – она смеется, принимая от меня рогоз.
Потом набираю веточек и развожу крохотный, чуть дымящий костер.
– Люблю, когда пахнет дымом, – говорит она, – напоминает палы, когда горит сухая трава.
– А мне вспоминается лес, речка и закопченный котелок над огнем.
У них леса мало, в основном, ветла да вяз, еще береза. Ну, это даже и не лес. Надо, чтобы сосна, ель, лиственница, а к ним можно березу, липу, рябину и прочий сор. Ну, и собака должна быть для леса.
Она тоже любит собак, у них есть эрдельтерьер. Что ж, тоже собака, хоть морда и валенком. С лайкой, конечно, ей никогда не сравниться. Но кому что. Она гуляет с ней вдоль озера. С берега слетают кулики, из камышей – утки. Ружья у нее нет, да оно и ни к чему ей. Хотя я знаю одну девчонку, которая бьет глухарей на току почище таежника.
Во мне что-то прорвало. Я говорю и говорю. Про лес, про зверей и горы. Может быть, это ей совсем и не интересно?
– Нет-нет, что ты! Очень интересно. Но пора, чтоб не опоздать.
Мы идем рядом, совсем близко друг к другу, иногда касаемся локтями, и как-то скоро подходим к палаткам. Она там переодевается в платье, которое ей очень идет. И выходит совсем иная.
Я несу до станции узел. Уже гудит, приближаясь, электричка. Но до станции совсем недалеко, и на перроне почти никого нет.
Говорю о глухарях, их жизни, повадках. Оказывается, я много о них знаю. Очень много. Придется досказать в другой раз.
Электричка останавливается. Лязгают сцепки вагонов. Кидаю узел в тамбур и обещаю встретить ее на этом месте в среду.
– Меня не будет, – говорит она, – я уезжаю. Извини, что сразу не сказала.
– Куда?
– Поступать в школу гражданского флота.
– Как? – я ничего не понимаю.
Электричка свистит и трогается. Она вдруг неловко суется носом в мою щеку и вскакивает в тамбур. Я вижу, как крутятся колеса все быстрей и быстрей, как начинают мелькать перед глазами вагоны.
Когда перенимаешь пойманную птичку из западенки, ладонь чувствует жар от комочка и частый-частый стук. Тоже теперь мое сердце – бьется, будто пойманное рукой.
Мелькают вагоны, вот и последний миновал. И я никак не могу взять в толк, что это надолго, может быть, навсегда.
Среди старых вещей мне иногда попадается белый подшлемник. Я развертываю и чувствую запах летного поля и ветра.











