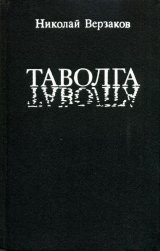
Текст книги "Таволга"
Автор книги: Николай Верзаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 18 страниц)
КОГДА ЦВЕЛ ШИПОВНИК
Тихая белая ночь мягко охватывала море, песчаный берег, ветхий домик вдали с темным квадратом оконца, камни и двух человек у валуна, сидящих плечом к плечу. Он говорил. Она, склонив голову к нему, осторожно, словно бабочку, держала в ладонях цветок шиповника – единственного цветущего растения здесь, среди холодных камней.
Он, заочник географического факультета, рассказывал об этнических особенностях края, о верованиях и сказаниях:
– Раньше здесь считали, что ветер вызывает женщина, когда танцует. Чем дольше и стремительнее танец, тем крепче ветер. А в дыру, в которую он дует, улетают осенью птицы. А птицы, как известно, это души бывших людей. Когда-нибудь наши души превратятся в птиц, и их унесет ветер.
Его слова казались полными великого значения. Она поднесла к его лицу цветок:
– Какой ты у меня умный.
Он вдохнул аромат, закрыл глаза и прочел: «Ищу я в этом мире сочетанья прекрасного и тайного, как сон…»
Неверный полусвет ночи подчеркивал смуглость его скуластого лица, смягчал черноту жестких волос, темноту горящих глаз.
Ему надо было вставать и ехать на материк за почтой, а заодно привезти на бригаду деньги, но он медлил.
– Тебе пора, Алеша. Я буду ждать, слышишь?
Из домика, окруженного с трех сторон развешанной на шестах сетью, вышел старик в потертой шапке, отлинявшем плаще и облепленных чешуей сапогах. Приземистый, он казался еще крепким для шестидесяти с лишним лет. Из-под ладони, похожей на клешню краба, сощурился на море, ничего там не увидел и крикнул:
– Эй, Алька, не видать?
– Нет, – ответила девчонка, кружась на песке.
Он подошел:
– А ты лучше погляди.
– Чего ждешь, Влас?
– Почту.
– Тебе же никто не пишет.
– Сущую правду говоришь, писать мне некому, – как сквозь бурелом продралась улыбка, обостряя очертания лица. – Алексей-то должен деньги привезть.
– Хоть бы шапку купил. А сапоги! Подобрал, что ли?
– Зряшная ты девка, Алька. За каким лешим прилетела сюда?
Алька смеется:
– Белый свет повидать.
– Белый свет… Пустой вы народ, оттого и носит вас без толку. Мечетесь, а зачем, не знаете.
– А ты знаешь? – Алька украдкой поглядывала в сторону валуна, за которым зеленела полоса шиповника, и думала о сокровенном.
– Я деньги зарабатываю.
– На что их тебе, когда истратить не можешь?
– То есть, как на что? – Старик удивился, потом добавил мечтательно: – Скоро люди долго будут жить, много больше ста лет. Дело-то, говорят ученые люди, за малым стало.
– Вот и отдал бы для науки.
Влас сердито повернулся и ушел.
Серое море сливается на горизонте с блеклым небом. Волны оставляют на берегу морскую траву, мелкий сор, студенистых медуз. Поджарые кулички с жалобным писком взлетают от набегающей волны и садятся тут же, лишь она скатится. Надрывно кричат чайки, падают и уходят, расправляясь с добычей на лету. Пахнет гниющими водорослями.
Ветер раздувает полы телогрейки, кидает в лицо брызги.
«А я не уйду!» – Алька пляшет на мокром песке, воображая, что это она вызывает ветер.
За полосой песка галька, за ней валуны, за ними – шиповник цветет пунцово, и кажется случайным этот горячий цвет среди серого однообразия.
Алька вспоминает ночь, улыбается своим потаенным мыслям. Щеки пылают. Зыбко и чуть-чуть жутко от счастья.
Ветер крепнет, круче заворачивает волну. Мечутся птицы, и, кажется, они улетают в дыру, из которой вырывается ветер.
«Воротись, девичье ли дело – мужскую работу робить? Не в великих чинах ты там, верно, опять в грузчиках? Воротись, Алька», – зовет мать.
Алька напрягает слух, но, кроме шума волн, ничего не слышит. Смотрит в мутную даль – лодки нет. В шуме ветра возникает тянущий звук, и, скорее, угадывается, чем слышится: «Про-о-ща-а-ался-а со мной ми-и-илый…» Это идет бригадир Дарья, значит, рыбы нет, можно не спешить.
В стеганых шароварах и ватнике, в платке, повязанном низко на лоб, она походит более на обветренного мужика с лесосплава. Ветер треплет седые волосы Дарьи. В глазах тень тоски. Жесткие губы расслабляются.
– Встречались мы тут, – не сразу говорит Дарья. – Одна весна всего-то и выпала мне. Всего одна. Старею, а все хожу сюда. По ночам тут так пахнет шиповником, что сама не своей делаешься, будто затмение находит. В тот год хорошо рыба шла. Он в шторм попал, вон за тем мысом перевернуло…
Подошел Влас:
– Балует море-то!
Рваный нижний край туч волочется едва ли не над самой водой. Сечет мелкий дождь.
– Переждал бы Алеша там, – размышляет Дарья, – неровен час.
– А я люблю ветер, – сообщает Алька.
– Обломает вас тут, – щерится Влас.
Но вот в серой мешанине волн, дождя и туч показалась лодка.
– Приготовь на всякий случай карбас, – сказала Дарья Власу.
– Давно бы и помину не было от Власа Фомича, если бы совал башку-то куда ни попадя.
Алька ахнула:
– Перевернуло! – И закричала: – Пере-вер-ну-ло!
– Гони, Влас! – крикнула Дарья.
– В уме ты?
– Э-э, чтоб тебя… – Дарья кинулась к заливчику, вскочила в карбас, рванула ремень пускателя. Карбас вырвался из заливчика и врезался в волну.
– Потопит, – Влас качал головой, – накидает воды и потопит.
– Молчи! – обозлилась Алька.
– Глупые вы все. Ему, морю-то, что? Ему, морю, все едино.
Нескончаемо долго тянулись минуты, но вот карбас стал приближаться к берегу, и заметно стало, как за ним тащится спасательный круг.
– Рысковая баба, – топтался старик на мокром песке.
Через четверть часа в домишке Власа топилась железная печка. Он суетился:
– Вскипит чаек, да… Пить будем… обсушимся… – И дрожащими руками перебирал мокрую одежду Алексея.
– Ты что ищешь? – спросила Алька.
– Я-то?
– Да.
– Посушить надо…
– Не мешай ему, – губы Дарьи дрогнули, – деньги он ищет.
– Что ты, Дарья, матушка, бог с тобой, что ты?
– Он ведь думает: Алеша успел сунуть деньги в подкладку.
– Это ты зря, Дарья, вовсе зря.
О старике забыли, вспоминая минуты пережитой опасности.
– Страшно было? – допытывалась Алька.
– Страшно, – сознался Алексей. – И отчего-то представлялась пляшущая женщина с цветком шиповника.
Алька приникла носом к холодному стеклу. Дарья вздохнула.
Дождь кончился ночью. К утру море успокоилось. Жизнь на острове пошла своим чередом. Влас впервые не вышел на работу. Он ходил по берегу, всматривался в песок, разгребал нанесенный сор. Порой останавливался и смотрел в море, словно пытался выведать, куда оно дело утопленные деньги.
ОТЛОМОК
Ай вырывается из гор, разметывается плесами. Из песчаных кос торчат створки раковин моллюсков, расклеванных куликами-сороками, да древесные обломки, нанесенные половодьем и высушенные солнцем.
Вдоль берега тянется арема, то есть полоса густого кустарника из чернотала, боярышника, черемухи, калины да смородины, перевитых хмелем, откуда весенними ночами раздаются неумолчные соловьиные свисты…
За аремой – заливные луга со старицами. Над ними кружат вертоголовые чайки. На лугах разбрелись коровы и овцы. Иногда на их спины садятся скворцы и сидят, находя в этом для себя какую-то корысть.
Припав к конской гриве, что есть духу летит Матюшка Рухтин – нагой, с прилипшими к телу водорослями – завернуть от кустов овец, чтобы не нарвались на волка.
Его друг Алешка Скрипов, тоже голый, на берегу взмученного затона из мокрого бредня выбирает полосатых щук, красноперых окуней да отливающих золотистой зеленью липких линей.
За лугами вдали соломенные крыши, огороды, обнесенные плетнями, заросшие коноплей и снытью так, что их и не видно, да деревянные шеи колодезных журавлей, устремленных в небо, где коршун, будто соринка в родниковой воде, лишь подчеркивает прозрачность воздуха.
Голубое небо, голубая река, голубые старицы да мокрые луга в искорках – часто виделись Матвею по ночам, когда страдал от бессонницы. Вспоминались и другие картины, но эта чаще. Он любил ее, как свидетельство далекого чистого детства, и вызывал иногда, чтобы утишить душевную боль.
Ему шел девятый десяток. Внешне он напоминал чебака, которого повесили вялить да забыли снять, и он пересох.
Жил он один. Жил, как казалось ему временами, бесконечно долго – пора бы уж костям и на покой; иногда же – будто годы пролетели незаметно, жизнь прокралась мимо. Тогда он перебирал в памяти события, как перебирают старые вещи, пытаясь отложить то, что имело ценность.
Часто его донимали воспоминания, которые он не любил, гнал прочь от себя, ворочался, кряхтел, чтобы отделаться от них, поднимался, сидел, сунув ноги в крысики, – меховые башмаки, стоптанные и облезлые. Тогда еще сильнее ломило поясницу, ныло в суставах, сдавливало в груди, и ночь казалась нескончаемой.
В одну из таких ночей, когда за окном падал снег, таял, и капли, срываясь с крыши, разбивались об асфальт, ему представилось, что это в нем прохудилось что-то, жизнь вытекает по каплям, и что старинные часы отбивают отмеренный ему срок. Он обмяк и перестал гнать воспоминания.
Его отец Михайло Рухтин перед германской купил лес за Аем. Купил дешево и весьма довольный таким обстоятельством посадил в кошевку жену Агафью и его, Матюшку, тогда подростка, и, весело свистнув, вытянул Каурого плетью: «Н-но, варнак!»
День был теплый и тихий. Каурый легко нес кошеву, наводя переполох на кур, гусей и прочую деревенскую живность. Сдвинув на затылок картуз с особым шиком – знай наших, – пролетел мимо дома Пашковых.
Пашковы – крепкая семья, девки одна в одну – матерые, ладные. Хоть Аннушку возьми – плющатка, недозрелый стручок еще, а уж и теперь видно в ней будущую красавицу. «Ах, па́ра будет Матюшке!» – Михайло усмехнулся.
Матюшка ни о чем таком не думал. Ему казалось, Каурый бежит не в полную силу, просил:
– Тятя, дай вожжи.
– Твое впереди, успеешь. Н-но, шайтан!
Матвей рано научился ездить верхом. В тринадцать лет обращался с лошадьми не хуже заправского мужика, и в езде верхом равных ему среди сверстников не было.
На один дух Каурый вынес в гору, там Михайло его осадил и соскочил на землю.
Внизу изгибалась река. За нею тянулись луга с крикливыми чибисами, потом белесая полоса овса, через которую пробиралась дорога, а дальше – сосновый лес, Касьянов бор. Михайло повел кнутовищем:
– Это, Агафья Федоровна, все теперь наше. Тут лесу не только нам и детям, а внукам и правнукам хватит.
Детям, внукам, правнукам…
Сжались костлявые кулаки, врезались ногти в иссохшую ладонь.
Взяли отца на германскую – и как в воду канул. Сестру Настю выдали в семью, где сарафан переходил от бабки к внучке и оставался новым. Пошла Настя белье полоскать в худых опорках, промокла на осеннем дожде, просвистело холодным ее ветром – застудилась и умерла. Старший брат Никита по ученой части наладился в губернский город, да больше его и не видели, должно, пропал.
Остался Матвей один у Агафьи. Дом, окруженный конюшней, хлевом, завознями, амбарами, погребами, поле, лес за Аем, – все теперь его.
Воскресными вечерами парни с девками с песнями по деревне ходили. Аннушка Пашкова заводила что-нибудь вроде:
Рожь-то выше огороду,
Как я буду ее жать.
Мил задашливой породы,
Как я буду уважать.
Алешка Скрипов подхватывал:
Трудно, трудно разжинаться
На широкой полосе.
Трудно, трудно расставаться
С милкой, коя по душе.
И Матвей драл горло. Агафья ворчала, но для порядка – ничего не поделаешь, время пришло.
Однажды возле Петрова дня, когда воздух будто обдавал печным жаром, Матвей возвращался с поля. В ареме аукались бабы – ломали калину. Он направил Каурого по тропе через заросли и выехал к старице. В ней только что купались девки – не сошлись еще в ряске разводы. Спугнутые треском, они едва успели вылезть и теперь хватали, что попадало под руку. Аннушка прикрылась сарафаном, глянула исподлобья:
– Чего уставился, пучеглазый? – отступила за куст, накинула сарафан, тряхнула мокрой косой и пошла, не оглядываясь.
Мотнул головой Матвей, как молодой пороз, ошпарил Каурого – тот чертом полетел по лугам.
И не пошла работа на ум Матвею – совсем сдурел. Так вертела Агафья и этак прикидывала, хоть и горячие дни, каждый час дорог, а пришлось посылать сватов к Пашковым.
Сваты от ворот получили: невеста не выросла. Не чаяла такого сраму Агафья, вовек не избыть. Невеста не выросла! С Алешкой Скриповым песни хайлать – самое ей время.
И Пашковым не лучше. От добра добра не ищут, да поди ты, сладь, когда взъерепенилась девка. Отходил вожжами Егор Пашков младшую так, что сидеть не могла, полкосы выдрал, пришибить и растереть мокрое место сулил, метал громы и молнии – молчит. И хоть забей – не пикнет. Опустились руки. Дрогнуло сердце – свое дитя.
Отлежалась Аннушка и опять за свое:
Не тобой дорожка мята,
Не тебе по ней ходить…
Ах, чтоб ей!
Матвей с Алешкой Скриповым друзьями считались. Вместе старицы недоткой процеживали, коней в ночное гоняли, сорочьи гнезда зорили, по чужим огородам лазили – один без другого никуда. Узкой стала деревенская улица – двоим не разойтись.
Тук-тук – капли с крыши. Так-так – часы отсекают секунды. Хоть бы утро скорее. Утром шеф придет.
Что улица – весь белый свет сузился, не пройти и не проехать. После переворота Алешка комиссарил. Мотался по волости, сколачивал отряды. Красные гоняли белых, белые – красных. Деревня переходила из рук в руки. На задах у Пашковых настигла пуля Алешку – выпал из седла комиссар. Подлетел Матвей – нет его. Но не даром вместе по огородам лазили – нашел в крапиве, в потайном лазу. Рубаха в крови, в глазах неостывший азарт боя. Перегнулся Матвей, рубанул с оттяжкой: «Вот тебе…»
Увидел пономарь с колокольни: свои своих бьют, подумал, видно, что пришел конец света, зазвонил заполошно. Медный гул полетел вслед белым за Ай, к Касьянову бору и дальше, в самую синюю даль.
Шеф пришел в восемь. Шмыгнул носом:
– Матвей Михайлович, в магазин не надо? А на почту? Тогда пойду. Молоко занесу после.
Шефом был Митя Пронин – лохматое существо в красном галстуке концами вразлет. Пришел впервые, сказал, что его прикрепили и что он должен заботиться о ветеране, потому что без ветеранов не бывает счастливого детства. Матвей ответил, что никакой помощи ему не требуется и что молодой человек напрасно затрудняет себя. Шеф будто не слышал и пришел на другой день. Матвей сказал ему то же самое. Шеф пришел на третий. Матвей махнул рукой – вольному воля.
Не надо ни на почту, ни в аптеку. Ничего не надо и ничего нет во всем мире. Только кони, поднимая пыль, натекают в бешеной атаке и теснят. Бьется посеченное пулями знамя. Белые разбиты, рассеяны…
Есть в горах, в глухом краю речка Колга – гиблое место. Каменные осыпи да болота кругом – ни пройти, ни проехать. Стоит там дом. А пройти к тому дому летом и думать не смей, только на санях по заморозку лови время, не то метель передует дорогу суметами – лешему не пролезть.
Когда-то поставили тут зимовье. Легкие на ногу серокопы проникали в недоступные места, делали затесы на соснах, похожие на оперенные стрелы, – собирали живицу, сливали в кадки возле зимовья и увозили по первопутку. Была к зимовью и деревянная стлань, но разрушилась – не успевали чинить. Говорят, жил на зимовье звероватый дегтярь Игоня, да зацепил его рогом сохатый в шальную пору. После него место пустовало, пока судьба не кинула сюда Матвея.
Разбитый белый отряд, как кучу высохших листьев, долго кружило, вертело и кидало из стороны в сторону, пока мало-помалу не рассеяло и каждый не нашел себе успокоение. Матвей забрался в глушь, в безлюдье, знал – не простят ему смерти Алешки-комиссара.
Огляделся на новом месте – жить можно: лес не меряный, птица и зверь не пуганы, рыбка в реке есть, клюква в болоте, грибы.
Ныла душа – все прахом пошло. Однако ж, чем тут не лес?
Дом срубил новый, конюшню, сарай поставил, хлев, огород обнес частоколом. Рубил на дрова звонкую сосну, складывал в прямые поленницы, в кучи клал на манер стогов. Поглядит на вершину, придерживая шапку, плюнет в ладони, крякнет и давай махать топором, пока не запарится. Надо ли банный веник – сейчас березу под корень, мочала ли на вехотку – липу наземь. Печь сложил под саженные поленья, чтоб больше сжечь.
Не давал себе передыху – вставал рано, ложился поздно, чтоб не оставалось простой поры. Это летом, а зимой ночь – бока пролежишь. Петух хоть зайдись от крика, за окном все темно.
В ненастные ночи прислушивался к завываниям в трубе, стону леса, и чудился звон. Он словно прорывался из тишины в стылые, мертвые неподвижностью часы. Тогда подкрадывалась тоска, наваливалась черной немочью, хватала по-рысьи за сердце. Бросал все и шел ловить рыбу или скрадывал глухарей с лиственниц, бил косачей на клюквенном болоте, когда сваливались в стаи.
Были женщины, как без них. Но редкая держалась больше году – не сносили тяжелой жизни, а более одиночества. Он не удерживал, не прикипела душа ни к одной – не забывалась Аннушка.
Иногда ни за что ни про что срывал зло на живущей с ним бабе, словно та виновата была, что где-то остался у него лес, заливные луга, плетни из чернотала, запах конопли и подсолнухов, парное тепло хлева, рвущие душу переборы гармони в черной, как сажа, ночи.
Просыпался от стонов, пялил глаза в потолок. Блазнилась мокрая коса на груди, капли на ресницах и взгляд: «Чего уставился…» Скрипел зубами. Ах, батюшки, что за казнь такая ему? Говорят, работа и время лечат. Может, и так, но ему не помогало.
Первые годы опасался, вдруг обнаружат: «А, вот ты где! Иди-ка сюда, братец, мы тебя…» Потом пораскинул умом: кому искать? Леспромхозовские – народ молчаливый, нелюбопытный. Он же раз в год приедет в поселок, наберет муки, соли, мыла, керосину – и до следующего зазимка.
И войну просидел, словно забыли о нем. Мужиков в поселке не осталось, бабы рвали жилы на лесоповале.
За окном известковая муть. Часы пробили девять. Только часы и остались от старой жизни, да и те случайно. После войны довелось побывать на городском базаре, и там в куче хлама увидел их в таком состоянии, что старик, записной базарный сквалыга, не решился на доброе о них слово. Матвей купил и отдал в починку.
Когда-то они были единственными не только в деревне, но и в волости. Дед заводил их сам, никому не доверял ключ. Когда умер, ключ перешел к отцу, а когда и того не стало – к Матвею. Они висели в переднем углу, под расшитым полотенцем, и сельчане искали причину зайти к Рухтиным поглядеть на часы.
Не забыть бы сказать шефу, когда придет, чтобы завел. Чудной он, этот шеф. Придет, сядет и молчит. Неожиданно спросит что-нибудь вроде:
– А из пулемета стрелять приходилось?
– Из винтовки, – отвечал Матвей, и когда забывался, голос парнишки опять возвращал в прошлое:
– А лошадь у вас была черная?
– Не лошадь, а конь. «Черный» про коней не говорят, а говорят, вороной. Всякие были у меня кони, а больше других каурый запал в памяти, от отца достался, чистых кровей степняк из-под Троицка. Конь, скажем, все равно, что человек, – много их в жизни, да не всяк падет на душу.
– Это какой такой каурый?
– Вроде саврасый, сказать тебе, или соловый, только те пожелтее будут, к буланой близко масти, да у той хвост и грива темнее, а у каурой опять ремень на спине. Чалая схожа. – Он увлекался, входил в подробности.
Шеф рассказывал о часах, которые не надо заводить целый год, о станках с телевизором, о гробнице Тутанхамона, о том, что есть такое дерево, под которым может спрятаться целое войско, о тракторе, который пашет сам, без человека.
«Ах, обезьян!» – Матвей с недоверием и некоторым восхищением глядел на шефа.
Однажды шеф спросил:
– К нам в школу придете?
– Это зачем? – насторожился Матвей.
– Расскажете, как воевали.
– Нет-нет, никуда я не пойду, ноги болят, голова, не помню ничего, забыл…
– У вас интересная жизнь, – настаивал шеф.
– Ничего интересного в ней нет. Воевали, били друг друга, что в том? Нет-нет, лучше и не говори, а то рассержусь и вовсе пускать не стану. Ишь, что выдумал: выступать. Да я нешто артист? Засиделся ты тут, ступай домой, голова у меня болит, спать лягу…
А то еще не легче выдумал: звездочку, слышь, принесу. «Какую такую звездочку?» – «На дверь, чтоб знали: здесь живет боец за народное счастье». – «Ступай домой и не выдумывай, не надо мне никакой звездочки. Иди, иди…»
На седьмом десятке его помял медведь. Не пришла домой корова. Грешил на волков. Незадолго перед тем старая волчица, тощая, с выпирающими ребрами, клочковатой шерстью на боках, с отвислыми сосцами подошла близко к зимовью. Услышав рявканье коровы Марты, Матвей схватил попавшие под руки вилы, отогнал волчицу. Но стоило ему уйти, как она вернулась и перехватила-таки ярку. Матвей нарубил крупно свинца и насыпал в патроны побольше пороху.
Когда на исходе второго дня не вернулась корова, он снял с гвоздя ружье и отправился вниз по речке, куда иногда уходила скотина. На отмели увидел отпечатки лап – медведицы с медвежонком. Прошел еще с четверть километра и наткнулся на задранную корову. Она, видимо, спустилась пить, увидела медвежонка, приняла его за собаку и пугнула рогом, как обыкновенно делала, когда к пойлу подходил Бобко. Тут и расправилась с нею медведица.
Были масло, сметана, хватало теленку и кошке с собакой, – и вот на лето остались ни с чем. Мясо тоже пропало – дни стояли теплые. Даже шкурой поживиться нельзя – изодрана. Досада взяла – решил подкараулить.
На вторую ночь появились две тени: большая и маленькая. Медведица остановилась, внюхалась. Матвей сидел за стволом лиственницы, разбитой когда-то грозой. Неверный лунный свет и тень искажали величину зверя. Взяла оторопь. Матвей не выдержал и нажал на курок, но ружье не выстрелило. Медведица подняла голову и угрожающе рыкнула. Он торопливо взвел курок – и снова осечка.
Беда была в том, что битые капсюли из гильз он выковыривал шилом, затем наживлял новые и загонял в гнезда молотком. Взрывчатка, вероятно, в одном из них отстала от донца, и ружье теперь не стреляло.
Напахнуло теплом закисающей овчины – медведица поднялась. Не отдавая отчета, зачем он это делает, сунул ствол в пасть. На выстрел уже не рассчитывал, и оттого, может, не слышал его. Вспышка будто стерла верхушку головы. Все же медведица успела достать его лапой, уронить и рухнула всей тяжестью… Он вцепился во что-то зубами.
Хрипело, булькало, горячая липкая влага стекала за шею. Он захлебывался, но не разжимал зубов, пока тело зверя не обмякло. Потом насилу выбрался, выплюнул кончик медвежьего носа. Метнулась тень – прочь кинулся медвежонок.
Истопив баню, обложил помятые ребра запаренным березовым листом, к кровоподтекам приложил бодягу и впервые подумал о смерти.
И страшнее всякого зверя навалилась тоска.
Он выходил из дома, глядел на почерневшие поленницы дров. Старался думать о деревне, о лугах и старицах, чтоб отогнать тяжелые мысли, а припоминалось, как валил лес.
Принес беремя бересты, насовал между поленьями и поджег. Жарко горело, освещая зимовье, низко бегущие облака и человека, неподвижностью похожего на деревянного истукана.
После того размотал хозяйство и стал жить в городе.
Однажды после обеда, подремывая в кресле, услышал по радио о раненом комиссаре, которого мальчишки обнаружили в старом сарае. И вспомнился Алешка Скрипов в крапиве, запятнанная кровью рубаха, его горящие глаза и свой с оттяжкой удар. А вдруг не до смерти? Старая Сычиха могла выходить. Она, Сычиха, вывихи вправляла, зубы заговаривала, от дурного глаза слово знала, кровь останавливала…
Ах, что будет, то будет – нет сил, потянуло на родину: поглядеть на зеленые луга, на голубые старицы, на темные затоны, на деревянные шеи колодезных журавлей, вдохнуть запах родимой земли, услышать крик петухов на рассвете, повидать, если жива, Аннушку, а там…
Раньше в город три, а то и четыре дня лошадь тащила телегу, купая ее в грязи. Теперь такси домчало Матвея за два часа. Чем ближе подъезжал, тем чаще стучало сердце. На спуске перед Аем отпустил машину и долго стоял в смятении, смотрел на мост внизу, на излучину, на деревню. Белую церковь прежде можно было видеть издалека, теперь же из-за новостройки гляделась часть луковки да обломанный крест. На месте зеленых лугов желтело поле, и там, словно насекомое, ползал комбайн. Другой, едва видимый, шевелился за деревней на горизонте.
Матвей спустился, постоял на мосту, поглядел, как в обмелевшем Аю мальчишки удили пескарей.
– Клюет? – спросил он.
– Пескозобы похватывают, – деловито ответил ушастый мальчишка с облупленным носом и ободранными коленками.
Мимо прошли парни и девчата, одинаково стриженные, пели под гитару и смеялись.
Домов старых в деревне осталось всего ничего, крытых соломой не было вовсе. Да и под тесом немного – все под железом, крашены, наличники резные, ворота расписаны.
На месте их, Рухтинского, дома был детский сад. Ребятишки копались в песочницах, гуськом ходили за воспитательницей, а один залез на забор и дразнился:
Дедка-дедка гололобый,
не ходи нашей дорогой…
Матвей жадно вглядывался, стараясь зацепиться глазом хоть за что-нибудь знакомое на разоренной усадьбе. Только колодец остался, да и у того вместо журавля – колесо, которое надо было вертеть, чтобы достать воды.
Он шел вдоль деревни, всматривался в лица, но знакомых не встречал. В конце улицы, в черной обомшелой колоде, в которой раньше поили лошадей, седая старуха в щегольски сдвинутом набок платке полоскала белье. Белокурая девчушка, должно быть, внучка, складывала отжатое в корзину и звала куда-то:
– Бабаня, пойдем, а? Баба-аня…
– Недосуг, милая. – Старуха разогнулась и показалась вовсе не старой. – Скоро с поля придут, а мы с тобой будем сидеть, ножки свесив. Хорошо ли это, подумай.
– Баба-аня…
В «бабане» Матвей различил бабу Аню и оглядел сбоку спокойное и, как показалось ему, надменное лицо женщины. Подумал: за красным столом, видно, привыкла сидеть.
Она поправила платок, бегло скользнула по Матвею взглядом. Захолонуло внутри: «Анна!»
Не узнала.
Миновал выгон и свернул в сторону, где бродило стадо. Там, в тени раскидистого тополя, подложив седло под голову, лежал пастух. Как оказалось, накануне он «ополоснул душу» и, по собственному выражению, был сам не свой. Дело усугублялось тем, что жена, усвоившая его обычай, вывернула карманы, и теперь он маялся головой, а более от досады на негодную бабу. Матвей «вошел в положение» и достал кошелек. Пастух воспрял:
– За Ефимом Косачом не пропадет! – вспорхнул на гнедого конька и оставил пыль.
Матвей сидел в тени тополя, кусал былинку, думал о встрече с Анной. Какая благообразная, нет-нет, не старуха еще, а пожившая и повидавшая на своем веку женщина. Припомнил, как поправила платок, окинула его, постороннего, взглядом и с ноющей остротой понял, как ее не хватало. Будь она с ним, все вышло бы не так – вырастили бы детей, теперь поднимались бы внуки.
Экой дурак этот Ефим, подумал о пастухе, косач и есть – прозвище видно. Опять стал думать об Анне. Да, не хватало ее, и теперь не хватало сильнее, чем бесконечно долгими, ненастными ночами на Колге, именно теперь хотелось уронить голову к ее плечу.
И представилась ему горница, самовар, сливочник, тишина и покой, как в благодатные дни бабьего лета, когда тишь и теплота радуют уставшее тело.
Вернулся пастух. Спутал лошадь, снял седло. Матвей пить отказался. Ефим жалеть не стал, сказал, что после первой попы не дышут, хмыкнул и выпил вторую.
В разговоре выяснилось, что Агафья Рухтина померла перед самой войной. Умирала тяжело и все звала сына, который сгинул неизвестно где. Долго маялась старуха, а когда успокоилась – не закрылись глаза, что было дурным предзнаменованием, и пришлось класть на них пятаки.
– А не скажешь ли, что за баба в платке, вот так, концами назад, у колоды? Девчушка возле: бабаня да бабаня.
– Вот и видно, что чужой, раз не знаешь мать Анну.
– Мать? Отчего ее так зовут?
– А так: мать и мать – и больше ничего, вроде старшая тут. Порядок в доме матерью держится, так и у нас.
– А что она, одна или…
– Был мужик, да помер. – Он похрустел огурцом. – Да-а, городские-то старики ныне на вольный воздух ладят уехать, дома тут покупают. Куда, комолая ведьма! Я те… – И выругался, как ругались пастухи еще в старое время, привстал и щелкнул кнутом.
– Квартира, – усмехнулся Косач, – тоже посидишь в ней, да и завоешь. Человек, язви тя, копит деньги всю жизнь, да и отгородится от нее каменными стенами, и сидит как сыч, а признаться, что глупость сморозил, не хочет. И считает, что хорошо живет…
Он набулькал в кружку, сказал, что бог троицу любит, а потом, что изба без четырех углов не ставится – и запьянел.
Матвей встал и пошел к желтеющему полю. Ему хотелось видеть зеленые луга в искорках и чибисов над головой, провожающих беспокойными криками: пи-ви, пи-ви, пи-ви, и, возможно, прозванных за этот крик по-деревенски пигалицами. И хотя дело клонилось к осени, чибисы давно сошли с гнезд и кружить им было не время, Матвей не брал этого в расчет и испытывал тоскливое волнение.
Краем поля пошел к старице, где когда-то спугнул девок. Старица высохла, место было распахано. Миновал арему, вырубленную дотла и выкинувшую от старых корней новые побеги, все время думал об Анне, вспоминал тоску по ней долгими ночами на глухой Колге. Прикидывал теперь, как встретится с ней. А встретится обязательно, иначе зачем было и ехать.
Перехватил он ее на другой день утром как бы случайно:
– Здравствуй, Анна Егоровна! Вот не чаял…
– Матвей, никак? – провела рукой, будто снимая паутинку с лица легким касанием. – Жив?
– Как видишь. Зови в гости.
– Что ж, заходи, Матвей, давно не видались.
– Давно. Иду – и ни одного знакомого. Где ровня-то наша, Аннушка, куда подевалась? Эх, годы, годы – ручьи с гор, скатились – и нет их.
В сенях разулся, прошел в комнату, сел, осмотрелся. На телевизоре, накрытом самотканой холстиной – последним остатком, памятью былых времен, фотография мужика, чем-то знакомого.
– Ну, как ты жила тут?
– Всяко жили. – Она разгладила скатерть на кромке столешницы. – До войны наш колхоз в передовые вышел. Тятя дело вел. В войну мне пришлось хозяйничать. Худо ли, хорошо ли, а пережили.
Лицо Анны вытянулось, нос заострился, вокруг рта залегли глубокие складки, волосы поседели и утратили курчавость, на щеке появилась бородавка с горошину, подбородок одряб, глаза потеряли блеск. Но странно, он не замечал этих перемен, или находил достоинства в том, что лицо стало суше и строже, что волосы сохранили только видимость волнистости, а глаза, казалось ему, светились ровным теплым светом.
– Ну, а семья, ребята… – допытывался он.
– Прокомсомольничала я свою молодость, Матвей, – и улыбнулась. – Так уж вышло.
Преображенное улыбкой лицо обрело отдаленное сходство с прежним выражением беззаботной веселости, как чистое небо придает незамутненную синь старице.
– А потом сошлись с Кириллом, – она кивнула на фотографию, – овдовел он, на руках осталось пятеро: мал мала меньше. Иду с правления как-то, а они сидят на завалинке, нахохлились…









