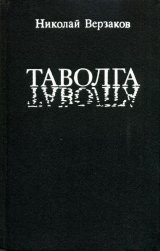
Текст книги "Таволга"
Автор книги: Николай Верзаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 18 страниц)
ТАЛИСМАН
Ермаков вышел из ТУ-104. Посмотрел на белые облака, слегка подгоравшие на западе, на желтую траву сбоку стоянки, на синеющий лес вдали, на масляные пятна под ногами, на неторопливую деловитость обслуги, показывающей всем своим видом причастность к важному делу, на то, как из выхлопных труб струилось легкое марево – двигатели остывали.
Вспомнилось, что если голову подсолнуха положить в сопло после выключения двигателя, она скоро подсохнет, и тогда семечки из нее сами выкрашиваются.
Толпа пассажиров отхлынула. Он не спешил. Его никто тут не ждал, как и в другом месте тоже. Вышло как-то так, что личная жизнь не задалась.
По трапу не спеша сошел экипаж. Стюардесса пропорхнула как бабочка. Пилоты (одна из них женщина), как понял Ермаков по жестам, обсуждали какое-то событие в полете. Он почувствовал острую зависть к ним и ощутил вдруг, что его отставка не отпуск, который когда-нибудь кончится, как ему иногда казалось, а это навсегда, и ничего уже впереди не будет. Окинув взглядом еще раз летное поле, потянул в себя запах керосина от проехавшего мимо заправщика и повернул к аэровокзалу. За спиной услышал:
– Товарищ инструктор, разрешите получить замечания по полету.
Обернулся и увидел ту, из пилотов.
– Не узнаете, Анатолий Иваныч?
Он всматривался в немолодое уже лицо. И от напряжения памяти забрезжило давно забытое.
– Вера?
Она кивнула, и лицо осветилось улыбкой.
* * *
У инструктора Ермакова пропал талисман – маленький плюшевый медвежонок, который, казалось ему, приносил удачу. Он был охотником, а все охотники немного суеверны, и в пропаже видел грядущее невезение.
Тот летный день подходил к концу. В воздухе кружилось еще несколько самолетов, а его машина стояла на заправочной, сам он сидел в кабине, свесив руку за борт, и лениво следил, как Вера застегивала привязные ремни.
От жары стучало в висках, болела поясница после ранения. Он никому не признавался в этом – ждал направления в боевой полк.
Будущее Веры стало ему ясно еще в тот день, когда ее зачислили в его экипаж.
Она вылезала из кабины мокрая, как мышь, и красная от замечаний в воздухе, в выборе которых не стеснял себя. Он был до жестокости строг к курсантам, словно сам не проходил ту страшную зарядку тела и воли, которая далеко не из каждого делает летчика.
– Готова? – обернулся он.
Она кивнула.
– Выруливай.
Механик проводил самолет и проследил, пока он не перешел в набор высоты. Вернулся под тент, где не так жгло солнце полупустыни, выпил кружку теплой воды. Он, как всякий настоящий авиамеханик, боготворил командира и старался ему подражать.
– Если война родит героев, то откуда берутся чудаки? Для чего, скажите на милость, этой девочке авиация? – сплюнул и замолчал.
Ермаков последним зарулил на стоянку, заглушил двигатель, откинулся на спинку сиденья и пробыл с минуту в неподвижности. Когда она подошла получить замечания, он усмехнулся так, что у Веры сжалось внутри.
– В воздухе надо все видеть, как видит птица, а ты неспособна.
– Я хочу летать, – робко сказала она.
– Ворона тоже летает.
Багровое солнце спустилось за горизонт. Ермаков в палатке осмотрел постель – нет ли скорпиона или фаланги. Его передергивало от одного вида этих тварей. Вылил на пол ведро воды, чтобы стало немного прохладнее, и попытался уснуть.
Сон не шел. Думал: попал ли его рапорт, третий по счету, командующему? Если нет, то где они оседают?
До того, как оказаться здесь, инструктором, он летал на ИЛе за линию фронта, штурмовал вражеские позиции – прочесывал дороги, скопления колонн и техники. Тридцать шестой боевой вылет оказался неудачным. Немцы точно определили точку пересечения штурмовиками линии фронта и сосредоточили там такой огонь, что из девяти машин прорвалась только одна. Его друзья падали, как тетерева из выводка, попавшего в охват охотникам. Он видел, как несколько самолетов горело, как завалилась «семерка» Ивана Нарукова, как споткнулся об огненный шквал Рамиз Хиталишвили, а потом тряхнуло и его – брызнуло в лобовое стекло маслом, и двигатель потерял тягу. Попытался приткнуться к березовому островку – напрасно, рули не слушались…
Он вылез из кабины и даже не почувствовал вначале, что ранен. Стабилизатор оказался обломан, кабина стрелка развороченной, а то, что осталось от человека, висело на ремнях…
Вода испарялась, стало душно, чем прежде. «Хочу летать», – вспомнил он.
Для пополнения женского полка прислали полтора десятка девушек и раскрепили по экипажам. Вера досталась ему. Он был против – не женское дело. Если уж так не терпится воевать, иди в сестры милосердия. И что такое десять парней и одна девушка в экипаже? Нужны железная дисциплина и устремленность, а они собирают цветки. Да и сам он чувствовал постоянно ее присутствие, ловил себя на мысли, что думает о ней по ночам, попадает от нее в стеснение, и злился. У него не осталось девушки дома, которая бы ждала, считал, что это хорошо – меньше забот. И, вообще, пока война, надо быть подальше от этого дела.
Он закурил, вышел из палатки и, обогнув заросли саксаула, увидел Веру. Она сидела, опустив голову.
– Курсант после отбоя должен спать, – напомнил он.
– Я сейчас уйду, – заторопилась она.
– Сиди, – он опустился рядом, – все равно завтра летать не будешь. Надо знать меру способности, в тебе одно упрямство. Война! В ней сгорают и не такие, как ты.
– Я хочу летать, слышите! – в голосе зазвучал вызов.
Его рассмешил этот лепет.
– Никто запретить хотеть не может, но этого мало. Надо быть хозяйкой в небе.
– Я хочу быть хозяйкой, – повторила она упрямо.
Это развеселило его.
– Из тех, кто мог без оглядки так говорить о себе, я знал одного. Только одного, чей позывной наводил ужас на фашистов в воздухе. Многие, услышав его, уклонялись от боя. После одной карусели, он, сильно потрепанный, возвращался домой, и оставалось совсем немного, когда двигатель сдох – не хватило горючего. Он планировал на лесную дорогу. Перед самой посадкой на нее выбежал пастушонок. И он свалил свой Як на крыло.
Ермаков смолк, глядя на лунную равнину, где начинающая засыхать песчаная осока отливала мертвой серостью, на небо в звездах. В саксаулах крикнула кем-то потревоженная сойка, пробежал тушканчик и пропал тут же.
Он почувствовал легкое прикосновение ее руки на шее. Дрогнуло в нем, ударило в голову, хлынуло, как из прорванной плотины, грозя затоплением. Он пересилил себя и встал:
– Что с тобой?
Она встряхнула рукой, потом стала втаптывать.
– Кого давишь?
– Каракурта… Он полз по кромке воротничка. Если бы вы пошевелились…
Ермаков взял ее голову в ладони, уставился в лицо:
– Зачем ты это сделала?
– Вы только что говорили о человеке, который умел жертвовать собой. Теперь война и ваша жизнь дороже моей.
– Вера, что ты говоришь…
Он взял ее руку, повернул к свету и увидел на пальце маленькое пятнышко.
– Идем в медпункт, немедленно!
Сыворотки не оказалось. К утру начались судороги и удушье. Фельдшер расстегнул ей ворот, чтобы легче дышалось. Достал из кармана летную книжку. Когда же попытался расстегнуть другой карман, она вцепилась в него.
– Нет-нет, успокойтесь. – Фельдшер оставил попытку, проверил пульс: – Аритмия.
Начался отек, лицо синело.
– Вера, – Ермаков растерянно повторял: – Ты будешь летать, станешь птицей…
Чуть забрезжило, он побежал к самолетной стоянке. Через час отвез в расположение дивизии.
– Вера, – повторил он.
– Я надеялась все-таки встретить вас, и вот, как видите… – Она достала из кармана плюшевого медвежонка.
ЩУКА
Настоящих охотников мало. Я встретил их не более четырех-пяти, несущих то, что хуже неволи. К ним причисляю давнего моего приятеля, пилота Демьяна-рыболова.
Вырос он на берегу рыбной речки. Случалось, дни напролет обтаптывал берега, чтобы вечером шипели на сковородке залитые яйцом пескари. «Будешь, как Никита», – стращал дед.
Никита, дальний родственник, о котором в семье вспоминали с жалостью. У Никиты было девять ребятишек и ветхий домишко. Сам он бегал то с ружьем по лесу, то сидел на берегу с удочкой. Будучи однажды в гостях, он увидел за окном на гумне зайца и с криком «Заяц! Заяц!» выскочил из-за стола. Родственникам за него стало неловко. Но чем больше дед стращал Дему, тем больше нравился ему легкий на ногу и беззаботный Никита.
С возрастом стал он, как говорят, чувствовать рыбу. Если считал, что скоро перестанет клевать, можно было сматывать удочки. Если предупреждал: «Подсекать не спеши, выбирай помалу, лещ сел на крючок», – можно было свободной рукой доставать подсачок.
Пилот на почтовом самолете, легком, как бабочка, он все свободное время проводил на озерах, многочисленных в том краю. В летном городке его считали чудаковатым, подшучивали над холостой жизнью. А когда местные рыболовы выбрали его председателем общества, остряк механик Лосев пустил по городку:
Порох меряет горстями,
Мормыша дает на вес.
И не даром между нами
В руководство он пролез.
Демьян снисходительно смотрел на каверзы лётной братии.
Однажды мы встретились на берегу. Он пригласил в свою лодку. Вскоре стал кидать на дно подлещиков, сорожек, подъязков, а у меня не клевало. Я от скуки озирался по сторонам, глядел на утиные выводки, на куликов по отмелям и заметил, как шилохвость схлопала крыльями, ушла под воду, а утята кинулись в стороны. Я толкнул Демьяна. Тот провел ладонью по лицу, будто снимая наваждение. Рыбачить больше не захотелось, и мы подались к берегу. У костра он пил кружкой рыбный отвар:
– Я поймаю ее.
– Да, конечно… в принципе…
Жиденькая тьма летней карельской ночи. Белая луна над черными пиками елей. Обветренное лицо в свете костра красно. В глазах отрешенность. В этот час я не стал бы спорить с теми, кто говорил о безумии Демьяна. Он не слышал, что я говорил, будто ушел в изгибы подводных лабиринтов, стараясь постичь непостижимое.
Плескались утки, играла рыба, от костра летели искры. Сквозь дрему слышалось: «Я поймаю ее».
Поймал через семь лет. В ней было чуть больше двух пудов и около полутора метров от оборванных блеснами губ до кончика хвоста.
И с тех пор не брал снастей в руки.
РОДИМЫЙ КРАЙ
Солнечный день. Плавится снег. На дорогах вытаивает навоз и сенные очески. Взлобки в испарине. В сиреневом березняке звенят птичьи хоры. Каменные вершины отдаленных гор розовы. Небо – синева без соринки. Светлый сквозняк в лесу и голубые лужи-озерки.
С одной лывины поднимается стайка мелких уток-чирков, проворно уходит за излучину речки, словно тонет в голубом. Земля отпотела и волнующе пахнет талой водой.
Вдруг перехватило дыхание. Пробежал по телу озноб. Захолонуло внутри и защемило сладкой болью.
Потом пробовал объяснить, что со мной было, и не мог.
Много лет спустя, перегоняя самолет, пересекал страну с западной ее границы на крайний восток. Внизу гигантской развернутой картой плыла земля. Подлетая к Уралу, прижался головой к фонарю кабины. С той высоты, на которой шел, почти весь Каменный Пояс в поперечнике закрылся крылом.
И снова подступило к горлу, как тогда, защемило в груди тою же болью. Там, внизу, был не видимый мне отчий дом, милая Березовка, родимый край. И понял: тогда, в начале юности, пришло ко мне неосознанное ощущение Родины.
ТАВОЛГА
АДИУС
Голубая полоса от фонаря падала на стол, ломалась, перечеркивала наискось половицы, пересекала руку жены. Андрей откинул одеяло и опустил ноги на холодный пол.
– Уходишь? – Адель поднялась на локте, попала в полосу света, сощурилась. – Остался бы…
Он не ответил, отыскивая ногой тапки.
– Цеховые на вечер идут…
«Боже, как надоело, будто не восемь, а восемьсот лет вместе прожили», – подумал, раздражаясь.
На кухне он плеснул в лицо холодной воды, быстро оделся, залпом выпил кружку остывшего чая.
– Уйти, что ли? – послышалось тоскливое всхлипывание.
– Держать не буду. – Он надел приготовленный с вечера рюкзак и взял ружье.
– Зачем женился тогда?
– Сына не разбуди. А что женился на тебе, так дурак был, вот и маюсь.
Заметался во сне Генка. Андрей хлопнул дверью.
В поселке еще спали. Светилось лишь окно у соседа Евстигнеева. Там маячила его лохматая голова. «С ребенком нянчится, а баба, небось, седьмой сон видит». По инею на траве, стуку сапог, ровному тону занимающейся зари он определил, что день будет ведренным, тихим, и прибавил шагу. Было приятно чувствовать теплоту в теле и испытывать удовольствие от быстрой ходьбы.
«Знает, что будет по-моему, – он глубоко вбирал остывший за ночь воздух, – но не упустит случая выказать свое упрямство». Бабка не перечила деду, мать – отцу, и он, может быть, лучший слесарь во всем городе, не станет плясать под бабью дудку. Начальник участка вчера машину помял – и к нему: «Андрей Ильич, просьбица…» Отчего не уважить? Но не в субботу. Выходной – для души. Не хочешь ждать, найди другого. Только другой так не сделает, так не сделает никто. Понимают и ждут. Все понимают, каков он есть человек, кроме нее.
По краям дороги пихтач. Неистребимый грибной запах. Редкий писк синиц да прерывистый стукоток дятла: постучит, будто подумает, а стоит ли продолжать? Снова постучит и задумается: а не рано ли? Глухой шум – внизу бурлит стремительная Губенка, обтекая скользкие камни.
Тут, на берегу, когда-то прогремел его первый выстрел. Запоздавший с отлетом селезень изумрудно поник шеей. Сизый дымок тек над рекой. Сладковато пахла гильза пороховой гарью. Искрилась, качаемая водой, обледенелая ветка тальника…
За речкой круто начинался подъем. Гору обыкновенно обходили. Андрей же всегда одолевал этот крутик, желая испытать первую, быстро проходящую усталость, ибо она, по мнению Андрея, как хорошая разминка, давала зарядку на целый день. К тому же хотелось встретить восход на вершине. Но опоздал. Вытер влажный лоб, расстегнул ворот рубахи, сел, обхватив колени, и подставил лицо слепящему солнцу. Отсюда во все стороны простирались волнами горы. Полегчало, словно все мелкое – там, внизу, а здесь, на вершине, остались только чистые, как утренний воздух, мысли. Для полного блаженства он закурил, чтобы испытать легкое кружение в голове. А далеко внизу, скрытый туманом, лежал город. Его еще не коснулись лучи солнца. И многим спящим еще там так и не суждено узнать золотого утра. И он пожалел людей. Они боялись потерять вечер, а надо бы бояться потерять утро…
Охота не удалась. Андрей стрелял только по тетереву да рябчику. Тетерев ушел. Рябчик, вспорхнувший из-под ног, упал растерзанной тряпкой. Андрей подержал легкие остатки и бросил.
День тянулся нескончаемо долго. Утомляла пестрота. Но главное, вернулась и не покидала едва осязаемая горечь досады и отравляла радость светлого праздника.
Солнце медленно уходило за кромку леса. Стоял один из немногих вечеров осени, когда, как бы насыщенный золотистым туманом, он бросает теплый блеск на березы, и те пылают факелами. Горячими угольями пламенеет рябина. В колее забытой дороги, сквозь пурпур палых листьев, сквозит небесная глубина. В этой ослепительной яркости есть предчувствие тихой печали, пройдет, может быть, одна только ночь, и лес потускнеет, ляжет на него налет угасания.
Андрей шел старой вырубкой, надеясь еще поднять тетеревов, с трудом продирался по сухим сплетениям мышиного горошка. От прикосновения стручки лопались, стреляя горошинками, створки скручивались. Рыжие шапки дудника – чуть задень – сорили семенами, к разгоряченному лицу липла паутина, в глазах зыбилась пестрота. Под одним из заросших валунов ворковал родник. Опустившись на колено, Андрей припал к студеной струе и не мог оторваться, пока не заломило зубы. «У-ух!» – утер изнанкой кепки лицо, присел на камень, устало вытянул гудевшие ноги.
К ружью рано пристрастил отец. С тех пор Андрей порядочно набил руку, мазал редко, но и не огорчался промаху, как бывало прежде. И не радовался особенно, поднимая трепыхавшуюся дичь. И хотя испытывал еще тот знакомый каждому охотнику подъем, когда вид дичи горячит, а удачный выстрел снимает усталость, за ним теперь наступало безразличие, которое приписывал домашним неурядицам. Вот и теперь, перебирая подробности нескладной жизни, захотелось куда-то уехать.
Но разве только ему не повезло? Знал он неудачные семьи, где отношения напоминали слякотные дни, с холодными сквозняками, порой с ураганами, когда гнется, скрипит, трещит, выворачивается с корнем. Но знал и счастливые. Тот же сосед Евстигнеев, ни разу, вероятно, не возразивший жене, этот безропотный мямля, как-то сумел заставить себя уважать. «Такого другого во всем белом свете нет», – хвасталась его жена. Тайно ему завидовал.
Прошумел сухой лист в осиннике. Тенью мелькнули и выскочили на поляну два лосенка. Рука остановилась на полпути к ружью. Один годовалый, другой весенний, они прислушались и успокоились. Младший, тонконогий и хрупкий, казалось, не прочь был выкинуть какую-нибудь шалость. Старший же, заметив Андрея, головой направил горбоносенькую мордочку братца в противоположную сторону, словно шепнул ему что-то на ухо. Маленький легонько потрусил прочь, за ним старший, как бы прикрывая собой на всякий случай. Они пропали, как видения, и только жил еще в ушах легкий шорох листьев.
«А старший-то защищает», – умилился Андрей.
Андрей сидел между двумя кострами. Сухостойные стволы, сложенные один к другому, давали достаточно тепла. Он смотрел в костер, слушал потрескивание дров и медленно думал о жизни, как можно думать о ней вдали от города, отделенного многими километрами глухого леса, живущего по древним законам, забытым людьми. А лес словно нашептывал: «Хочешь быть счастливым? Стань добрым, не требуй лишнего, будь разумен и прост…» И вечера, которым потерян счет, в гаражах с запахом бензина, масла, эмали, среди исковерканных крышек, дверей, фар и заискивающей готовности заказчика, и отупляющая усталость, и хруст «левых» червонцев – утратили смысл. Зачем они?
Раньше, случалось, его просили задержаться после смены, и он оставался охотно, теперь не просят и по великой нужде, знают – напрасно. Бывало, сиживал в президиуме, а теперь и не припомнит, когда на собрание оставался. Задерживаться в цехе было не с руки.
В котелке кипела грибная похлебка. Он бросил щепотку соли, помешал, попробовал хрустящий опенок. Снял котелок и направился к роднику, чтобы остудить варево. В черной воде дрожала звезда. Он отыскал ее в небе – это был Адиус. Будет так же светить через тысячу лет, как светит сегодня, как светил до новой эры.
Шумно отхлебывая из котелка, он копался в мыслях, доискиваясь причины, как по остывшим набродам гончая ищет залегшего зайца.
…Он сидел на берегу небольшого озера, слушал довольное кряканье и полоскание утиного выводка в зарослях куги, накрытых туманом. От костра доносились голоса подгулявших ягодников.
Вдруг он почувствовал, что сзади кто-то есть, но не успел повернуться – чьи-то ладони закрыли глаза. Колокольчиком рассыпался смех.
– Ада?
– Не рад? – Она села рядом. – Что там в небе? Во-он.
– Сириус.
– А вон там?
– Адиус, – выдумал он.
– Это для меня?
– Считай так, если хочешь.
– Я хочу на двоих одну.
И опять смех. И горячие губы ожгли щеку. Качнулся едва видимый на исходе ночи горизонт, прочертил параболу Адиус, и опрокинулось небо.
Ах, эти ночи с треском коростеля в лугах, с боем перепелов на кромке поля, с урчанием козодоя в перелесках! Сидел бы где-нибудь у свежей копны или в траве под березой, не шевелясь и не желая рассвета. Куда же все девалось? Куда?
Генка мал, а то бы брал с собой на охоту. Ничего, вырастет – помощником будет. А может, и не будет. Кинет иной раз взгляд – не по себе становится.
На исходе первого года (Ада тяжелой была, ждали Генку), поздравили отца с днем рождения и собирались домой. Она попросила завязать шнурок. Услышал сзади себя: «А ты, Илья, никогда не зашнуровывал мне ботинок», – в голосе матери не упрек отцу, а укор сыну: «Перед бабой на колени встал?» Вспыхнули уши, будто застали его за постыдным делом. Наскоро завязал и спросил зло: «Чего еще ждешь?» И тогда она посмотрела на него так, как теперь иногда смотрит Генка.
А сколько таких случаев было. Однажды собрались на концерт, но пришел сосед и попросил выправить помятое крыло. Не мог отказать, пошел. Вернулся поздно, навеселе, потребовал ужина. Не ответила. Повторил. «Обойдешься без меня», – кинула. И закипело в нем: «Кто в доме хозяин?» – «Да ты, ты хозяин!»…
Над костром тенью скользнула сова. Неподалеку прошуршал листьями еж, а может быть, мыши.
Вернется он завтра поздно, а утром – в цех. Вечером править «Жигули» начальнику участка. И так до пятницы, а потом все сначала. Да-а. Но не уступать же, как это делает сосед Евстигнеев. Жена его все что-то пишет, а он подает ей кофе. Да от такой жизни, пропади она пропадом, чепчики вязать начнешь. Нет, он, Андрей Ильич, лучший заводской слесарь, должен остаться при своих. Но отчего же все-таки так худо на душе?
Костры угасали. Он встал, подвинул перегоревшие стволы. Огонь ожил, облизывая корявые, в трещинах, бока бревен. Тепло потекло над лежанкой, приятно согревая тело. А вместе с теплом мысль сделала неожиданный поворот: семейная жизнь – тот же костер. Подбрасывай вовремя, будет гореть долго и греть, иначе погаснет. Так и случилось. В битве за старшинство в доме забылось святое правило – и костер чадит. Удушливо, холодно, неуютно. Он прикурил от уголька, жадно затянулся. Как же быть-то теперь?
Андрей завернулся в плащ с намерением уснуть – впереди целый день охоты. Сон не шел. «Что же делать-то? – беспокойно думал он. – Все гнул к тому, чтобы подмять, стать выше. А надо ли было?»
До рассвета оставалось четыре часа. Он перепоясался патронташем, перекинул через плечо «ижевку», посмотрел на мерцающий в холодном небе Адиус и направился к дороге.
«Так и скажу: прости, был неправ». И представил себе, как дрогнут губы, глаза подернутся горечью грусти, как уткнется в грудь и простит, потому что в первый раз услышит это слово.
Весь день они проведут вместе, сделают необходимое дома, сходят в магазин, покатают Генку на карусели. Потом отведут его к бабушке и отправятся на цеховой вечер. А обратно пойдут пешком, не торопясь. Где-нибудь на полпути остановятся и станут искать в небе звезду.













