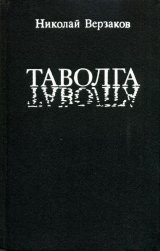
Текст книги "Таволга"
Автор книги: Николай Верзаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 18 страниц)
Я добрался до тетки, когда садилось солнце, по улице брело стадо, над крышами вился дым, пахло теплой пылью и парным молоком. Меня о чем-то спрашивали, и я что-то отвечал, а потом не мог встать – болели ноги.
Все прошло. Остались в памяти от той поры дикая красота гор да названия: Большой Таганай, Круглица, Откликной Гребень, Ицыл, Юрма – напоминают о детстве.
ГАДЮКА
Знакомый грибник утверждал: на Таганае змей нет, – и выдвигал доказательство:
– В старые времена на Таганае-то скиты были – старцы скитались там, слова знали заветные, потому нечисть-то и не держится. Они, старцы-то, не жаловали их – сорок грехов за каждую отпускалось – и вывели.
Меня такое объяснение не устраивало. Но вот начальник горной метеостанции, которому вполне доверяю, тоже: нету змей, пятнадцать лет «на гору» хожу, ни единой не видел.
Сидим как-то у Белого ключа, отдыхаем, хлеб в ключевую воду макаем и жуем в удовольствие. Печемся на солнышке, беседы ведем, подходящие к случаю. Вдруг:
– Змея!
Обернулся недоверчиво, поднялся и пошел – верно. Через ручей, по зеленым замшелым камням, переползала гадюка. Должно быть, она была молода, двигалась изящно, грациозно несла маленькую голову. Она следовала по каким-то своим делам, не обращая на меня внимания, не роняя достоинства.
Кинулся за фотоаппаратом, но, пока настраивался, она скрылась в траве под кустом ракитника.
Убираю фотоаппарат, жалею, что не сделал снимка: надо бы его показать моим приятелям, так хорошо знающим эти места. Тут подошли туристы, и дернуло же – сорвалось с языка – ругаю себя, да что после времени.
Окружили ее и выгнали из-под куста на чистое место. И только услышал хлопок камня о камень. Перекинули плетью через сук и ушли.
Может быть, мой приятель-метеоролог так и доживет до пенсии в уверенности, что на Таганае змей нет.
БАБОЧКА
Ветер распахнул форточку, и в комнату влетели мокрые листья: два желтых, один бурый. Я подобрал их и хотел выбросить, но бурый вдруг раскрылся и оказался совсем не листком, а бабочкой-крапивницей. Подержал ее в ладони, отогрелась и принялась летать по комнате. Потом села на подоконник, сложила крылышки и опять превратилась в ржавый листок.
И вспомнилось давнее: солнечный день, домик, речка перед ним и бережок, желтый от гусиных лапок и одуванчиков. И я, бегущий за порхающей бабочкой. А за мной Стара (старой мамой, или просто Старой, звали у нас бабушку), оставившая на берегу корзину с бельем.
– Стой, стой! – кричит она. – Куда ты? Убьешься!
Я падаю, обдираю коленки, но не чувствую боли – так хочется поймать прекрасную бабочку.
– Погоди ужо, вот я ее, – простоволосая Стара размахивает платком – бабочка взмывает кверху и улетает.
А Стара утешает:
– Ну, полно, мало ли их, метлячков-то, еще изловим. Да вон.
И мы снова гонимся за бабочкой. И вот она в дрожащей руке.
– Не подави метлячка, много ли ему надо, утлый он, – наставляет Стара.
А потом война.
Стара лежит на кровати за печкой. Возле нее сидит мама. В изголовье кусок хлеба и остывший чай.
– Раздели ребятам, – чуть слышно говорит она маме и тянет руку ко мне, но не дотягивает: – Эх, метлячок ты мой…
Осень выдалась ненастной, шли обмочливые дожди. Бабочка летала мало, ее одолевал сон. Наконец, она заснула так крепко, что не проснулась ни разу в день.
Что делать с ней? Будут убирать в квартире, затянут в пылесос, наступят и раздавят. Поместил между рамами, в уголке, на мягкой подстилке из ваты. Первые дни все заглядывал – хотелось знать, как чувствует себя бабочка. Она лежала в одном положении, и я постепенно забыл о ней.
В начале апреля, во время уборки, открыли настежь окна. И тут я увидел бабочку. Взял ее и положил на солнышко, а сам засмотрелся, удивленный переменами за окном. Небо синее-пресинее, на вербе «заячьи хвостики», на оттаявшем откосе веснушками цветки мать-и-мачехи. Оплавляется зернистый снег, и уже слышен говор ручейка. И расправляется грудь от весеннего, пахнущего проталинами воздуха. И вдруг:
– Бабочка! Бабочка! – соседский мальчик Борисок вцепился в рукав деда.
Чувствую, Бориску хочется поймать бабочку, и он кинулся бы, не держи его дед. А дед улыбается:
– Вот и опять до весны дожили. Еще до одной.
ЛЕСНЫЕ КУРАНТЫ
Стою в птичьем ряду. В клетках сверкают оперением щеглы, чижи, чечетки, клесты, дубоносы, зеленушки, снегири, нареченные у нас жуланчиками, верно, за то, что не снежной прохладой, а теплом веет от этой, похожей на фонарик, птички. Колокольчик, бубенчик, жуланчик… Каждая птичка голосит на свой лад. Многоголосье собрало толпу. Толпа тоже пестрая. Среди шапок, кепок, «пирожков», «петушков» и боярок нет-нет да и мелькнет платок или шляпка. Птицелов весело подмигивает:
– Какую достать? – снимает рукавицы и запускает руку в кутейку. – Не жалей трешки, мать, с птицей будешь.
Мимо идет человек в боярке:
– Учат, понимаешь, кормушки делать, а тут, ловкачи, понимаешь…
Смотрю вслед боярке, и чего ругается? Я не помню ни одного своего сверстника, который в детстве не ловил бы или не подержал хотя бы одну птицу. Мы заболевали этой страстью как ветрянкой. И, как ветрянка, она оставляла свои отметины. Вот одна на памяти.
Раннее морозное утро. Предупредительные гудки. «Ура!» – не ходить в школу. Свист за окном – мой приятель Генка Говорухин уже на ногах. Торопливо собираюсь, прихватываю кухонный нож и выскакиваю во тьму и стужу. Генка прыгает, колотит себя по бокам – мороз.
Бежим. Минуем мелкий кустарник за поселком, затем ельник с пихтачом, и только потом находим березу. Гнем толстый сук и режем по очереди. Дуем в ладони, суем пальцы под мышки. Раскраснелись от мороза и в лучах восходящего солнца похожи на снегирей. Но вот сук надломлен, отдираем, повиснув на нем, режем другой и бежим домой, не чуя ног.
Кое-как отогревшись, ставим березки каждый в своем огороде, втыкаем вокруг ветки репейника, навешиваем западенки.
Верчусь на кухне, каждую минуту выглядываю в окно – нет, не попалась еще.
– Не сидится тебе, веретешко, – ворчит бабушка.
Вдруг дверь настежь – и Генка:
– Айда, березовый чечень попался!
И что это была за прелесть! Белоснежная с красной грудкой и красным теменем, восковым будто клювиком и глазками-бусинками. Кажется, это от нее в не топленной Генкиной комнате было светло.
Видимо, та зима была очень знобкой, ибо за сорок прошедших с тех пор лет тундровую чечетку пришлось видеть в городе еще только раз.
– Брать надо, отец, – говорит птицелов, – пока не перехватили. Нараспев поет, чего же лучше? Чиж отменный есть или жулана уступлю, – словно делает мне одолжение исключительно по доброте своей.
Знаю по опыту, хорошего певуна на базаре редко купишь. Знаю, но не могу устоять и сдаюсь на милость веселого птицелова. Выбираю поджарого, блестяще-яркого, с тонким клювом и двумя пятнами в хвосте щегла.
Ободренный почином, продавец безошибочно и цепко выбирает «моего» и передает. Ярким росчерком мелькает щегол перед глазами.
– Эх, растяпа! – досадует птицелов.
– Дайте чижа вон того, с пятном на горле.
Но когда вылетает и чижик, птицелов хмурится:
– Деньги гони, батя.
Рассчитываюсь. Беру снегиря, но продавец уже не доверяет: «Дай-кось, жуланчика пристрою». – И сам опускает птичку в мою рукавицу.
Возвращаюсь с «птицей». Воровато прохожу в свою комнату, но домашних не так-то легко провести. Во взглядах укор: жизнь прожил, а ума не нажил. Сажаю снегиря в клетку и ставлю в затененный угол, чтоб обживался.
Утром он меня будит: «Фю-фю-фю». Обычно снегирь поет на две ноты и как-то печально тянет свою «фю-фю», словно роняет звуки бубенчик-жуланчик. А тут был и третий звук, октавой выше, и, видимо, он придавал бодрый тон. Встал – и к окну – на вершинах елей теплится солнце. На другой день снегирь опять возвестил восход. И так каждое утро, даже в пасмурную погоду, но всегда в момент восхода, словно побудку играл мне – хоть часы проверяй.
СОЛОВЕЙ
Стою на берегу Ая. Дождь шумит, словно сыплется в воду зернистый озерный песок. Из-за хребта Уреньги выворачивает темно-синее зловещее месиво облаков. Его изнутри то и дело освещают высверки, и чуть спустя оглушительно гремит.
Не клюет, и давно бы пора уйти, но стою – неподалеку в кустах поет соловей. Все давно смолкли, а этот поет на изломе лета. Не ошалело, не по-весеннему, а спокойно мастерит колено за коленом. И эта песня похожа на вызов тому темному, что идет из-за горы.
Я промок, но уйти не могу – соловей держит как на привязи.
Может, также в блокадном Ленинграде симфония Шостаковича спорила с музыкой смерти.
УТКИ НАД ПРОСПЕКТОМ
Приехал в Ленинград во второй половине дня. Многолюдье закрутило, как щепку водополь. Оглушенный, растерялся. В метро хотел старушку вперед пропустить, да где там – под локти подхватило и понесло.
К другу детства приехал – давно звал. Ты, говорит Васек, позеленел, сидя там; мохом, говорит, покрылся; приезжай и погляди хоть, как люди живут.
Приехал, ищу иголку в сене. Все поспешают так что остановить и спросить совестно. А он, друг-то: попасть, говорит ко мне проще простого, дело это будто мягче репы. Вначале, говорит, на метро, потом троллейбусом потом на автобусе, потом мостик перейдешь тут и есть седьмой номер.
Зигзагами, кое-как добрался до проспекта Ветеранов. Кругом сияние огней. Которые, думаю про себя, можно и погасить. А дома там, обойдешь вокруг – отдыхать садись. Ищу, в котором друг живет, – нет седьмого номера. Ночь наваливается. Совсем пал духом. Между домами, как в пропасти, только месяц наверху. Над головой вдруг: свись-свись-свись… Не выдержали, думаю, нервы, тронулся: крякаши блазниться стали. Задрал голову, а между домами, и верно, как в ущелье – утки летят. Совсем ничего не пойму. Вышел за дома, речушку увидел, через которую тот самый мостик перекинут. А в речушке месяц колыбается, плеск, кряк и хлопанье крыльев. Всмотрелся: мать моя! Уток, что в садке, набилось, аж дух перехватило, будто Марьино болото или Халитова курья, когда пролетная утка валит. А там, где птица, я свой человек. Живут, думаю самим ступить негде, а уткам место находится. Мало того, как понял, извлекают из сожительства пользу. Бредет с работы человек, заверченный людоворотом, остановится на берегу дух перевести, покрошит утке хлебушка, и душой отдохнет, и утка довольна.
И от этого лада вознесся я, братцы мои, в мыслях, и представились озерки, речки да калужины на всей нашей земле-матушке. И утка тут плавает с гусем, и кулик по бережку бегает, и вальдшнепишки по аллее гуляют, рябчики в лесопарках гнездятся, тетерева бормочут в березовых колках, глухари…
Может, так и случится, ведь все зависит от человека, от нас с вами, братцы.
А седьмой номер, и правда, как мостик перейдешь, тут и есть, только я его не с того торца разглядывал.
КАЙ
В середине октября я возвращался домой, набрав на вырубке поздних опят. Притомился, сел у дороги и снял рюкзак. Расправил плечи и предался благостному состоянию покоя, какой разлит в теплом воздухе, в глухой тишине, в колее с прозрачно-черной водой, накрытой палым листом. Деревья осыпались, и сквозь голые ветки купоросно сквозит небо, обещая скорые холода.
Вдруг на дорогу выбежал пегий спаниэль, поднял ушастую голову, повел носом, увидел меня и замер. По беспокойству в глазах, по лапам с нависшими корками грязи, впалым бокам и шерсти, свисавшей макаронами, нетрудно было предположить, что он заблудился и не первый день в лесу.
Спаниэль сделал шаг навстречу и остановился в выжидательной позе, разглядывая меня и стараясь, видимо, прикинуть, на что в этой встрече он может рассчитывать.
Я знал несколько случаев, когда оставленные в лесу охотничьи собаки неделями искали хозяина, избегали встречи с незнакомыми людьми и гибли в конце концов от истощения.
Спаниэль сделал нерешительно еще два шага.
– Иди, дурачок. – Я постарался придать голосу приветливость.
Он несмело подошел, пошевелил обрубком хвоста, склонил голову, наблюдая за мной исподлобья.
– Что, братец, лес не кресло перед телевизором? Ну что ж, давай знакомиться.
Развязал мешок и предложил остатки от обеда.
Несмотря, видимо, на мучительный голод, он не хватал кусков и не давился, что укрепило догадку о комнатном воспитании и строгой выучке. Съел все, подобрал крошки, облизнулся и лег рядом, положив голову на мое колено.
– Что ж мне с тобой делать? – спросил и получил в ответ взгляд, который можно было толковать как угодно.
Мы, помню, всегда держали собак, и, как правило, это были лайки. Простые неутомимые работяги, они и имена износили обыкновенные: Шарик, Дамка, Жулик… А этот аристократ, наверное, и кличку имел редкую и, испорченный квартирой, оказавшись в лесу, потерялся. Я перебрал десяток-другой собачьих имен, но он даже не повел ухом.
Брать домой чужую собаку не хотелось, но и прогнать теперь ее от себя, оставив в лесу, тоже не мог.
– Пойдем, там что-нибудь придумаем.
…На другой день стал собираться в лес и только тряхнул ружьем, спаниэль чрезвычайно оживился и, как привязанный, стал ходить у сапога. Я поддался соблазну встретить запоздалых вальдшнепов и взял его с собой.
Утро выдалось пасмурным, туманным. Спаниэль пошел хорошо: легким галопом, не далее чем на выстрел, пересекал канавы, ручьи, речки, несмотря на холодную воду, обшаривал мочажины, болотца, опушки, но они были пусты – вальдшнепы уже «отсыпали».
Между тем пошел дождь-ситник, туман сгустился. Мой пес намок, устал и поплелся сзади. Вскоре повалил снег, и спаниэль отстал. Пришлось ждать. Он подошел, лег и не захотел вставать. Его трясло.
«Эх, помощничек», – досадовал я. Однако делать было нечего, посадил его в рюкзак, накрыл голову клапаном так, что наружу высовывались только уши да нос, и повернул к дому. Ноша скоро нагрела спину до испарины. Тепло передалось псу, и он перестал дрожать.
А снег-лепень все падал и падал. Я тоже, подобно моему спутнику, готов был лечь и не вставать. В таких случаях крепкий чай – лучшее средство. Свернул к большой ели, снял ношу, достал топорик, и через пять минут под хвойной крышей горел костерок, шипели на закопченном котелке капли. Постелил штормовку и устроил спаниэля сушиться. Туман сгустился так, что терялось ощущение расстояния и объема. Прошел лось, и он показался не более косули, а мелькнувший рябчик, наоборот, не менее глухаря. На кустах висели капли, от котелка тек аромат чая. В такие пропащие дни особенно остро чувствуешь благо огня и живого существа рядом.
Сидим, чаевничаем, разговариваем. Собаки очень любят, когда к ним обращаются дружелюбно, приободряются, как бы желая понравиться.
– Колбасы хочешь? То-то любишь, когда угощают, а сказать не желаешь, как зовут – это уж невежливо.
Смотрит, крутит куцым остатком, поскуливает, будто знал, да вот только что забыл слово.
– А ну-ка, давай другой бок к огоньку…
Вдруг он приподнялся, затем стал оседать, как резиновая игрушка, из которой постепенно выпускают воздух.
Из тумана вышел охотник. Кивнул мне, стряхнул с кепки снег, протянул руки над костром и тут увидел пса.
– Кай?!
Спаниэль пополз за мою спину.
– Ваш? – спросил я и объяснил, где подобрал его и при каких обстоятельствах.
– Кай! Ко мне, ведьмин племянник! – Он достал шнурок и привязал собаку.
– Как же она оказалась в лесу? – спросил я. – Не гончая, не могла выйти из слуха в погоне за зверем и отбиться?
– Оставил. – Пришелец прикурил от уголька.
– Вы оставили собаку в лесу?
– Поспорил, что просидит сутки у брошенной рукавицы. Приказал сидеть, а сам домой. В соседях вечером свадьба – загулял, да и откатал четыре дня. А утром тесть по сено поехал, и я с ним – туман из головы разогнать.
– Вы же испортите собаку.
– Было бы что портить. У егеря взял, думал: первый класс, элита – думал, а по правде сказать, совсем пустая собака. Кай, вперед! Я те поверчусь, я те…
Так они и скрылись в тумане.
БАРСУК
В начале сентября береза начинает подгорать с середины, исподволь занимаясь все более и более и, наконец, вспыхивает вся. Есть момент, обычно в третьей декаде, когда березняк словно покрыт желтым туманом, и от него как будто начинает исходить золотое сияние. Но пройдет два-три или один только день – и прощай благодатная пора.
В такой именно день я оказался в березовом лесу, на склоне горы, пересеченной неглубоким оврагом, густо поросшим мелким черемушником, тальником, осинником, – все тем сором, по которому ходить обычно люди избегают.
А мне нравятся такие места. Здесь сразу видна осенняя особенность каждого кустика, каждой ветки. Ива медленно переходит из зеленого в салатный и, наконец, в лимонный цвет. Быстрее всех желтеет и осыпается липа. С нее срываются плодики с крыльчатками, и бывает весело смотреть, как они летят и вращаются, словно диковинные парашютики. Яркий пурпур осин, киноварь черемух, бордо рябин – бесконечно удивляют. Одна ольха как стоит, так и скинет зеленый лист.
Теплая благодать растворена в тишине. Даже улетающие птицы успокаиваются. В этот час, кажется, все расслабляется и приходит к согласию.
Дрема смежает глаза. Гудит шмель. Я отмахиваюсь, не помогает. Оказывается, мотоцикл. Он тарахтит все сильнее и останавливается за оврагом. Появляется человек в каске, оглядывается и внимательно смотрит под ноги, как обычно стараются обнаружить оброненный ключ.
– Эй, друг! – кричу. – Что потерял?
Он как бы спотыкается, отыскивает меня глазами и молча уходит. Трещит мотоцикл и стихает вдали.
Перебираюсь через овраг. Нахожу барсучью нору, и все становится ясным. Здесь, у входа в нору, он ставил капкан и приехал проверить. Хорошо виден оттиск, но самого капкана нет. От норы чуть приметный след к оврагу. Я прошел и спустился на дно. Там увидел свежую землю, а в крутой стене – нору. Из нее торчал капкан. От него к бельевому шнуру привязана палка. Она застряла в кустарнике, веревка натянулась и не давала зверю закопаться дальше.
По расчету человека барсук, попав в капкан, должен был бы кинуться в нору, палка не дала бы ему далеко уйти: за нее легко бы было извлечь его наружу. Барсук почему-то бросился прочь и свалился в овраг. Приезжий, очевидно, принял меня за инспектора, подумал, что я снял капкан, и постарался скрыться от возможной неприятности.
Я освободил перебитую лапу и оставил барсука в покое, надеясь, что за долгую зиму нога заживет и таинственные сумерки летнего леса вновь наполнятся деловитым беспокойством белолобого увальня.
ПОПОЛЗЕНЬ
К охотничьей избушке добрались задолго до заката и решили пробежаться с удочками по заветным местам скрытой в глухой ареме лесной речушки. Вытряхнули содержимое рюкзаков на стол под навесом, при этом со стола скатился огарок свечи. Я подобрал его и сунул на жердь под настилом крыши. Перехватив на скорую руку по бутерброду, мы отправились к речке. Тотчас на стол под навес свалились пара московок и поползень, что крутились все время возле, пока мы занимались рюкзаками.
Речушку во многих местах можно перешагнуть, кажется, где бы тут держаться рыбе? А водится, причем редкая – хариус.
Я не большой знаток уженья вообще, а хариуса в особенности – рыбы осторожной и, как говорят рыболовы, хитрой. Но мой приятель знает эти места с малых лет, прошел их много раз и знаком с рыбьими повадками.
Идем по течению: клюнет – хорошо, нет – двигаемся дальше. И так от заводинки к заводинке, от омуточка к омуточку берегом, вкривь и вкось заросшим черемушником, тальником, перевитым хмелем, – словно леший напутал – по кочкам болотец, выходам каменных глыб.
– Ты на бырь кидай, на бырь! – советует приятель.
Кидаю на «бырь», то есть в место, где вода крутит всякий сор. Поплавок мгновенно скрывается под водой. Вытаскиваю хариуса, волнуюсь и чуть не упускаю его в речку.
Обратно добрались в темноте. Уха – дело нехитрое, и при свече приготовить ее труда не составит. Протянул руку за свечкой, а ее нет.
– Слушай, здесь кто-то был – свечки нет.
– Тут редко кто бывает, а и бывает, так ничего никто не берет. Ищи лучше.
– Вот тут положил, а нету.
– Посмотри под ногами.
Пошарил и точно – попала под руку.
– Но как она могла упасть?
– Когда уходили, поползень тут вертелся, а это такая пичуга, что обязательно полюбопытствует и если заметит новое, непременно сунет туда свой нос.
Засветили огарок, затопили печку, поставили воду под уху.
– Среди людей то же самое, – развивал свою мысль приятель: – Тысяча человек пройдет мимо очевидного, а один остановится, задумается и сделает для себя открытие, потому что у него свой взгляд на окружающее. И у поползня свой. Ни одной птахе не пришло бы в голову поворачивать огарок и глядеть, нет ли чего под ним?
Я не очень поверил в «свой взгляд» птички, представляющей собой нечто среднее между синицей и маленьким дятлом, и высказал сомнение, приписав дело случаю. Приятель посоветовал:
– А ты еще что-нибудь положи туда.
Наутро я оставил под навесом луковицу, а вернувшись к обеду, нашел ее на полу.
С тех пор стал присматриваться к этой удивительной, изящной птичке, непоседливой и любопытной, похожей на челнок от старой швейной машинки. Простучит дерево дятел, просмотрят и оберут с него всякую мелкую живность синички и пищухи, что после них найдешь? А поползень находит – голодом не сидит, детей выкармливает за счет своего особого взгляда: все идут снизу вверх по стволу, а он сверху вниз – и обнаруживает то, чего нельзя увидеть при обычном осмотре.















