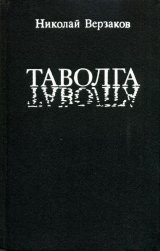
Текст книги "Таволга"
Автор книги: Николай Верзаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 18 страниц)
НОРМАЛЬНЫЙ ХОД
Старый самосвал с трудом преодолевал долгий тягун перевала. В моторе постукивало, и на каждой выбоине корпус машины сотрясался. Степан Ушкин, известный среди шоферской братии расчетливой трезвостью, сожалел, что машина не дотянула до конца сезона, и что теперь ее пришлось гнать в капитальный ремонт. А в Степном сейчас самое горячее время, бывает, поесть как следует некогда. Если и скоро дадут новую машину, сотню-другую все равно придется потерять.
Думал он, конечно, и об Инке, молодой жене, что осталась в Степном, и о Фаине. Когда вспоминал о первой жене, становилось немного не по себе. Степан объявил, что уходит, она заплакала. «Нормальный ход», – сказал он, как говорил всегда, когда хотел себя успокоить.
Свежий ветер задувал в кабину, трепал волосы, гнал усталость. С натугой преодолев подъем, машина покатила легко, шурша скатами. Внизу лежал город. В распадках гор еще держался туман. Заводской пруд матово поблескивал.
Степан остановил машину и вышел размяться. Цветов вокруг – множество! Иван-чай, густо росший по насыпи, тысячелистник, ромашка, сочевичник уже со стручками, иван-да-марья. Над головой испуганным котенком пронзительно кричал канюк, кружась и высматривая добычу. Из трещины камня выглядывала ящерица. На камне мох, на мху белая еще брусника. Вид спокойного величия гор привел мысли в равновесие. Он сорвал шапочку тысячелистника (она рассыпалась в ладони), помял и отметил: в Степном запах трав резче. Сдул с ладони пахучие крошки. Сдать машину – и назад, к Инке.
Снятый с тормозов самосвал покатил по накатанной дороге. Каждый изгиб ее был знаком. Вот за этим поворотом однажды чуть не столкнулся с лосихой, а потом едва не опрокинулся. Это было в тот год, когда вернулся из армии и получил новый «газик». За поворотом увидел девушку с корзинкой на плече. Посигналил. Вместо того, чтобы отойти влево, она как-то боком засеменила вправо. Пришлось резко вывернуть руль. Машина чуть не свалилась.
– Ты что кидаешься под колеса! – выскочил он из кабины.
– Только что оглядывалась, никого не было, – оправдывалась она.
– Носит вас черт…
– Подвез бы лучше, устала я.
Подвез и зашел напиться. Кухонька и комнатка. Голубые занавески, голубая скатерть, голубое покрывало среди белых стен и низкого потолка: скромный цвет незабудок на краю прозрачной калужинки с отражением бегущих облаков. Она подала воды. И в глазах ее он увидел цвет незабудок. И тело ее напомнило ломкий стебель этого незатейливого цветка…
«Зря тогда остался», – думал Степан, въезжая в город. Ему хотелось скорее развязаться с машиной, сходить на кладбище, поправить оградку на могиле матери и перед отъездом повидать сына. Но пока сдавал машину да оформлял документы, и день прошел. Успел только завернуть в «Детский мир» и купить заводной грузовик.
– Ты? – Фаина засуетилась.
– Есть будешь?
– Ужинал, – ответил он. – Толик где?
– Бегает.
– Тольку повидать зашел. Погляжу и поеду.
– На чем? Поезд-то ушел.
– Тогда утром…
– Разуйся, ноги-то устали, небось.
Степан молча разулся.
– И по имени не называешь, а когда-то Фиалкой звал.
– Не люблю я тебя. И никогда не любил, даже когда клялся по глупости. Ты не понимаешь этого да никогда и не поймешь. Зашел на парнишку взглянуть.
– Взглянуть, а у него только и разговоров, что о тебе.
– Выдумываешь ты это все, знаю тебя не первый день.
– А ведь жил…
– Не понимал, думал, так надо. Не попадись Инка, и теперь тут сидел бы возле тебя и никогда не узнал бы по-настоящему, что же оно такое.
За окном густели сумерки. Терялась перспектива, предметы стали казаться плоскими. Мигали редкие огни поселка.
– Тебе хотелось, чтоб я только твой был, – сам не зная зачем, он продолжал обижать ее.
– Да разве ж я тебя держу? А что люблю, так в том не виновата.
Он поморщился:
– Завела: люблю… не виновата…
– Эх, Степан, Степан, Степа… Степушка…
– Ну, будет. – Он вдруг почувствовал сильную усталость и пожалел, что заехал к Фае.
Послышался топот, скрип двери и крик:
– Папка приехал! Мой папка приехал! А Танька говорит: не приедет, а я говорю…
Глазастое существо со шмыгающим носом, в синяках и ссадинах забралось на колени Степана. Он как-то растерялся, а сын посоветовал:
– Ты бороду отпусти, теперь модно.
– Отпущу, если хочешь.
– У нас в садике ежик есть, Саней звать. – Мальчик тормошил за плечо. – А гостинец ты мне привез?
– А как же, – вспомнил Степан. – Это уж в первую степень.
– Эх ты! Вот это хорошо! Как настоящий! Танька будет завидовать. Вырасту большой, на шофера выучусь, как ты, и насажу полный кузов народов!
– Каких народов, глупенький? – улыбается мать.
Улыбка разглаживает немногие морщины, и она ей очень идет.
– Мальчишек всех, не понимаешь, что ли? А ты уже спать собрался?
– Вставать рано мне, – оправдывался Степан.
– Почему не позвала, – Толик укоряет мать, – подольше поговорили бы.
– Где стелить-то? – Она не слушает Толика.
– На диване.
– Как хочешь.
– А я не люблю спать, – сообщает Толик. – Хорошо, если бы все время день был. Сколько можно было бы всего переделать!
Постелив постель, Фаина возвращается на кухню. Степан встает и кладет на стол пачку денег:
– Это вам.
– Не надо. – Фаина пугается, словно деньги совсем могут отгородить от нее Степана. – Не возьму. Нам хватает. Нет-нет!
– Ты лучше подольше не уезжай, – просит Толик. – А то Танька не поверит, что был, врешь – скажет. А лучше взял бы нас с собой в Степное. Возьмешь, а?
– Ладно, ладно, когда-нибудь…
– Пойдем, сынок. – Фаина тащит мальчика за руку.
Он сопротивляется:
– Не поверит Танька-то.
Шуршащая простыня приятно холодит тело. Через щель над дверью падает на потолок полоска света. Слышен скрип половицы и шепот:
– Мамк, а, мамк…
– Чего тебе?
– Он уедет?
– Уедет.
– Утром?
– Утром, утром.
– Разбуди, а то просплю.
– Спи, сынок.
– Будильник завела?
– Завела.
– А ты бы сама попросилась в Степное-то.
– Да спи ты!
Пропала полоска на потолке.
Не спалось. Степан встал, подошел к окну. На дороге кто-то остановился, прикурил. Огонек выхватил из темноты часть лица. Вспомнилось детство и мать у самодельной лампадки, почти не дающей света. Мать читает письмо по слогам: «Ты, Танюша, о себе думай да Степку мне сбереги…» Разбилась семья, словно корчага, упавшая с печи.
Пришел как-то сосед Филька и платок матери принес. Завернула Фильку: «Не ходи больше». Целыми днями сидел Филька на завалинке, курил, посвящал пацанов в мужские тайны, пел похабные песни.
Надела мать цветастый платок – дядя после победы вернулся. Филька сплюнул изжеванный окурок:
– Степка, мать-то куда вырядилась?
– В Комарово, дядя приехал.
– Ну, конечно, не тетя. Тут мужиков мало, так в Комарово пошла? Как думаешь, почему она тебя не берет?
Мать наказывает:
– Смотри за домом.
Давит обида:
– А тебе своих мужиков мало, в Комарово пошла?
Мимо прошла, ничего не сказала. И, сколько было видно, прямо шла, как ходят слепые. Кинулся вдогонку. За околицей, в траве, лежала она вниз лицом, сжав в кулаке полушалок… На кладбище обещал сходить…
Брезжит рассвет. За стеной во сне бормочет Толик, тяжело вздыхает Фаина.
На кухне он нашел свое белье аккуратно свернутым, еще сохранившим тепло утюга. На столе стоял горячий кофе.
Накинув шаль и глубоко запахнув пальто, она пошла провожать его.
На вокзале, несмотря на ранний час, много народу. Чемоданы, узлы, корзины, саквояжи и томительное ожидание последних минут, когда нечего больше сказать друг другу. Ночные мысли утратили остроту. Он не мучился более оттого, что не поправил могилку матери. «Нормальный ход, не последний раз приехал», – основательно успокоил он себя и стал думать о том, как вернется и какую ему дадут машину.
Фаина молча стояла рядом. Толик бегал по перрону, вертелся среди пассажиров и, кажется, чувствовал себя совсем неплохо. А когда подошел поезд, затерялся в толпе, так что Степан не смог с ним проститься.
Электровоз зычно рявкнул, горы ответили эхом, и перрон медленно поплыл мимо.
Фаина отошла к вокзалу, чтобы дольше видеть вагон, увозящий Степана, а может, увидеть его еще раз, если он вдруг выглянет в окно и махнет рукой. Она будет стоять, пока поезд не скроется, и только потом торопливо уйдет домой, в свою комнату, где еще не рассеялся полумрак раннего утра.
«Нормальный ход», – оценил прошедшее Степан и вытянулся на полке. Полежал немного, встал, закурил. «Все дело в Толике», – думалось ему. Как ни старался утром тихо собраться, мальчик проснулся, быстро оделся и вертелся перед глазами, все ждал чего-то до самого конца. Его не взяли, но он догнал их так далеко, что возвращать не было смысла, не рискуя пропустить поезд.
И вспомнился летний день, запах дегтя, хомута и лошади. Отец запрягает Гнедого. Юлит хвостом Осман. А он, Степа, старается попасть на глаза отцу, что-нибудь подать или принести. Вот уж и ворота раскрыты, и подворотня в стороне, и хлопок вожжами, и отцовское: «Трогай, зверь!»
Стучат по дороге колеса, бежит за телегой Осман, крепко пахнет самосадом. Бежит Степа, все еще надеясь, что, быть может, отец возьмет его с собой в лес. Свистит кнут: «Н-но, покойник!» – и громче стучат о камни колеса, быстрее мелькают спицы, и телега уходит. Степа напрягает последние силы, чтобы не отстать, падает в пыль, обдирает коленки и тихо плачет от горькой обиды.
Чем дальше уходил поезд, тем больше он думал о Фаине. Чем больше увеличивалось расстояние, тем тоньше становилась нить между ним и домом в рабочем поселке, где остались два человека, за что-то любившие его. И чем тоньше становилась нить, тем сильнее чувствовалось натяжение, словно она, подобно резиновой, стремилась сократиться и вернуть его.
За окном тянулись поля, распаханные под озимые. Над березовыми островками кружились грачи.
– Папка, а, папка…
Степан вздрогнул. Из-под нижней полки высунулась ручонка.
– Я пить хочу.
– Ты как попал сюда? – Степан вытащил Толика.
– Я в Степное хочу.
Степан притянул его к себе.
– Как ты там оказался?
– Все полезли, и я полез. А потом спрятался. А потом ты пришел. Я в Степное хочу. Не поверит Танька-то…
– Как же ты мать бросил, а?
– Нормальный ход, ты бросил же.
Поезд подошел к узловой станции. На вокзале Степан купил всякой всячины для Толика и взял обратный билет. А час спустя счастливый Толик пил газированную воду, аккуратно разглаживал конфетные обертки, смотрел в окно поезда, улыбался, уверенный в том, что едет в Степное, и утешал:
– Ты не горюй, нас теперь двое, я помогать тебе буду.
На другой день вместе пошли в детский сад. Толик показал ежика Саню и сообщил:
– Если его выпустить из клетки и сидеть тихо, он бегает и стучит ногами, как пожарник, когда на пожар торопится.
И воспитательнице:
– Это мой папа. Он шофер.
– Очень приятно познакомиться с твоим папой. – Она с любопытством окинула Степана.
«Должно быть, старая дева», – подумал он.
– Сегодня он уедет в Степное, а потом снова к нам приедет. – И тормошил за рукав: – Приедешь ведь?
– Приеду, как же.
– Приезжай, смотри. – И снова воспитательнице: – Он мне еще самосвал купил.
– Превосходно, – отозвалась она со скрытой иронией.
– Буквы не все знаю, – пожалел Толик, – а то бы письмо тебе написал. Ты приезжай скорее.
Степан уходил с чувством неловкости. Толик махал рукой из окна, а рядом стояла девчонка, может, та самая Танька.
В Степное попал он на другой день к вечеру. Инка еще не вернулась с работы. Достал из холодильника бутылку пива, оно оказалось старым и вспенилось. В пепельнице среди окурков со следами помады заметил водочную этикетку и несколько недокуренных папирос с очень знакомым изломом мундштука. Так загибал папиросу, словно хотел подпалить себе нос, механик Гусев.
Пошел умываться. Вода из бачка, от которого проведен самодельный душ, приятно щекотала тело. Великое дело – вода. Пыль – долой, усталость – долой. И только мысли не смываются.
Перед его отъездом, вечером, Инка достала коньяк:
– Я стала думать о жизни. Не вообще, а о нашей с тобой.
– А что о ней думать? Давай пить коньяк.
– Но и коньяк пьют для чего-то.
– Мусор это все, выкинь из головы.
– Должен же за этим быть смысл.
«Задурила баба».
Степан насухо обтерся. Надел лучший костюм и вышел.
Степное – небольшое село. Недавно здесь нашли какую-то руду и стали строить завод. Корпус одного цеха уже поднялся, высились фермы второго, заложено основание третьего, под четвертый били сваи.
На выезде из села закусочная – бойкое место. В закусочной местная знаменитость – Роман. Он хром, разворотлив, многих знает в лицо, о каждом, если он не просто проезжий, может что-то сказать, шоферов величает товарищами водителями.
Волна посетителей схлынула, Роман скучал. Степану он обрадовался:
– Товарищ водитель! С прицепом?
Пенится пиво, рука под прилавком отмеряет водку, вторая ловко выхватывает вилкой из кипятка сардельку.
– Товарищ водитель из командировки? Как жизнь молодая? Что Инна?
Степан облокотился о стойку:
– Отчего ты не женат, Роман?
– Во всякой коммерции, товарищ водитель, должна быть суть. Товарный вид – никуда, сам видишь. Но была жена, была. И дочь была. Но однажды допустил я растрату в отношениях, и все пошло кувырком. Сделал ревизию сам себе – кругом виноват, а назад уж нет ходу. У дочки появился другой отец, и я дал моей бывшей жене слово не напоминать о себе. Жена умерла, дочь выросла, а я, видишь, чего теперь стою. Дурак старый, сам себя наказал. Э-эх, и близко локоть, да не укусишь.
– С дочерью не встречался?
– Видеть видел, а так, чтобы поговорить, нет.
Вошла шумная компания, и Роман прервал рассказ, заметив мимоходом:
– Вчера Гусев зарулил на большом газу от какой-то женщины. Протри ветровое стекло, водитель.
Значит, все-таки Гусев. Степан бросил пятерку и вышел. Дорога вывела в поле. Пересек его и попал в полосу непаханной степи. Было то время, когда сохла сон-трава, сох горицвет, белели клочки ковыля. Теплый воздух пах шалфеем. Трескуче звенели насекомые, посвистывали суслики. Багряное солнце с сияющим нимбом погружалось за горизонт, и засыхающая равнина блестела кофейно-золотистым отливом. Чуть слышно: чш-х, чш-х – на стройке забивают сваи. Теплый воздух успокаивает. Слышится тихая песня о тополях, коронованных солнцем.
Голос летел из степи, навстречу. За холмиком показалась голова женщины. Вдруг песня смолкла. Женщина побежала навстречу, раскинув руки. «Она», – узнал Степан.
– Вернулся? – Инка кинулась на шею. – Ну, разве так можно? Хоть бы телеграмму дал, что задерживаешься.
От нее пахло степью.
– Что ты там до сих пор делала?
– Не хотелось оставлять работу на завтра.
Он запрокинул ей голову резко и, должно быть, больно:
– Зачем у тебя был Гусев?
– Машину кто-то из ваших разбил, так он пришел тебя звать на помощь. Думал, ты вернулся.
– И водку пили из-за разбитой машины?
– И водку. Он пил и немножко я. Устала, давай посидим.
– Он пожалел, что меня нет?
– Не очень, быстро захмелел. А потом захотел остаться.
– Ну?
– В другой раз, может быть, и оставила бы.
Откуда-то сбоку выскочил тушканчик, постоял столбиком, поскакал, словно игрушка на резиновой подвеске, и скоро слился с сумеречной степью, и только белая кисточка хвоста еще некоторое время чертила воздух. Над головой протянула пара журавлей.
– Не таким, Степа, вернулся, другим. Думаешь уходить, так уходи скорее, пока не поздно для меня.
– А что тебе сделается?
– Кто знает, все может быть. Ну, что ты смотришь? Да-да, будет.
– Нормальный ход, Инка! Будет дите – другое дело.
На следующий день он отправил телеграмму Фаине, в которой сообщал, что задержится, а вечером писал письмо: работы навалом, шоферов не хватает. К тому же дали новую машину. Но это на месяц или два, пока не придет подкрепление по новому набору.
Он считал: этого времени будет достаточно, чтобы привести мысли в порядок и прийти к окончательному решению. Но прошло два месяца, потом еще два, а решение не приходило. Он отодвигал срок, казалось, вот-вот что-то случится и все решится само собой. После работы он чаще заглядывал к Роману, пил пиво и нехотя вступал в разговор.
– Что, Инна, товарищ водитель?
– Нормальный ход.
– Ждете прибавления?
– Жди не жди, а будет.
– Желаю вам счастья.
В начале апреля зазеленела степь, а через две недели буйно закипела сочными красками. По утрам в балках стоял легкий туман, часам к десяти рассеивался. Ветер играл крапчатым гарусом трав, а вечером степь тонула в алой дымке.
Степан удивлялся: цветов-то какая уймища! Откуда прет? Что за сила такая в земле? Он набирал букет адониса и ехал дальше. Любила Инка цветы. Принимала букетик, целовала, и подурневшее лицо ее преображалось. Степан чувствовал: нет, не уйти от нее.
За неделю до майских праздников он отвез Инку в роддом и на обратном пути завернул к Роману.
Против обыкновения тот назвал Ушкина по имени и с затаенной тревогой спросил:
– Как дела, Степа?
– Жду. Надо бы что-то купить в подарок, да вот не знаю.
Роман вцепился в руку:
– Я знаю! Идем со мной, – и потащил к себе.
Жил буфетчик неряшливо.
– Ты уж прости, – извинился он, – не для кого фасонить, хотя скотство, конечно, да привык. Вот погляди, – и протянул коробочку.
В коробочке лежало золотое колье – вязь букв, инкрустированных изумрудами.
– Покойной жены вещица. На рождение дочери покупал. Отринула.
Степан полюбовался игрой зеленых камушков и отложил коробочку.
– Нет, Роман, не возьму. Хороша, да денег таких нет.
– Я прошу у тебя деньги? Если буфетчик, так у него нет души? Думаешь, живет старый скряга, обжуливает посетителей и копит, копит… Ах, Степа, если б можно было стать молодым, полуголодным, без копейки в кармане! Я бы знал, что делать. Теперь у меня есть деньги, а зачем они? Дай доброе дело сделать, уважь, Степа. Ты не представляешь себе одиночества в старости – страшно. Страшно, Степа! Положим, сам виноват, да от этого разве легче?
– Ладно, – сдался Степан. – Деньги отдам к концу года.
– Голубчик, обрадовал ты меня. Эта штучка хорошо пойдет к бордо…
На другой день дежурная сестра сообщила Степану, что у Инки родилась дочь. Набив саквояж всякой едой, он поспешил к роддому. Там передачу не приняли, объяснив, что Инка еще очень слаба. Степан все-таки ввернул пакеты и очень довольный вышел. Под окно палаты, где, по его мнению, должна была лежать Инка, натаскал кирпичей, попробовал взобраться – впустую. Не зная, как скоротать время, отправился к Роману. Выпили с ним на радостях и прошлись по селу, дразня собак.
– Эх, Степа, какую подпорку ты подставил под мою старость! – Захмелевший старик ковылял следом и порывался запеть:
Месть прощением насладится,
Руку, падший друг, прими…
Придя домой, осоловело улыбаясь, Степан тяжело опустился на стул, прежде сгрудив с него пачку газет, накопившихся за несколько дней. Из пачки вылетел конверт с разновеликими буквами на лицевой стороне.
Он поднял его, извлек листок, исписанный точно такими же каракулями:
«Папка, я жду, жду, а ты все не едешь и не едешь. Таньку я поколотил, чтобы верила. А ежик Саня, который в садике, жив и здоров. Я не люблю спать и смотрю в окно: вдруг ты приехал и идешь по дороге. А мамка говорит: «Спи». А я говорю: «Нормальный ход…»
СВИДАНИЕ
Дорога петляла между гор. В кузове машины, под тентом, сидели охотники. Как всегда бывает при коллективных выездах, прибаутки перемежались со смехом. Общим вниманием владел сухопарый, носатый с подвижным вытянутым лицом токарь Иван Малахов. Он умел рассказывать с серьезным видом нелепые случаи, хохотать над тем, что не смешно, и заражать своим смехом других.
Рядом с Малаховым сидел слесаренок Генка Мухин. Он вступил в общество совсем недавно, хотел казаться бывалым охотником и смеялся громче всех…
Не поддавался смеху один Игнат Стариков, лекальщик. Все его звали Игоней, хотя перевалило ему за пятый десяток. Запомнить Игоню было бы чрезвычайно трудно, если бы он не был коряв, крив на один глаз и не припадал бы сильно на одну ногу.
Он безотрывно глядел на дорогу, иногда, высунувшись из-под тента, сообщал: «Горбатый мостик проехали», – или что-нибудь в этом роде.
– Все знает, – Малахов толкнул локтем Генку. – А вы слыхали, как Игоня женился?
– А зачем это надо рассказывать? – Игнат не отрывался от созерцания дороги.
– Расскажи, дядя Ваня, – стал просить Генка, надеясь услышать забавную историю.
– Сосватали, как водится, собрались ехать за невестой, а Игоня закрылся в чулане и не выходит. Его уговаривают, а он сидит. Туда-сюда – ни гу-гу. Скандал! И тут кто-то крикнул: «Заяц!» Игоня – из чулана: «Где?» Тут его сгребли, связали да в короб…
– Рябиновку проехали!
Незлобивое спокойствие Игони вызвало такой взрыв хохота, что шофер выглянул из кабины.
– Харюза тут раньше по пестерю науживали, – продолжал Игоня.
– По пестерю… харюза… – Костлявые плечи, а потом и все несуразное тело Малахова затряслось в неудержимом хохоте. – Там воробью по колено…
Во всякой дороге наступает момент, когда она начинает надоедать. Все реже раздавался смех, и когда Игоня сообщил, что проехали последний поворот, охотники засуетились.
Здесь когда-то стоял поселок лесорубов. Жители, в основном крепкие, выносливые и молчаливые, валили лес, вязали плоты, сплавляли по половодью, собирали живицу, гнали деготь, зимой промышляли зверя и птицу. С войной многие дома опустели, а к концу ее, когда лес поблизости извели, последние жители перебрались в город.
На вырубах, не тревожимый выстрелом, развелся косач, в горе держался глухарь, а по ключам – рябчики. Кое-что из построек вывезли, кое-что разрушилось и пошло на костры беззаботным туристам. Теперь только высокий бурьян, заросли тальника, нелепо торчащий, покосившийся столб от ворот да остатки разрушенного временем и растащенного половодьем моста через речку напоминали о заглохшей здесь жизни.
Охотники распалили костер. Игоня чистил картошку и рассказывал:
– Вон за тем камнем магазин был, а возле – клуб.
– Что-нибудь ты путаешь, – возражал, как бы сомневаясь, Иван Малахов.
– Зачем мне надо путать, места знаю, возрос тут. А где листвень, мой дом стоял.
– У тебя был дом? – Иван глядел на гигантскую, разодранную грозой, полусухую лиственницу. – Генка, был у Игони дом?
Генка проверяет порядок в своем рюкзаке, на минуту отрывается от этого занятия и отрицательно качает головой.
– Шатром крытый дом-то, на крыше – косач, от ветра поворачивался. Марфа им любовалась все. А то иду, бывало, с делянки, а она, Марфа-то моя, стоит у ворот, поджидает…
Его никто не слушал, отдаваясь радостному ощущению свободы, оторванности от заводских и семейных забот. Смеркалось быстро. Вышла луна. Засияли звезды. В свете подфарников – лица и руки. Бряканье кружек:
– За удачу!
– Ни пуха…
– Генка, оглох, что ли?
– Померла Марфа-то, похоронили добрые люди… – слова тонут в гаме.
Кому-то уже хочется петь.
– Иван, «Рощу»!
– У меня классный диск есть! – встает Генка.
– Пошел ты со своим диском… Старинку надо.
– Старинку, Иван Демьяныч!
Малахов куражится, но недолго, и, к всеобщему удовольствию, хрипловато, врастяг выводит:
Будет, будет вам, ребята, пиво попивати,
Не пора ли вам, ребята, в поле выезжати…
Он поет о белой пороше, о поднятом собаками звере. Ему подтягивают, «гонят», изображают вой зверя, «трубят». Эхо множит голоса.
Размягченные лица в свете костра покачиваются в такт. Изломанная тень огромной лиственницы на матовой, искрящейся призрачным светом поляне придает картине фантастический вид. Когда смолкают голоса, неожиданно тихий тенорок Игони звучит резким контрастом:
Тега, гуси, тега, серые, домой,
Неужели не наплавалися-я…
Утром охотники наскоро пьют чай и, не теряя времени, отправляются. Малахов охает, стучит кулаком по голове: «Пила, так боли».
– Поправить? – заботливо спрашивает Игнат, достает четвертинку и отмеривает половину в кружку. Остатки затыкает, кладет в карман и напутствует Малахова:
– По хребту правь, Ваня, по релкам – глухарь должен быть беспременно. После ключами в клюквенное болото спустись, рябков добудешь.
Игоня идет последним. Через бурьян продирается к едва заметной тропке и по ней скрывается в мелком осиннике.
Там он остановился, огляделся и прислушался. Снял кепку, приставил ружье к осинке и скинул рюкзак. Сел и расстелил перед собой, на едва приметный холмик, белую тряпицу. Обобрал палый лист вокруг и сложил руки на коленях.
– Ну вот, Марфуша, я и прикатил к тебе. А за прошлый раз не сердись, случай не выпал. Мастер-то мне: «Игнат Петрович, выручай, окромя тебя некому сделать». Работа, видишь, тонкая. Как тут откажешь? Уважает он меня за это крепко, Пал-то Иваныч. И другие тоже. Не помню, говорил, нет ли – орден мне дали. Директор со мной за руку. А Перфильевна, что на свадьбе от тебя по праву руку сидела, жива еще, а других никого уж нет. К ней хожу, чай пьем, беседуем. Помнишь, как она славно «тега, гуси», пела? Попрошу – и теперь поет.
Говорил он медленно, с большими остановками, перебирая не спеша просеянные много раз мысли.
– Все бы оно ничего, да тоскливо без тебя. И жалко тоже, что никого у нас с тобой нету. Мало пожили. Одиннадцать деньков всего-то. Вроде бы как солнышко из-за тучи вышло, ослепило – и нет его. А после яркого свету еще темнее, холоднее и глуше.
Игнат плеснул из четвертинки в кружку, глотнул, остатки выплеснул перед собой.
– А насчет женщин или чего такого ты и в голову себе не бери. Сколь ни гляжу, а лучше тебя нету. Письма твои храню. На одном только, которое сажей писано, слов незнатко стало. Но я их и так помню. Она, Перфильевна-то, обсказала, как вы, бабы, в стынь лютую тут лес валили да вытаскивали на себе. И как ты в снег посунулась… И письмо просила написать от себя будто: «Здравствуй, свет мой Игонюшка! Во-первых строках сообщаю, что жива-здорова…»
На горе раздался выстрел – глухо, без обычного здесь эха. «К дождю», – подумал Игнат.
– Фрррррф, – послышалось неподалеку.
Игнат огляделся и увидел рябчика. Птица, вытянув шею, прислушивалась. Затем зазывно просвистела и замерла, словно бы дожидаясь ответа.
– Ишь ты, орел какой! – улыбнулся Игнат.
Рябчик вспорхнул.
– Вот и рябок, чего бы понимал? А ищет себе пару и не успокоится, пока не найдет. Нарушь одного, другой тосковать станет…
Задумавшись, Игнат с минуту глядел в одну точку.
С осины, тронутой палом ранней осени, слетел багровый листок и, слегка покачиваясь лодочкой с боку на бок, стал по спирали медленно спускаться на землю. Упал ярким пятном на блеклую траву. Игнат взял его, положил на ладонь, накрыл другой и подышал туда в горсть, словно пытаясь вернуть листку жизнь.










