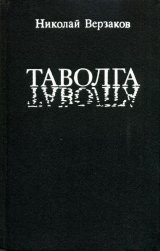
Текст книги "Таволга"
Автор книги: Николай Верзаков
сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 18 страниц)
НА УРЕНЬГЕ
В газете промелькнуло сообщение, что на Уреньге – одном из отрогов Урала – есть вид ели, которая живет чуть ли не тысячу лет. Шутка ли! Проклюнулось крылатое зернышко, когда на Руси молились златобородому Сварогу, пускающему огненные стрелы, да вот люди выбрались в космос, а она все живет, хоть бы тебе что. И страсть как захотелось увидеть эту старушку.
Поприглядывался, когда случалась оказия быть на горе: есть отличие от обычной – поменьше, посуше, кривовата порой – да и все, пожалуй. Двести, ну, триста лет, куда ни шло, а чтобы тысячу – нет, не похоже. Нет-то нет, а тревожит душу – должна быть, не станут писать понапрасну.
Зашел с той стороны хребта, с которой не хаживал, от реки Ая, по левому берегу – неловкое место. Миновал свежие выруба, измятые вездеходами, пересеченные такой колеей, что, попади туда, не вдруг выберешься, и сунулся в корявый болотный березняк, в самую густеру. Под ногами зыбь пошла – вдырился. Схватило ногу взасос, насилу вывязил. Шлеп-пошлеп дальше. Осинник попадать стал, разреженный пихтой да елкой. Завалы вокруг – ураган прошел. В одном таком месте разрыт муравейник, заломана рябина – на земле свежее ягодное крошево и когтистые следы. Подшумел зверя, он где-то тут, рядом. Прислушался: тихо, только рябчик посвистывает. До рябчика ли? Убираться подальше от костоправа надо – стрелять нельзя, не старое время, да он-то этого не знает. Чавкаю по сырому! Вдруг затрещало и рявк пошел. Замер я. Хрустит ближе и ревет с храпом: хыкр-хыкр-хыкр. Не поглянулось мне, встал за выворотень, авось пронесет. Не тут-то было, ломит прямо. Вот уж качнулись стволы, дрогнули ветви, шумнули листья наверху. Дышит: хук-хук-хук… Ружье изготовил: хоть зверь и под запретом, да и своя шкура чего-то стоит…
– Ах-ты, леший, чтоб тебя, горбоносого, паралик расшиб, перепугал до смерти: глаза навыкате шалые, ноздри раздуты, уши вразлет, рожищи корягами раскинул. Стоим, смотрим друг на друга. «Что, не того искал?» – спрашиваю. Только схрустело, и будто ветер прошел. И вдали уже со стоном: хыкр-хыкр-хыкр. Ощущение опасности миновало, но не исчезло совсем. Медведь есть и, возможно, рядом, таится, ждет, чтобы человек прошел. Развелось его немало, следы там и сям попадаются, а чтобы с самим встретиться, далеко не каждому случается. Другой раз в колее муть не улеглась еще, только-только тут был, а сколько ни озирайся, не видать, хоть и велик. Вроде бы сторонится, да кто его знает, зверь ведь. Доброму человеку встреча и ни к чему, а дурного отведет от соблазна.
Солнце светит в затылок и уж порядочно жарит. Тягун долог: час идешь – предела не видать.
Конец сентября. Трава одрябла, березы выжелтились. Последние благодатные деньки бабьего лета. Под ногой становится суше, деревья вокруг расступаются – впереди залитое солнцем пространство – голая покать охристого цвета до темной полосы ельников вдали, у самых курумов – каменных осыпей. На ней кое-где лиственницы-коряги с изодранными грозой стволами, сухие, отбеленные солнцем, выветренные до того, что под носом-долотом желны звенят.
Перевожу дыхание, оглядываюсь. От яркого солнца глаза щурятся. Внизу золотистая кайма березняка, над ним кое-где факелами вершины лиственниц. Чем ниже скользит взгляд, тем больше бледнеют краски. Долина Ая в самом низу скрыта белесой дымкой тумана. За нею буреют свежие выруба – расчищается место для нового водохранилища. За ними веселые желтые горки. Далее и выше полоса сосны зеленеет, а за ней темные ельники переходят в синюю волну следующей гряды, затем лазурную и, наконец, в жемчужно-матовую в самой дали – это Урал-Тау – главный хребет.
Идти чрезвычайно трудно – под сникшей травой, которую само по себе разрывать нелегко, как в омуте не видно ухабистого дна. Эти незаросшие прогалызины, по одной из которых иду, как спутанный, имеют свою историю. Раньше, когда не было железной дороги, завод жил на древесном угле. Заготовляли его многими тысячами коробов и свозили на заводской двор. За полтора века извели леса вокруг на десятки верст. И какого леса! Сосна, ель, лиственница в обжиг шли. Редкие коряги-монстры, истерзанные грозами, – свидетели той поры. Они так велики были, что свалить их дроворубы не могли, да и возчикам оказывалось не под силу свезти их на углевыжигательные печи. Кое-где делянки расчищались под покосы, кое-где прошли палы. Но и покосы, заброшенные давным-давно из-за того, что скотина перевелась, и опаленные места затянулись пыреем, частым осинничком, приземистым, объеденным лосями. Но уж ни сосна, ни ель, ни лиственница прижиться отчего-то не могут, хоть и прошло с тех пор лет сто. Ах, как много воды утекло. Заросли выруба, кроме редких плешин, как вот эта, поднялся лес, да уж не тот. Корявая береза, горькая осина, кое-где пихта, подлесок, перевитый хмелем, – уремный сор, малодоступный и худо обживаемый: зимой его насквозь просвистывают ветры, и негде укрыться глухарю, отстояться в буран лосю.
Ну что ж, не здесь, так в другом месте отстоится сохатый. Я иду и думаю о том, что не совсем скуден лес зверем: есть медведь, лося больше стало, нет-нет, да и заяц выскочит. И глухарь не перевелся еще, только дальше от дорог, вглубь забирается – нелюдимая птица. И радостно от этой мысли, и тревожно: все больше дорог становится, все меньше тихих мест остается. И цепляется мысль за соломинку: не привыкнет ли человек к глухарю, как привык к белке в парках, и не перестанет ли преследовать дремучую птицу?
Звонисто, с переборами, бегут ручьи вниз к Аю, по гальке, по каменной плитке, меж кручинисто сникшими ивами, ломкой калиной, по-вдовьи согнутой черемухой.
Поясницу ломит, крыльца, болят, скинуть бы ношу с плеч, упасть в сухой пырей, да искус велик добраться до верху. Истекаю по́том, хватаю пригоршней воду. Плещу в запаленное лицо и опять вздымаюсь, запинаюсь о скрытые пни, сучья, кочки, вывертываю ноги, падаю.
Вдруг все изменилось, будто из дымной избы попал в палату, отделанную зеленым бархатом с золотыми прожилками. Скинул мешок, сел, навалился на еловый ствол – и не шевельнул бы ни рукой, ни ногой. Тихо, только синичка-гренадерка мышкой в ветках снует. У нее своя жизнь и до меня нет дела. Редко она видела тут людей, а может, не видела совсем. Да и что делать тут человеку – ни грибов, ни ягод. Если и забредет случайно, следа во мху не оставит. В минувшие времена староверы в таких местах скиты ладили, непримиримые старцы молились здесь своему суровому богу. Еще лет тридцать назад, говорят, попадались местами черные раскольничьи кресты. Гренадерка хохол навострила, хвостик вздернула, перелетела.
Слышен говор ручейков, а где они – не видно. Верчу головой и понимаю: ручейки под рыхлой почвой из перепревшей хвои, трав и мхов, накопленной веками на камне. Еловое царство. Белые лишайники, зеленые мхи, солнечные пятна. Нет чувства подавленности, которое обычно оставляют ельники. Думаю: та самая ель или нет? Отламываю ветку – она утыкана вокруг густыми мелкими жесткими хвоинками, словно ершик, какими чистят в бутылках, кажется мохнатой, кора в мелкой чешуе. Между корнями ели, под которой сижу, выбулькивает из самых недр, набравшись векового холода, жгучая родниковая водица, выглядывает на свет белый на одно лишь мгновенье и опять укрывается мягким мхом.
Студеная вода омывает корни, постоянно держит их в холоде, замедляет сокодвижение, ствол дерева получается плотным, кольцо к кольцу, без прослойки рыхлой ткани. Свирепые ветры в горах гнут его в бараний рог, звонкие морозы приучают к выносливости. Так я объясняю долголетие ели, ибо никто не скажет точно, от чего оно зависит.
Выискиваю глазами самую высокую. Она густа, как кипарис, и почти черна, вершиной уперлась в синеву, последняя мутовка суха, значит, перестала расти. Вспоминается отчего-то мамина сестра, тетка Татьяна. Овдовевшая рано, она все ждала своего Егора, так и не вышла в другой раз замуж, хотя, говорят, и сватались хорошие мужики. Может, и все еще ждет, кто заглянет в чужую душу. Теперь, когда моя жизнь давно одолела зенит, мне понятней стала тетка со своим бесконечным ожиданием, неизбывным терпением, и по-хорошему жаль мне ее. Люди избегают этого слова, будто жалеют только слабых. «Жалел он меня», – говорит она о Егоре. Оттого, может, и терпения хватает. Ловлю себя на мысли, что люблю все, пожившее на своем веку: мужика ли, накопившего ума и не растрясшего по мелочам его, не избывшей ли еще красоты женщины, ходьбу до предела смертельной усталости, благостную тишину вечера где-нибудь у скособоченного стога с приставленными к нему и забытыми граблями, умиротворяющее тепло осеннего солнца перед долгим ненастьем.
Над сухой мутовкой белая полоса – летит самолет из Челябинска в Москву. Пассажиры, должно, освоились, отстегнулись от кресел и с высоты девяти тысяч метров глядят на диво дивное земли – на горы, изрезанные падями, долинами речек – словно мозг извилинами – на зеркальца озер, тонкие ниточки дорог в поворотах и петельках и что-то на них будто шевелится, различимое лишь острым зрением. Все уплывает под крыло и не запоминается. Наметанный глаз пилота отличит пруд от озера, старую дорогу от новой, свежий карьер, вершину самой высокой горы, словно мохом отороченную полосой черно-синих ельников, желтые пятна старых покосов. И тут перед ним откроется новый вид. И, может быть, прежде чем я успею вскипятить и напиться чаю, пассажиров поглотит метро, и затеряются они в безмерном городе, среди шумных проспектов, как теряются чистые капельки в журчащих подо мной родничках. А я буду наслаждаться безлюдьем, покоем и тишиной, как в первый день творения, забуду городскую суету, заводские заботы, газетные хлопоты, заседательскую бестолочь, служебную вежливость, сотрудников с их нуждами, сессию сына, которую он, по всей вероятности, завалит, внучкин кашель, сердечные покалывания у жены – пусть простит – этот день выстрадан, этот час свят, я проживу его один и никого мне не надо…
Ветка качнулась. Я лося принял за лешего, нет – вот он, леший-то; сухонький, сгорбленный, котомка за плечами, в руке посошок, скок-поскок с кочки на кочку. Уж не из скита ли? Ба-а!
– Здравствуй, Хлебушко!
– И то гляжу, никак Васька. – Старичок-лесовичок улыбается провальным ртом. – Охотничаешь? Кого подстрелил? Ну-ну, не попало, выходит. А тамо-ка, в россыпях, рябки есть, косачика согнал на мыску. Да-а.
Он не спеша снял котомку, устроил ее аккуратненько у ствола, приладился сам и поджал коленки.
– Ноги бегают? Семье можется? Вот и ладно.
Сивая голова, борода висячим мхом, тощее тело – из костей будто да сухожилий – усохло до деревянной твердости. Из-под мохнатых бровей, из глубинки, глазки родничками поблескивают.
– Вот и ладно, что живы-здоровы, – повторил он, – вот и хорошо.
Я знал его с тех пор, когда он работал еще в старом мартене. Звали его когда-то Глебом. Глеб, Глебушка… Может, отсюда и прозвище, а может, и нет.
Он припадает к студеной струе, и сходство с лесовиком-лешим усиливается. Пьет – двигаются волосатые уши. Откидывается, пропускает через костлявую горсть мокрую бороду. Не спеша развязывает котомку, шарит в ней, что-то перебирая и укладывая, достает сверток в белой тряпице. Развертывает, тряпицу стелет на коленях, кладет булку, пластики сыра, две помидорки да спичечную коробку с солью.
– А что, Хлебушко, ягода нынче есть?
– Брусничка есть, клюковка есть.
– Что ж пуст идешь?
– Не за тем ходил.
– За чем, Хлебушко?
– Много будешь знать, скоро состаришься. Я много знаю, так вишь какой.
Он разламывает булку, глядит в разлом, будто пытается постичь тайну. Сжимает кусок в горсти, распускает пальцы и глядит, глядит, как ломтик расправляется, принимает первоначальную форму, и не в силах сдержаться, восклицает: «Ах, хлебушко-то какой! Хлебушко-то…»
Старик пережил двадцать первый год, войну, и между ними многие невзгоды, страх голода вонзился в него острым якорем, засел глубоко и надежно. Каждый раз перед едой, разламывая кусок, разглядывает как непостижимое, недосягаемое разуму чудо, качает головой: «Ах, ребята-ребята, хлебушко-то какой стали пекчи, белый да мягкий».
– Ныне морошки дивно в болотце было. – Старик мочит кусок и отправляет в рот. Лицо его сжимается гармошкой, борода метет воздух.
Я достаю мясо, масло, яйца, предлагаю. Хлебушко вертит головой.
– Рыжичков вот такухоньких на засол принес. Зеленью взялись вроде старинных денежек – ум отъешь. Груздки есть, белых насушил, опят – всего довольно, грех гневаться.
Старик знал лес, как свой двор, и не брал что ни попадя. Если за рыжиками пойдет, так хоть немного, а возьмет одних рыжиков, да не всех подряд, а у коих шляпки рублевиками. Если в пестере подъельничные грузди, так скользкой желтизной один к одному поблескивают. Земляника в туеске глаз веселит, черника в корзинке – сизый дымок без сориночки.
Однако ж ходил старик зачем-то в этакую даль.
– Что ты тут делал, Хлебушко?
Старик глухонем. Ну и молчи. Смотрю на кусок, который он держит над ладошкой, сложенной ковшичком, вспоминаю свою бабушку, свою Стару. Идет, бывало, с чашками от стола, остановится, поднимет с пола крошку.
– Стара, крошкой-то, что ли, наешься?
– Грех ронять. В каждой крошке, почитай, капля пота – вон сколько людей топчется возле зернышка, а из зернышка крошка и выйдет.
Вспоминается школьный друг Вовка Гладков. Война. Большая семья. Отец на фронте. Ушел из пятого класса на завод. Бежал как-то из ночной смены, пересекал дорогу, и сбило машиной. Из кармана фуфайки вылетел кусок хлеба. Как рассказывал потом Вовка, не чуял ни боли, ни того, что ноги переломаны, видел только хлеб на обочине и боялся – поднимут прежде, чем доползет. Дополз. Потом все лето пролежал в больнице.
– Золотой корень ищешь, что ли, Хлебушко?
Двигаются уши, метет борода воздух. Так он и скажет тебе, где растет золотой корень, разбежался. А может, и не в золотом корне дело. В чем же тогда?
– Хлебушко, на фронте-то был?
Жует, глядит, чтоб не упала крошка.
– Тут не легче было. Металл-то до войны по восемнадцать часов в печке сидел, а мы довели плавку до шести. Три плавки в сутки, вот и суди. Придешь на смену: пропотел – хорошо, не пропотел – угорел. Сунут тебя головой в бочку (стояла такая в цехе) – и опять к печке.
– Да ведь так можно раз, два, ну неделю, но как же годами выдюжить?
– А так и тянули жилы.
Старик говорит, не выставляя свою работу, не выпячивая себя, как бы кто-то другой поднимает на поверхность памяти его жизнь.
– Само главно тут – порядок. Без порядка ничего бы не вышло. На работу – свято, боже тебя упаси опоздать. За тридцать годов раз только опоздал, вот как это со мной было. Прибежал домой из цеху – дрова кончились. Оглобли в руки – да в лес. Наковырял пеньков да живой ногой обратно. Прилег на часок, парнишке наказал разбудить. Ухом к подушке – и как утонул. Открыл глаза, как по голове ударило – время к работе приступать. А парнишечка мой привалился к печке, спит. Соскочил, сунул ноги в ботинки – и айда понужать! Осень, грязь, место неближнее. Завязил ботинок в грязи, останавливаться некогда, так и прилетел в цех в одном ботинке.
Он глядит в тряпицу, свертывает ее, кладет в котомку.
Не одной же работой, думаю, наполнена была его жизнь. Была же у него любовь, мечта? Хотел же он чего-нибудь? Стремился куда-то?
– Была, – улыбается, – была мечта. Я, Васька, коней шибко любил. Дед мой вошшиком на заводе робил, тятя тоже. Свою лошадь держали. Тогда, за что ни хвати – лошадку дай. Ну, я, сколь помню себя, возле деда вертелся – по дрова, по сено на Бурке, на покос летом. Косили по праву сторону Уреньги. Вылезешь утром из балагана, елань сиза. Тятя с дедом машут вовсю, рядов уж по пять прошли. Валы зелены – роса с травы сбита. Солнышко выйдет, займется елань огоньками дивными, а капли-то крупны. Баско! Бурко мордой в дымокур – и стоит. Только и ждешь, куда бы дедушко послал. Тогда снимешь путы, заткнешь травой колокольчик, заберешься верхом, припадешь к гриве, поддашь пятками… Ах, хорошо! Была, была мечта лошадку подержать. Когда в мартыне робил (он мартен, как и многие старики, называл мартыном), не до коня было. Думал: пойду на заслуженный, тут и заведу. Конюшенку срубил, саночки легкие изладил, чтобы в свое удовольствие когда с ветерком прогнать, да…
И любовь была, а что ты думаешь? Без этого нельзя. Молодыми-то мы шибко любили друг дружку. А потом уж по привычке жили. Это всегда так бывает в старости. Старость она, старость и есть.
– Коня-то так и не купил?
Отвечает не сразу, видно, вспомнил что-то из своей молодости, из своей любви.
– Дома сносить стали, и наш угодил. Ну, моя и взъерепенилась: в казенную, говорит, пойду. Старая кочережка, надоело ей, видишь ли, золу прегребать, печку топить, воду таскать. Так и не уломал. Поперешная она у меня смолоду: заладит свое, что кобылу супротивную не своротишь. Э-эх, а я бы еще и теперь на лошадке поробил, пока не ослаб, не сел на подколенну-то жилу.
Он говорит как бы сам с собой, как бы думает вслух.
– Мечте как не быть? Это теперь все есть, а бывало мечтал аржаного хлебушка вдосыть – и ничего бы не надо больше. Учиться тоже мечтал, да две зимы только и проходил в школу. Купил мне тятя карандаш: учись, говорит, пока не испишешь. Стал карандаш маленький, я его в патронную гильзу вставил, исписался совсем – на том и ученью конец.
Теперь ешь-пей, учись, а носить, так не знают что и надеть на себя. Эх, ребята-ребята, да когда жили-то так, как теперь? И не мечтали, и во сне не виделось – живи да радуйся. Да-а, – продолжал он после раздумья, – жизнь долгая, всего в ней перебывало: и зависть была, и досада. А завидовал я, Васька, на хороших ребят. Погляжу, у кого ребятёшки толковы, и думаю себе: легко сойдет тот родитель, не крякнет – дело его не загинет.
– На своих детей досадуешь, Хлебушко?
– Как сказать тебе? Все вроде пристроились не сбоку у жизни. Манька в школе учит, Федькин патрет у проходной висит, Митька с Дарьей тоже не из чужих рук кусок выглядывают. А вот Петька, тот не задался. Он и парнишечкой еще дерзким на руку рос и все себе бы, бог с ним, все себе. А в кого? Что деда, что тятю возьми, сколь работы на своем веку переробили. И ведь не то, чтобы негодным был, а как-то полегче жить ладит. Думали со старухой: этот далеко ухватит, высоко махнет. Университет кончил – надо думать! Как же вышло-то?
Старик недоумевал, как могло случиться, что университет, который представлялся горой, уходящей в облака, и сколь ее там, этой горы, он даже приблизительно представить не мог, как же этот университет не научил правильно жить его Петьку? Почему не хватает ума понять то, что понимает он, Хлебушко, совсем неученый старик? Ведь это так просто.
– Приходит раз с мешком и лопатой: покажи, дескать, где золотой корень растет. «Зачем он тебе?» – спрашиваю. Хохочет: «Жениться, говорит, в третий раз надумал». Вижу, не в ту сторону дело повернуто, говорю:
– Пенсию не проедаю, возьми – она моя. А золотой корень не мой, не наш с тобой он, Петька.
Старым дураком назвал.
– Что, – говорю, – тебе надо? Чего не хватает-то? Пить-есть нету? Голые ходите? Пошто тебе мало-то все? Солнышко ты с собой возьмешь? Небушко синее прихватишь? Песенку птичью? Шиш, брат Петька, не возьмешь с собой этого.
– А тебе золотой корень зачем?
– Незачем, так.
– Незачем, а спрашивал.
– Слышал, где-то есть тут, отчего бы и не спросить.
Хлебушко несколько озадачен, молчит, но не долго.
– Эх, пей-ка, на дне копейка, – зачерпнул в двухлитровую банку воды, закрыл ее крышкой, полюбовался водою на свет и поставил банку в котомку.
– Куда ты ее, Хлебушко?
– Старухе на чай.
– Да как же ты дойдешь-то?
– Мухой я, – и хитренько подмигнул: – Такой водички, Васек, на земле, может, нету.
И ушел. Я спохватился, что не спросил об ели-долгожительнице. А потом встал и пошел в гору.
МИНЬКА
Ветеринар Олег Александрович возвращался домой из села Кувашей, где ставил коровам уколы, и на обочине увидел медвежонка.
Было начало мая, трава только проклюнулась, если не считать прострела, белевшего там и сям, да желтых звездочек гусиного лука. Медвежонок, наверное, отстал от матери, когда переходили дорогу, или скатился с обрыва. Олег Александрович прихватил его в кабину «газика».
Дома находка вызвала восторги. Кирюша ликовал и хлопал в ладоши. Его мама, Ольга Сергеевна, также была очень рада. Назвали его Минькой, по желанию Кирюши, а не Топтыгиным, как бы хотелось Олегу Александровичу. Приходили смотреть соседи и сослуживцы, как медвежонок посасывал молоко из бутылки, слизывал мед с ложки, чавкал, косолапо бегал по квартире, спал, свернувшись в пушистый шар, на овчине, которая раньше лежала у кровати, чтобы на вставать босыми ногами на пол.
Вскоре Миньке бутылки не стало хватать, и молоко пришлось носить в трехлитровой банке. У него оказался превосходный аппетит, тонкий нюх – он безошибочно определял, где лежит варенье, сгущенное молоко и другие лакомства. А еще через некоторое время Ольга Сергеевна пожаловалась Олегу Александровичу на хаос в доме, тяжелый запах и причиняемое зверем беспокойство.
– А представляешь, что будет, когда он вырастет? – спросила она и заключила: – Нет, так дальше нельзя.
Олег Александрович как раз собирался в деревню наутро и, когда Кирюша еще спал, взял Миньку с собой и высадил его в том же лесу.
Оставшись один, Минька принялся бегать, гоняться за бабочками, кувыркаться в траве, а когда утомился, лег под, размашистой елкой, похожей на зонтик Ольги Сергеевны. Солнышко разморило медвежонка, и он уснул.
Проснулся после полудня, потянул носом воздух: пахло смолой, муравьями, мухоморами и лабазником. Он повернулся в другую сторону и снова не уловил вкусных запахов: ни сгущенного молока, ни меда, ни отварной колбасы с яйцом всмятку. Даже отвратительного запаха креозота, который приносил с собой Олег Александрович, когда возвращался из своей лаборатории, где содержались для опытов кролики, – и того не было. К вечеру Минька почувствовал беспокойство и настоящий голод, но сколько ни кружил возле кустов, не нашел знакомой миски.
Утром он пошел по глухой дороге, заброшенной людьми потому, что построили другую. В одном месте ему попался гриб, он пожевал его без аппетита, в другом набрел на землянику. Земляника понравилась, но ее было немного, и только еще больше захотелось есть.
Он шел и шел, пока не потянуло горелым. Подумалось, что Ольга Сергеевна подожгла картошку на сковородке, и повернул на запах. Вышел он на березовую опушку, за которой начиналась свежая вырубка. В самой середине горел костер, а вокруг стояло несколько вагончиков. Над костром висело большое закопченное ведро, из него-то как раз и пахло пригорелым. В тени вагончика спала Ольга Сергеевна. Минька подошел и лизнул ее в нос. Она открыла глаза, вскрикнула, вскочила и оказалась вовсе не Ольгой Сергеевной, а теткой Марфой, служащей кашеваром в бригаде лесорубов.
– А, чтоб тебя! Напугал до смерти. А сон-то какой: помстился внучок Алешенька, будто из лагерей вернулся и ласкается к бабушке. А внучок-то, вишь, лохматый.
И всплеснула руками:
– Опять прижгла! Работники придут, чем кормить стану? Экую прорву мяса извела.
А тут и лесорубы пришли. Старушка вину на Миньку свалила: дескать, не один он тут, с медведихой – в кустах трещит. Руки-ноги ходуном ходят от страху, до жаркого ли тут.
– Перепугалась она твоего храпа, тетка Марфа, небось, бежит, дух перевесть недосуг, – пошутил самый молодой из лесорубов Иванко Крюков.
И все обратилось в шутку. Подгорелое жаркое съели. А Миньку так накормили, что он едва до вагончика доковылял, заполз под него и тут же уснул.
По утрам лесорубы вставали рано, завтракали и уходили на лесоповал, а Минька оставался с теткой Марфой, которая скоро привыкла к нему и привязалась, будто к собственному внуку.
Хорошая в это время у него была жизнь, даже лучше, чем у ветеринара Олега Александровича. Он бродил сколько угодно вокруг лагеря, а вернувшись, находил угощение, припасенное для него теткой Марфой: то банка с остатками консервов, то куриные косточки, то чай с вареньем. А вечером Иванко Крюков дразнил куском сахара – заставлял ходить на задних лапах на потеху мужикам или валялся с ним в траве и теребил за уши, а Минька понарошку кусал Иванковы руки.
А один раз приехал с управляющим корреспондент. Он то отходил от Миньки, то становился перед ним на колени и говорил: «Улыбку, малыш! Снимаю…»
А потом привезли газету, Иванко читал у костра вслух, и все хвалили Миньку – очень уж он вышел на снимке смешным да забавным: стоял на задних лапах, в передних держал консервную банку и глядел, склонив голову, прямо на людей. А под снимком было написано о том, что человек и зверь подружились, и что медведю теперь нечего скрываться в глухом лесу.
Так продолжалось до осени, пока лесорубы не уехали – не то по домам, не то на другую делянку. На прощание Иванко Крюков пошутил:
– Спишь, как медведь, дай лапу на прощание.
– Ишь, разъелся, – сказала тетка Марфа и сложила к вагончику остатки еды.
Машина уехала, и наступила тишина. Костер подымил и погас.
Через неделю в город проникли слухи о том, что на автотрассе шоферам попадается молодой медведь, и достигли общества охотников. Собрали собрание: судили-рядили, что делать?
После долгих пересудов решили: увезти медведя в бурелом, куда люди не ходят, – там он найдет себе берлогу и переспит до весны.
Так и сделали.
А тут и зима началась, подули студеные ветры, погнали вдоль дороги снежные завертки, закоченела земля. День стал коротким, и непроглядная темень нависала над лесом.
Возвращался раз в позднее время из села Кувашей ветеринар Олег Александрович и увидел на дороге: маленький медведь бредет тощий-претощий, шерсть висит на нем. Узнал Олег Александрович Миньку, но не остановился. Куда теперь с ним?









