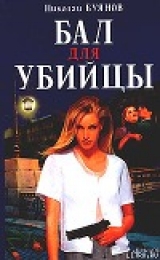
Текст книги "Бал для убийцы"
Автор книги: Николай Буянов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 24 страниц)
– К счастью для нас, – лукаво улыбнулась мадам Элеонора. – Если бы не вы, мы бы покрылись плесенью в этом чертовом захолустье.
От ее нарочитой грубости (даже грубость ей шла – в ней словно чувствовался аромат Парижа в пору ранней весны) Андрэ весело рассмеялся и предложил:
– Хотите, я сделаю ваш портрет?
– Сколько же у вас талантов, дорогой мой? – спросила она. – Вы хоть что-нибудь умеете делать плохо?
– Умею. – отозвался тот. – Только для этого мне придется очень постараться.
Вскоре все постояльцы были одарены своими портретами – Андрэ рисовал их в гостиной у камина или возле большой напольной вазы с цветами. Мадам Элеонору он запечатлел стоящей на лестнице и облокотившейся о перила, в шикарном вечернем платье, надетом специально ради такого случая. Сам я предстал опирающимся на свое ружье фирмы „Зауэр", которым очень гордился, в охотничьем костюме и тирольской шляпе с пером.
Когда они собрались уезжать, их провожали самыми теплыми словами. Все в полном составе высыпали на крыльцо, мужчины по очереди приложились к ручке очаровательной лыжницы (она была особенно хороша в яркой курточке и алой вязаной шапочке – прощальный подарок Элеоноры). В нашу жизнь они вошли напоминанием о нашей собственной юности, от которой мы отреклись во имя борьбы…
Настоящее имя Андрэ было Андрей Яцкевич (он действительно когда-то учился на юриста, но был отчислен с третьего курса за участие в демонстрации „Черной сотни"). Как звали его „невесту", я узнал лишь много позже, как и то, что оба они были агентами IV отделения Департамента полиции. Отель „Приют горных странников" накрыли на следующее утро, ровно через сутки после их отъезда. Одних арестовали сразу, на месте, Элеонору Ланину, женщину, которую я любил и перед которой преклонялся, взяли на вокзале в Бабенау. Через год она повесилась в камере-одиночке, не дожидаясь суда.
Спасся я один…
Чья-то высшая воля сохранила мне свободу (на некоторое время) и жизнь. Я не мог ее потерять, ибо отныне знал, для чего живу. Чтобы идти по следу той, что в течение нескольких дней собирала на нас материал для ареста. Полиции было известно все: наши портреты были расклеены на каждом углу (Андрэ, Андрэ! У него, как у художника, была отличная профессиональная память на лица.»), „молодожены" сумели тайно обыскать наши номера в отеле и даже снять копии партийных списков „Народной воли".
Одного я не мог простить себе: что Андрей Яцкевич умер на вокзале в маленькой уездной Пензе, под колесами поезда, а не от моей пули.
Скрыться от облавы мне тоже не удалось, хотя Коленька Клянц сумел каким-то образом переправить к себе в купе саквояж, в котором лежали опасные для меня документы и револьвер. Я даже не удивился, когда жандармский офицер, просмотрев паспорт (Калъдерович Яков Михайлович, 1860 г. р., коллежский регистратор, чиновник 14-го класса при Управлении по делам налогообложения), нахально улыбнулся и кивком подозвал двух держиморд и они втиснулись в купе и встали по бокам, так чтобы я не сумел вытащить из кармана оружие.
– Господин Гольдберг, если я не ошибаюсь? Вот и отбегались, вот и славненько. Наручники на него!
Я улыбнулся ему в ответ и безропотно протянул руки. И почему-то подумал, что та девушка пела и впрямь замечательно, могла бы сделать себе карьеру на этом поприще. Жаль, службу выбрала не ту…»
– Что в саквояже?
Жандармский ротмистр взял чемоданчик в руки. Любушка видела, как смертельно побледнел Николенька, и быстро защебетала:
– Ах, это мой. Здесь кое-что из личных вещей.
– Мне очень неловко, мадемуазель, но я обязан досмотреть.
– Но, господин офицер, это вещи… гм… интимного свойства, вы понимаете?
– Не волнуйтесь, ваше «интимное свойство» осмотрит женщина-агент.
Крайне неприятного вида дама в пенсне, с обесцвеченными волосами, забранными сзади в пучок, проскользнула в купе, змеиным взглядом пригвоздила Николеньку к месту и запустила в саквояж длинную узкую ладонь. Любушка отодвинулась с чувством брезгливого испуга – дама-полицейский удивительно напоминала обликом злющую немку-гувернантку, которую Люба особенно ненавидела в детстве… Гувернантка, впрочем, отвечала ей тем же.
Агентесса немного покопалась внутри, выудила на свет кружевной лиф – невзрачные, неопределенного цвета глаза тут же вспыхнули чем-то сладострастным. Любушку передернуло, стало страшно (что стало бы, попади я в руки этой жабы!), однако она пересилила себя и холодно произнесла:
– Вы за это ответите. Я дочь профессора Немчинова, моего отца знают в Петербурге…
– Больше ничего? – спросил ротмистр у женщины.
Та с сожалением покачала головой. Ротмистр коснулся пальцами фуражки.
– Вы должны простить меня, сударыня: служба. В вашем вагоне, в одном из купе, ехал опасный государственный преступник.
– Боже! – Любушка схватилась за сердце. – Он ведь мог убить нас! Николя, вы слышали? Однако при чем здесь мы?
– Не беспокойтесь, мы проверяем каждого в этом поезде, таков порядок. Еще раз прошу простить. – И жандарм ретировался. Девица со змеиным взглядом напоследок улыбнулась Любушке так, что та почувствовала дрожь в позвоночнике.
– Он вез бумаги и револьвер, – сказал ротмистр в коридоре, плотно прикрыв дверь за собой. – При нем их не обнаружили, значит, кому-то передал. Кому?
Поезд отправили только через час – вместо положенных по расписанию двадцати минут. Люба нашла Николеньку в тамбуре, в вагоне для курящих. Она впервые увидела его с сигаретой – он неотрывно смотрел в окно, в темень и дождь, мутными струйками расползающийся по стеклу. А он симпатичен, вдруг подумала она. Высокий чистый лоб, внимательные серые глаза, и губы, наверное, чудо как хороши… Разве что полнота – но полнота некоторым мужчинам очень даже идет, делает их более значительными.
– Кто это был?
– Что? – Он резко обернулся – сконфуженный, готовый к отпору, даже испуганный.
– Человек, которого арестовали. Ты ведь знаком с ним?
– Я не понимаю, о чем ты говоришь.
Любушка вздохнула:
– Это я спрятала револьвер и бумаги. Их обязательно нашли бы в саквояже.
Николенька вдруг схватил ее за руку и притянул к себе. Глаза его стали колючими. Теперь он совсем не походил на того милого неуклюжего медвежонка, которого она знала раньше.
– Откуда тебе известно…
– Я слышала ваш разговор через стенку купе. Только не вздумай, будто я следила за тобой, это вышло случайно.
– И много ты услышала? – спросил он холодно.
– Немного, но… Пожалуйста, отпусти руку, мне больно.
Николенька послушно разжал пальцы. Он не отрываясь смотрел на спутницу, будто видел ее впервые.
– Где же ты их спрятала?
– Револьвер – в бачке для воды, за умывальником. А бумаги… Отвернись, я достану.
…Он молчал, молчала и она – в темном купе, сидя рядышком на мягком сиденье. Тихо-тихо, будто боясь спугнуть кого-то, позвякивали на столе тарелочка и ваза с неживыми цветами. Мерно стучали колеса, окружающий мир едва заметно покачивался, и молодых людей то прижимало друг к другу, то отодвигало на некоторое расстояние.
– Почему? – задал он нелепый вопрос.
– Что?
– Почему ты это сделала?
Она зябко поежилась.
– Потому что вы симпатичны мне, сударь. Приличная девушка не должна говорить такое первой, но… Что же делать, коли сами вы не догадаетесь?
– И тебя не смущает, что я связан…
– С террористической организацией? Нет, не смущает. Тем более я давно догадывалась.
– Давно?
– Ну, недавно. С некоторых пор. – Люба твердо посмотрела ему в глаза. – И еще я хочу сказать тебе. В общем, ты можешь на меня рассчитывать. Всегда, что бы ни случилось.
До самого окончания путешествия (поезд прибывал в Петербург лишь поздним утром следующего дня) они оба просидели в купе, прижавшись друг к другу. Любу прямо-таки подмывало забросать спутника вопросами, но она сдерживалась, понимая: одним, пусть даже таким смелым поступком полного доверия не завоюешь. И все равно – нервный восторг, дрожь в преддверии чего-то неизведанного и наверняка опасного, странное влечение к Николеньке – от всего этого голова сладко кружилась.
А потом наступил Петербург, Любушкин змей-искуситель, город ее мечты и какой-то неизъяснимой любви, почти неприличной страсти…
Он плыл, словно гигантский корабль, в холодном полудожде-полутумане – типичная погода для этого Богом проклятого города, возросшего на костях и болотах. Сонечка в письме обещала встретить сестру на вокзале, поэтому та, едва состав достиг перрона, намертво приклеилась носиком к окну, выискивая знакомую фигуру среди встречающих. Сонечки, однако, не было. Вместо нее на платформе к Любе и Николаю подошел какой-то господин в сером кашемировом пальто и старомодном котелке. Лицо его выглядело слегка помятым и отливало нездоровой желтизной (печень, догадалась девушка).
– Любовь Павловна? – вежливо спросил он и приподнял котелок.
Голос был участлив и немного официален – от такого сочетания Любушка ощутила вдруг неприятный холодок под ложечкой.
– Что вам угодно?
– Прошу прощения. Пристав следственного управления при Петербургском Департаменте полиции, Альдов Алексей Трофимович. – Он замялся на секунду. – Боюсь, у нас для вас плохие новости. Не угодно ли будет проехать со мной?
Они узнали, что я спрятала револьвер, пронеслось в голове Любушки. Сейчас схватят, бросят в подвал и начнут пытать… Боже мой, во что влипла, дурочка!
– Где Соня? – ледяным голосом спросила она (держаться – так уж до конца!). – Она обещала меня встретить.
– Софья Павловна скончалась.
…Он что-то сказал, этот странный господин (Любушка попробовала вспомнить его имя – он ведь назвался, перед тем как… Что-то расхожее, русское), но она не осознала, а переспросить постеснялась. Что-то о Сонечке – она должна была приехать на вокзал, да, видно, задержали срочные дела. Или нет?
Скончалась.
– …во вторник вечером, у себя дома. Мы послали телеграмму от казенного ведомства, но она, видимо, запоздала.
– Где Соня? – спросила она.
– В морге, на Васильевском.
Все поплыло перед глазами, город-корабль закачался на серых волнах, окружающий мир почему-то перевернулся, и сквозь внезапную ласковую тьму послышался испуганный голос Николеньки:
– Любушка, милая, тебе плохо? Врача! Кто-нибудь, врача, скорее!
Она не могла выдавить из себя ни слезинки.
Она лежала на смятых простынях, в той самой спальне, в особняке на Невском, где они с Соней, бывало, перешептывались, давясь смехом, или делились самыми «жуткими» секретами ночь напролет (недовольный голос Вадима Никаноровича, Сонечкиного супруга: «Милые дамы, сколько можно? Как дети, честное слово!»).
Неподвижная и бесчувственная, точно деревянная кукла. Только необязательные пустые мысли лениво текли в голове, как в лесном болотистом озере: скончалась. И некому было ей помочь: горничная получила неожиданный выходной, Вадим Никанорович праздновал в «Национале» завершение какой-то крупной сделки.
Скончалась. Не дождавшись меня, именно в тот день, когда (нелепое стечение обстоятельств!) прогремели выстрелы на вокзале, до смерти перепугав несчастного Петю.
– Тебе что-нибудь нужно? – Николенька вошел, прикрыв за собой дверь, сел рядом, на краешек постели, и положил ладонь на Любушкин пылающий лоб. Ладонь была приятно прохладной.
– Как все прошло?
– Ты имеешь в виду похороны? Не беспокойся, прошли как подобает. Отпели в Александро-Невской, народу была тьма-тьмущая, все важные персоны…
– Мне стыдно, что я не смогла пойти.
– Я бы тебя и не пустил в таком состоянии. Доктор наказал полный покой. На вот, выпей-ка…
Она послушно выпила – и покой действительно наступил, краткий, зыбкий, спасительный…
На кладбище Любушка попала только через две недели после похорон сестры – все это время она провела дома у Вадима Никаноровича вместе с Николенькой и Павлом Евграфовичем. Большую часть времени она лежала в постели, то мучаясь от непереносимой жары, то кутаясь в три одеяла, то впадая в глубокое, как колодец, забытье. Доктор не находил у нее признаков физической болезни, однако настойчиво рекомендовал постельный режим.
На десятый день Люба начала вставать. Голова немилосердно кружилась. Она с трудом, придерживаясь за стенку, добралась до зеркала и вяло ужаснулась: лицо бледное, морщины вокруг запавших глаз, спутанные волосы – она явно напоминала сумасшедшую. Еще полдня ей понадобилось, чтобы привести себя в порядок: наложить легкий макияж, сделать прическу (горничная Донцовых Лиза оказалась великой искусницей), избавиться от головокружения посредством бокала вина…
– Приходил полицейский, – сообщил новость Николенька.
– Да? – бесцветно спросила Любушка. – Что ему было нужно?
– Опять расспрашивал насчет того типа, что стрелял в нас.
– В Петю…
– Не обязательно. Он мог целиться в меня или тебя и промахнулся. Бред, конечно, я согласен… Почему ты не в постели?
Она оперлась о его руку и сказала, опустив голову:
– Отвези меня на кладбище.
Сквозь голые ветки дубов и кленов светило равнодушное солнце. Под ногами, стоило свернуть с центральной аллеи, стало слякотно, пахло гнилью и перепревшими прошлогодними листьями. Высокую ограду и черную плиту еще покрывали венки и цветы – свежие, Вадим Никанорович распорядился выбросить старые, с похорон, и купить новые, в магазине Благолепова, что на Васильевском. Любушка положила свой букетик, повернулась к Николеньке и спросила:
– Что это за человек вон там, у склепа? Кажется, я видела его раньше.
– Инженер с судоверфи, знакомый Вадима Никаноровича.
– Он был на похоронах?
Николай пожал плечами:
– Не помню. Да что тебе до него?
Она зябко поежилась.
– Я стала слишком мнительной. От каждого куста шарахаюсь. Померещилось, будто он следит за нами.
«Инженера с судоверфи» звали Всеволод Лебединцев – Николенька поостерегся называть Любушке настоящее имя. За месяц до этих событий он принял на себя руководство Летучим северным отрядом и стал называться Карлом…
Они с особой тщательностью готовились к этому покушению. Для всех членов «боевки» успех или провал дела означал одно – жить или умереть организации. От запланированного взрыва здания Государственного совета пришлось отказаться: план стал известен охранке загодя, за несколько недель (главный провокатор, «агент номер один» Евно Азеф, фактически стоявший у руля террора, работал в те времена особенно вдохновенно). Все до одной конспиративные квартиры были наглухо блокированы. Оставшиеся на свободе руководители высказывали мысль об отказе от активной работы, приток в партию новых сил приостановился…
– Ты должна подумать, – в который раз повторил Николенька, пытливо вглядываясь в лицо спутницы, – они прогуливались по Невскому, пожалуй, впервые после того, как Люба оправилась от болезни.
– Я подумала. – Она подняла глаза к небу, с наслаждением ощутив промозглую ветреную сырость, хотелось идти вперед, сквозь ледяной ветер, сквозь саму Смерть… – Ты не понимаешь. Я никогда не делала… Даже и не пыталась делать ничего полезного людям. Мне доселе было незнакомо это ощущение. А в поезде…
– Ты поступила очень смело, – уважительно сказал он. – Фактически ты спасла мне жизнь…
– Мне этого мало. Мало, мало, я хочу большего! И я ни за что не отступлюсь. Я привыкла добиваться того, чего желаю.
– И чего же ты желаешь? – с улыбкой спросил Николенька.
И услышал ответ:
– Быть среди вас. Неужели это так трудно?
– Сейчас – очень трудно, – признался он. – Все напряжены и растеряны, все подозревают друг друга. Тебе предстоит нешуточная проверка.
Несколько секунд Любушка обдумывала услышанное. Потом осторожно спросила:
– Скажи, смерть Сони как-то связана с тем, что происходит в вашей организации?
– Почему ты так решила?
– Не знаю. Ощущение: тот человек на кладбище, убийца, стрелявший в нас на вокзале, господин, которого арестовали в поезде… Мне кажется, все это звенья одной цепи.
– Софья Павловна была ни при чем, – медленно проговорил Николенька. – То есть она не была одной из нас.
– А Вадим Никанорович?
– Он, как говорится, «сочувствовал», но тоже не был посвящен ни во что серьезное. Просто иногда помогал нам деньгами, и его особняк использовался для конспиративных встреч. По-моему, именно в этом была наша ошибка.
– Что ты имеешь в виду?
Он молчал долго – целую минуту. Потом, решившись, выдал:
– Среди нас действует провокатор.
Любушка остановилась, пораженная.
– Но как…
– Он наверняка один из членов организации, много раз бывал на наших собраниях. Софья Павловна была сторонним человеком, но она могла что-то заметить, возможно, не придав этому значения.
– А убийца придал, – прошептала Любушка. – Он не мог допустить, чтобы мы приехали, – Сонечка рассказала бы о своих подозрениях.
– Нет, – отверг эту мысль Николай. – Кое-кто из наших членов имеет контакт в полицейских кругах. Ему удалось выяснить… Словом, Софья Павловна умерла раньше, чем в нас стреляли на вокзале.
«В меня, – мысленно поправился он. – Петю он задел случайно, а пуля предназначалась мне: Яцкевич мне поручил его ликвидацию. А я всего лишь должен был передать оружие и потом забрать. Если бы не Любушка…»
Глава 8
– Следственный эксперимент? – Следователь нахмурился, полез в стол, кинул в рот таблетку, пояснив: «Сердце жмет», запил водой из графина. – Вообще-то я думал над этой идеей… Чего вы хотите достичь?
– Мне почему-то кажется… – Майя тряхнула волосами. – Нет, я уверена: мальчик видел убийцу.
– Деда Мороза?
– Возможно.
– Но он молчит, – грустно заметил Колчин. – Возможно, напуган: в его положении – если он действительно был свидетелем убийства – это естественно.
Майя с сомнением закусила губу.
– В магазине он совсем не выглядел испуганным. Отрешенным, задумавшимся, сосредоточенным – знаете, словно он решал задачу по математике… Но его испуга я не почувствовала.
– Он сказал, будто играл в разведчика, то есть следил за охранником.
– А охранник тоже следил… – взволнованно подхватила Майя.
– Да. Следовательно, Гриша мог видеть (а мог и не видеть) со спины какого-то человека в маскарадном костюме.
– Вы думаете, это был не Гоц?
Колчин пожал плечами:
– Я привык опираться на факты, уж простите за банальность. Мы обследовали его посох и ничего не обнаружили, а по идее должны были остаться следы: кровь, волосы, мозговое вещество (как ни замывай, все равно лаборатория нашла бы). Таким образом, против школьного директора говорит тот единственный факт, что он отсутствовал на дискотеке с десяти до половины одиннадцатого. Официальная часть с поздравлениями к тому времени завершилась, дети из особо продвинутых могли саморазвлекаться до одиннадцати и тактичный уход начальства восприняли как должное.
– Где же он был эти полчаса?
– По его словам, переоделся и уехал домой.
– И никого не предупредил?
– Его право. В школе оставался охранник и дежурный преподаватель… Хреновый дежурный, как оказалось.
Настроение у Майи резко упало. Улики против Гоца, до сего момента выглядевшие неопровержимыми, вдруг потускнели и стали рассыпаться на глазах. Однако она упрямо повторила:
– Гриша видел преступника. Видел дважды: первый раз в коридоре на третьем этаже, второй – сквозь витрину магазина. Гоц был в толпе, он наблюдал за нами…
– Что же вы не подошли, не окликнули?
– Не успела, – сердито призналась она. – Но лицо Гриши в тот момент… Он смотрел – и вспоминал, понимаете? А потом медленно, будто про себя, сказал: «Убегает…» Или что-то в этом роде. Ничего себе реакция на собственного школьного директора, да? Тем более что тот никуда и не убегал… Просто стоял на улице. Потом развернулся и ушел.
Колчин задумчиво побарабанил пальцами по столу. Какая-то мысль не давала ему покоя.
– Алиби на момент убийства Гоц не располагает, впрочем, как и остальные. – Он выразительно взглянул на Майю. – Нет также ни улик, ни мотива. Единственный свидетель – девятилетний мальчик, заметивший какую-то фигуру в полутемном коридоре – она мелькнула на секунду-две, не больше.
– И что это значит?
– А не мог ли ваш гном видеть кого-то еще, одетого точно так же? – вдруг спросил он.
Майя нахмурилась.
– Но на дискотеке был только один Дед Мороз.
– Откуда такая уверенность? Вы «дежурили» двумя этажами выше (Майя опустила глаза долу). Впрочем, показания учеников, бывших на дискотеке, совпадают с вашими: Дед Мороз действительно был в единственном числе… Однако существует одно узкое место… Вернее, целых три: небольшая каморка под лестницей, туалет для мальчиков и ответвление коридора на третьем этаже, которое ниоткуда не просматривается (и не освещается) и заканчивается тупиком. Кстати, охранника убили именно там – мы установили это по следам крови.
– То есть…
– Там убийца мог переодеться. Не обязательно было толкаться в вестибюле или в зале в карнавальном наряде – можно было принести его с собой. Но в таком случае преступник должен был знать, как именно директор будет одет на вечере.
– И ему было нужно совершить убийство – неважно какое, – выпалила Майя, пораженная сумасшедшей догадкой. – Спалить музей, сделать еще бог знает что, лишь бы во всем заподозрили Гоца!
Колчин молчал, с интересом наблюдая за собеседницей. Некоторое время она раздумывала над собственными словами, потом осторожно спросила:
– Но вы ведь не думаете, что…
– Что все это устроил ваш приятель Бродников, чтобы свалить конкурента? Между прочим, мысль возникла у вас, а не у меня. Каковы его шансы на выборах?
– Лучше бы вам спросить у него, – буркнула Майя. – Как-то не верится, чтобы тот или другой дошли до убийства ради кресла в Думе.
Следователь хотел ответить избитой фразой («Убивают иногда и из-за бутылки водки»), но сдержался.
– Ну что ж. Мысль насчет эксперимента – так сказать, насчет реконструкции преступления – я поддерживаю. Надежда, правда, слабовата… Однако надо же с чего-то начинать (пока-то мы с вами продвинулись вперед слабовато). Возьмите на себя остальных участников, хорошо? Я снабжу вас телефонами…
Погруженная в невеселые думы, странным образом уживающиеся с новыми надеждами (коли удастся получить улики против Гоца, Ромушку скоро выпустят из заточения!), она брела вдоль знакомых провинциальных улиц, одетых в легкий снежок и бумажные новогодние украшения, – здесь прошла ее жизнь… Отчего же – прошла? Жизнь только начинается: новая профессия, новые чувства и взаимоотношения. Все устроится, лишь бы…
Да, лишь бы удалось снять с Романа подозрение.
«Вот так же шла я, не разбирая дороги (где же разобрать, если очки – тю-тю?), босая и в порванном свидетельском платье, оставив неудачливого партийного любовника в его евроспальне с водяным матрасом, когда прыщавый юнец Эдик нагнал сзади и набросился с кулаками („Босс велел кое-что передать…"). За что он так ненавидел меня? Нет, не так: почему он возненавидел меня раньше, в машине, увидев впервые в жизни? Не потому ли…»
У дверей собственной квартиры Майю ждал сюрприз.
Возле стены, привалившись к ней спиной, сидело практически бездыханное тело и мерно посапывало, источая терпкие алкогольные пары. Оно было одето в исключительно грязную дубленку (бывшую бежевую, как догадалась Майя по маленькому незапачканному участку), мокрую вязаную шапочку и мокрые сапожки на меху. Рядом валялась средних размеров пластиковая емкость из-под «Белого медведя». Странно, но тоненькая, как бамбуковая флейта, Келли была не дура вдарить по пиву.
– Ты что тут делаешь? – растерянно спросила Майя.
Анжелика с трудом подняла сонную мордашку и приложилась к бутылке. Поняв, что бутылка пуста, она тяжело вздохнула и попыталась сконцентрировать взгляд на Майе.
– А ты? – задала она встречный вопрос.
– Я здесь живу.
– Да? Никогда бы не подумала.
– Почему же?
– Место тут нехорошее, – доверчиво пояснила Келли. – Чувствуешь, как пол раскачивается?
Она сделала попытку приподняться, но тут же, навалившись на собеседницу, обмякла, как тряпичная кукла. Мать твою, сердито подумала Майя, усиленно отворачиваясь: алкогольный дух так и шибал в нос.
– Не боишься, что родители засекут? – спросила Майя.
– Боюсь, – пробормотала девушка. – Я посижу у тебя, о'кей? Дай мне какую-нибудь жвачку.
– Зачем?
– Зажевать, – терпеливо пояснила она. – А то мамка запах учует.
– Это точно. – Майя обреченно вздохнула, подставляя плечо, точно мужественная санитарка на поле боя.
Так, вдвоем, они ввалились через порог и доплелись до гостиной, перевернув по дороге стул и собрав в гармошку половичок.
– А ваш дворник большой пошляк, – процитировала Майя классиков. – Разве можно так нализаться на рубль?
– На какой рубль? – оскорбленно возразила Лика. – На пятьдесят баксов! У тебя есть выпить?
– По-моему, тебе хватит.
– Ничего подобного, – веско сказала она, легла на диван и уснула.
Моментально, как это умеют делать только дети и профессиональные разведчики.
Бесцельно побродив по квартире и переставив с места на место кофеварку на кухне, Майя вернулась в гостиную. Лика мерно посапывала на диване, укрыв ноги пледом, – лицо ее было сосредоточенное и как-то очень по-детски обиженное, точно ей пообещали купить конфету в ближайшем ларьке, да не купили. Майя вздохнула (тяжек все-таки труд воспитателя, свой ли ребенок, чужой ли, а Келли являлась как бы сразу и тем и другим одновременно), поправила клетчатое одеяло (наследство от мамы), села в кресло и, кажется, задремала перед наряженной елкой.
– Тебе его жалко? – вдруг услышала она.
Лика смотрела на нее с дивана осмысленно и почти
трезво.
– Тебе жалко Эдика?
– Не знаю, – пробормотала Майя. – Разве что в общечеловеческом смысле. Почему ты спросила?
– Потому что я его ненавижу.
Сказано это было совершенно равнодушно, даже сонно, и Майя оторопела.
– За что?
– Ненавижу, – повторила Лика.
– Подожди. – Майя, согнав остатки сна, помассировала лоб и удивилась неожиданно пришедшей мысли. – Он что, приставал к тебе?
– Он трахнул меня. В школьном гардеробе, в переменку.
– В гардеробе? – Она пересела на диван, поближе к собеседнице (дура я, дура, ведь мелькала догадка, да я отмахнулась). – Когда?
– В сентябре. – Келли зевнула. – Сентябрь – жаркий месяц, гардероб закрыт… Никакого риска.
Не может быть, подумала Майя. Нет, меня разыгрывают, это точно: слишком уж равнодушный голос, без всяких интонаций, и – недостающее звено в цепочке. Не может быть…
– Но ты могла закричать, позвать на помощь… Келли, Келли, почему ты этого не сделала? Почему ты призналась только сейчас?
– Не понимаешь? Ты, – Лика приподняла голову с подушки и обвиняюще ткнула пальцем Майе в грудь. – Что ты подумала первым делом? Правильно: никто не сможет изнасиловать девушку, если она сама этого не захочет. Что уж говорить об остальных.
Она помолчала.
– Представь, если бы это выплыло наружу… Гуд бай, Америка, о-о.
– Ну, хоть отцу-то ты рассказала? Или Рите?
– Тебе первой. (Майя хмыкнула про себя: слабое утешение и неслабая ответственность.) Хотя, мне кажется, папка что-то такое подозревает. Недаром прет грудью на амбразуру с таким усердием.
– Что значит «прет на амбразуру»?
– Он меня защищает, – пояснила Келли, сама того не подозревая, продублировав выводы Риты. – От тебя, от следователя, от черта с дьяволом. Он же понимает, что я тут же… как это говорится в детективах… Буду первой в списке подозреваемых.
А ведь девочка права, пришла безжалостная мысль. Безжалостная – как смертный приговор. Или не оставляющий надежды диагноз. Риткин диабет имеет довольно солидный возраст (практически совпадающий с возрастом Келли), а в пору его начала одноразовые шприцы были еще в диковинку… Значит, где-то у Бродниковых вполне могла сохраниться парочка стеклянных… Плюс (Майя отчетливо увидела внутренним взором) – пластырь на Ликиной ладони, плюс мотив – шикарный мотив, мотив – мечта прокурора (и адвоката: «Посмотрите сюда, ваша честь. Кого вы видите перед собой? Хладнокровного, не знающего жалости убийцу? Или хрупкую девочку-школьницу, жертву насилия, самого гнусного из всех преступлений?»).
Майя снова прошла на кухню, заварила кофе – пахучий колониальный аромат не прибавил радости жизни, но вернул мыслям некоторую стройность. В одном Лика ошибалась: Сева не подозревает ее в убийстве (слишком уж чудовищное предположение), он просто ограждает ее от возможных жизненных осложнений. Например, разбирательств насчет наркотиков: Келли, правда, с пеной у рта утверждает… Да мало ли что она утверждает!
Хорошо. Оставим на время Лику в покое и вернемся к исходной версии.
Итак, Василий Евгеньевич Гоц в роли Деда Мороза выходит из актового зала и поднимается по лестнице. Эдик сопровождает его равнодушным взглядом поверх «Русского транзита» – директор есть директор, по вверенному учреждению имеет право разгуливать свободно. Но вот через несколько минут следом бежит девочка в костюме Домино (Эдику отлично известно, кто под маской), нервы мгновенно начинают дребезжать: уж не жаловаться ли побежала, мерзавка? Догнать немедленно и вправить мозги! Отсюда и знаменитый блокбастер под ножкой стула…
Свидетельница. Вот оно, ключевое слово.
Остаются два вопроса. Первый: чей шприц разбился возле двери музея. Второй: зачем, черт возьми, убийце нужно было устраивать пожар? Уничтожить улику (трость, с которой ходил Ромушка)? Но к чему такие сложности? И главное, я видела эту трость, прежде чем запереть дверь, – Роман стоял посреди комнаты, возле стеллажей, и растерянно улыбался, а в его правой руке…
– …Я бы сама его убила. Я бы убивала его каждый день вместо завтрака, обеда и ужина. Я мечтала о его смерти с того самого сентября, я даже число запомнила: девятое, мы только-только отучились первую неделю. А на уроках, особенно на математике, я придумывала разные способы, один другого слаще. Самой пристойной идеей была посадить его голой жопой на муравейник с рыжими муравьями – биологичка говорила, будто рыжие муравьи могут загрызть человека до смерти. – Голос, приглушенный и ровный, как патефонная пластинка, возник в гостиной. Келли, должно быть, опять задремала, вернее, впала в некое подобие похмельной нирваны – сладкое ощущение вседозволенности, когда можно блевать на чужой ковер и говорить что на ум взбредет, никто не поругает и не выгонит на улицу. – Ну почему я всегда и везде опаздываю? Я ведь могла убить его тогда, на дискотеке. Если бы мне пришло в голову…
– Келли. – Майя умоляюще опустилась на корточки рядом с диваном и дотронулась до щеки девочки – она была влажная: то ли слезы досады или раскаяния, то ли растаявшая снежинка. – Милая, скажи, ты видела его?
Длинный звонок в дверь.
О, черт! Майя в растерянности похлопала Келли по щеке (никакой реакции), заметалась по квартире, наконец растянула плед и накрыла Лику с головой – вроде неплохо, издалека не разберешь, есть ли тут кто-нибудь. Снова звонок.
Она подскочила к двери, открыла ее и нос к носу столкнулась с Севушкой. Он выглядел угрюмым и невыспавшимся (ну да, вчерашний визит соратников по партии).








