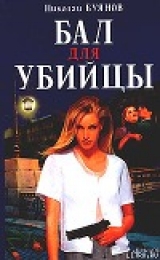
Текст книги "Бал для убийцы"
Автор книги: Николай Буянов
Жанр:
Прочие детективы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 24 страниц)
Глава 18
Дневник
«Он сильно сдал в последнее время – такова была моя первая мысль, когда я увидел доктора Немчинова на Литейном. Он с трудом спустился с высокого крыльца приемной губернатора (два жандарма-гренадера, не пошевелившись, скосили на него равнодушный взгляд), на негнущихся ногах добрел до лавочки под старым вязом, присел на краешек, уставясь в никуда, не видя праздно гуляющих парочек – военные мундиры, партикулярные платья чиновников, модные парижские туалеты на дамах под кружевными зонтиками от солнца, лотки и разносчики, ажурная мебель прямо на улицах, перед открытыми кафешантанами и открытые экипажи, небесная лазурь в жарком мареве и голуби у скамеек, выпрашивающие хлебные крошки. Редкая для Петербурга благодатная погода.
Стоял теплый день в самом конце мая, но Павел Евграфович был одет едва ли не по-зимнему: пальто со стоечкой из темного сукна, такой же темный котелок на манер английского, черные брюки и начищенные до зеркального блеска ботинки. Лишь светлый шарф не позволял ему выглядеть так, словно он только что с кладбища. Я присел рядом, будто случайно, и с наслаждением подставил лицо солнышку, любуясь сияющими небесами и листвой, набравшей силу поздней весны.
– У вас случилось несчастье? – участливо спросил я. – Прошу извинить меня за бестактность, но вы выглядите нездорово.
Он молчал.
– Общение с чиновниками – всегда тяжкий труд, они неповоротливы и невежливы. Таковы, к сожалению, многие представители власти. Вы ведь, если не ошибаюсь, вышли из приемной губернатора?
– Мне отказали, – скорее понял я, чем расслышал. – Я подал четыре прошения… Не знаю, зачем я рассказываю вам это. Мы с вами совершенно незнакомы.
– Знакомому человеку не всегда можно открыться. Легче быть откровенным со случайным встречным, поверьте моему опыту. Хотите – расскажите, на душе полегчает, не хотите – я не обижусь.
В его безжизненных глазах впервые что-то мелькнуло.
– Наверное… Наверное, вы правы. – Он посмотрел на меня слезящимся взглядом, и я во второй раз подумал: как сильно он изменился за последние полгода. Словно разом рухнула опора, поддерживавшая его в этой жизни. – У меня были две дочери. Сонечка и Люба. Я вам покажу их фотографический портрет, вы не против?
Он полез во внутренний карман, долго и бестолково копался там, наконец вынул бумажник и протянул мне миниатюрный портрет в темном овале – две милые девочки, два темноволосых ангелочка в белых атласных платьицах, рядом с матерью Анной Бенедиктовной, цельная и восхитительно законченная композиция, объединенная и овеянная любовью, будто неким невидимым свечением…
– Прелестно, – сказал я, надеясь, что не выдал себя голосом. – Это ваша младшенькая? Прекрасная девочка.
– Она в Шлиссельбурге, – ровным голосом проговорил он. – Страшное место, особенно для девушки. Я падал в ноги губернатору, сутки просидел в приемной обер-полицмейстера, подавал прошение в Департамент… Все без толку.
– А что же Ниловский? – спросил я и прикусил язык: вот так сыплются опытные конспираторы, в мелочах, на краткую секунду теряя контроль над собой. Однако старик не заметил.
– Я долго не мог добиться аудиенции. А потом… Он выслушал меня – когда-то мы были близко знакомы, он даже, кажется, ухаживал за Сонечкой… О чем это я? – Немчинов сбился, лихорадочно пытаясь найти нить разговора. – Да, он выслушал. А потом совершенно равнодушно сказал: „Ничего нельзя сделать, милостивый государь. Это ведь вам не чтение революционных брошюр, не игры в конспирацию на студенческих посиделках – обвинения против вашей дочери куда как серьезны. Боюсь, моей власти прекратить дело будет недостаточно, тут заинтересованы верхи, процесс необратим…" Господи, как я мог оставить ее одну?!
– Софья – это ваша старшая дочь?
Он будто не расслышал. Все его сознание, всю жизнь – прошлую и настоящую – вобрала в себя крошечная миниатюра в изящной овальной рамке тонкого серебра. Она действительно была красавицей, его дочь, в чертах которой сочетались гордость и надломленность и какая-то очень аристократичная безысходность, словно она предчувствовала свой конец (правила конспирации, выученные по брошюре, составление отчетов по ночам, при свете лампады, муки совести, слезы в подушку, которых никто не видел, – где вы были, дражайший Павел Евграфович, где были ваши глаза? Черная вуаль, визиты к „доктору Вердену" – гибель, гибель…). Да, она предчувствовала конец. И приняла его как величайшую милость.
– Она умерла, моя Сонечка.
Я точно разыграл реакцию на известие о смерти (пусть и незнакомого человека).
– Умерла… Господи, что вы, должно быть, пережили… Как это случилось?
– Она отравилась. Или ее отравили – полиция не пришла к однозначному выводу. Мы не представлены, извините…
– Это не важно.
– В самом деле… Следователь высказал мысль, что к смерти Сонечки причастен ее муж, Вадим Никанорович Донцов. Однако улик не нашлось (как, впрочем, и алиби: якобы в тот момент он был в ресторане, на банкете по случаю удачной сделки). Да я и не верю в его виновность: где мотив? Материально он не был заинтересован в ее гибели, а любовь, ревность, страсть… вообще сильное чувство ему, кажется, неведомо. Холодный расчетливый делец, не понимаю, что Сонечка нашла в нем… Впрочем, богат, привлекателен, еще не стар, имеет вес в обществе.
– Гм… Вы не верите в самоубийство и не верите в виновность вашего зятя… Значит, у вас есть собственная версия случившегося? Вы наверняка не раз размышляли над этим…
Он вздохнул.
– Я уже забыл, когда спал в последний раз. Есть такое божье наказание: бессонница. Говорят, происходит от нечистой совести.
– В чем же вы видите свою вину?
Он молчал. Я уже собрался окликнуть его, но Павел Евграфович вдруг очнулся и извлек из знакомого портмоне измятый листок тонкой ученической бумаги.
– Я уже два года ношу это с собой – сам не знаю зачем. Стараюсь вникнуть в смысл, но, странное дело, мозг сопротивляется, не дает…
– Что это?
– Я нашел это случайно, в корзине для бумаг. На следующий день после смерти Сонечки. Поначалу я решил, что она писала кому-то письмо – она всегда составляла прежде черновик, потом переписывала набело. Но потом…
Я посмотрел на бумагу: памятка ученику, как вести себя на улице при встрече с учителем гимназии, директором или попечителем, красиво напечатанные строки под заголовком с красивым вензелем. Перевернул – разлинованное поле для „Расписания занятий", пустая графа отметок, отрывные билетики для посещения драматического театра… И какой-то рукописный текст, смысл которого до меня дошел не сразу.
– Это писала не Сонечка, – сказал профессор Немчинов. – Не ее почерк, и дневник… Зачем писать в дневнике, если есть целая пачка специальной бумаги для писем (полиция нашла у нее в вещах), – он вдруг внимательно посмотрел на меня, чуть сощурившись. – Скажите, мы не могли встречаться раньше?
Я заставил себя улыбнуться.
– Вряд ли. У меня слишком типичное лицо, так что ваша реакция неудивительна.
– Правда? – непонятно было, поверил он или нет. – Что ж, прощайте. И простите меня за излишнюю болтливость. К старости человек часто начинает страдать словесной несдержанностью.
Он с трудом поднялся и пошел прочь, заметно подволакивая левую ногу. У него была походка глубокого старика, хотя (я подсчитал) ему должно было быть не больше шестидесяти пяти.
Забегая вперед, скажу, что много лет – пока я был в состоянии – я старался не выпускать Любушку из поля зрения. Давно уже перестал существовать Летучий отряд Карла: в одну мартовскую ночь были арестованы все его члены. Восьмерых – ядро – повесили на Каменном острове, остальных „закатали" в Сибирь и на Сахалин или приговорили к разным срокам. Лебединцева я больше не встречал… Мне рассказывали, что когда жандармы ворвались в квартиру, где он скрывался (это лишний раз убедило меня в моих подозрениях: только один человек знал адрес, и только он мог навести полицию на след), Карл отпрыгнул к стене и закричал: „Осторожнее! Здесь кругом динамит, если будете стрелять, дом взлетит на воздух!"
Его взяли со всеми предосторожностями – комната и впрямь была нашпигована взрывчаткой, готовился акт против министра юстиции. Одна искра – и на месте большого дома со множеством жильцов осталась бы черная воронка. Люба Немчинова сдалась сама: гордо положила браунинг на стол и протянула вперед руки.
– Мы могли бы обойтись без наручников, барышня, – сказал жандармский офицер. – Если вы дадите слово вести себя спокойно».
– Не могу обещать, – усмехнулась она. – И уж во всяком случае, я не нуждаюсь в вашей жалости.
…Лебединцева казнили через две недели после вынесения приговора. Позже в его камере нашли записки, поразившие ученых-астрономов смелостью своей мысли: он был на грани новой концепции рождения галактик.
Любушка держалась до конца – после того как закончилась обвинительная речь (прокурор требовал смертной казни), она поднялась и продекламировала в зал строки Пушкина: „Товарищ, верь, взойдет она, звезда пленительного счастья…"
– Боже, как они молоды и чисты, – прошептал прокурор Ильин, выйдя из здания суда, – белый до синевы, пытающийся закурить, но то ли руки дрожали, то ли слишком сильный был ветер. – Мы никогда их не одолеем. На нашей стороне сила, да… Но нет убежденности, нет настоящей веры, нет горенья. Лишь слепая бюрократия: мы видим, куда она ведет нас, и молчим.»
С Литейного он поехал к полковнику Ниловскому. Тот, увидев его состояние, достал из серванта бутылку „Смирновской", налил два фужера и тихо произнес:
– За упокой их души, Владимир Гаврилович…
Ей разрешили петь, и она пела. Разрешили перестукиваться с соседями – и она просила, чтобы ей передали веревку, повеситься. Она всегда стучала нервно и очень быстро, так, что трудно было разобрать. Она была очень смела – смелее многих. На прогулке 1 мая она вдруг запела „Вы жертвою пали в борьбе роковой…". Охранники кинулись к ней, началась свалка, закончившаяся карцером – каменным мешком без окон, в глубоком подвале. Из карцера ее вызвали в канцелярию – оттуда она пришла возбужденная, с неистово горящими глазами… Оказалось, что начальник предложил ей выбор: предать – и тогда приговор ограничится двадцатью годами каторги, или быть повешенной. «Вы молоды и красивы, – сказал он ей. – Кроме того, ваш батюшка имеет в обществе достаточный вес – возможно, нам удалось бы сократить срок, заменить каторгу ссылкой… В конце концов, и в Сибири живут люди». Любушка расхохоталась ему в лицо и выбрала виселицу.
Павел Евграфович действительно сделал все, что мог, ради дочери. Он рыдал, умолял, совал взятки одним и пытался даже шантажировать других… Не представляю, на какие рычаги он нажал, но через полгода врачебная комиссия признала Любушку невменяемой. Возможно, медицинские светила не так уж и покривили душой: к концу зимы девушка сдала окончательно – смеялась целыми сутками, отказывалась от прогулок, польку-бабочку танцевала по ночам сама с собой (надзирателей и тех пробирал мороз: черные стены, квадратик лунного света на полу, сквозь решетки, и женский силуэт, кружащийся, грациозный, словно летящий над каменным полом… Когда-то, еще в гимназии, Любушка была первой ученицей в танцзале).
Ее перевели в Творки (дом для умалишенных) – по сути, та же тюрьма с жестокими санитарами, где она пробыла вплоть до Февральской революции. Потом я потерял ее след. Времена настали лихие – настоящий Апокалипсис в отдельно взятой стране, выбранной Господом для каких-то своих жутковатых экспериментов. Людей разбрасывало взбесившимися волнами, безжалостно топило или выкидывало на край земли, на безымянные скалистые острова… По крайней мере, так я ощущал себя, сидя в маленьком флигеле двухэтажного дома на улице Ля Пинэ в Париже, откуда был виден левый берег Сены и Марсово поле. На первом этаже дома помещался рыбный магазин господина Рогира – хмурого норвежца, торговца сельдью и угрями, которых вылавливали в Северном море его соотечественники. Сначала рыбные запахи доводили меня до исступления, потом ничего, привык. Новости из России я узнавал из газет (крикливый мальчишка на велосипеде бросал мне их под дверь) или из писем друзей, которые приходили с опозданием в два-три месяца. Одно из них, написанное врачом психиатрической клиники в Творках, поведало мне о судьбе Любы Немчиновой. Однако это письмо от него оказалось единственным: вскоре в здание больницы угодил шальной снаряд, врача убило на месте, а Любушка…
Впрочем, все это – череда переворотов, войн и лихорадочных метаний из-под одних знамен под другие, бурлящий и ненавистный Париж, нищета (хотя газетенка, в которой я подвизался корректором, изредка подбрасывала кое-какие гроши, не давая умереть с голоду) – еще только предстояло, пока же я сидел на скамейке в сквере, в Петербурге, напротив Египетского моста с его знаменитыми сфинксами, рассеянно смотрел в спину Павлу Евграфовичу и рассеянно вертел в руках тот самый листок из гимназического дневника, брошенный кем-то за ненадобностью в корзину для бумаг. Я разгладил его ребром ладони, и буквы – стремительные, нетерпеливые, запрыгали у меня перед глазами.
„Милостивый государь! Довожу до Вашего сведения…"
Внизу, справа, стояла знакомая подпись:»Агент Челнок".
Вот только почерк… Почерк был чужой, не Софьи – уж ее-то манеру письма я распознал бы среди тысяч других. Я до сих пор храню этот обрывок бумаги. И теперь только мы вдвоем знаем имя провокатора, погубившего боевой отряд Карла. Я – и Павел Евграфович Немчинов (умерший от тифа в сентябре 19-го года). Он догадывался (сердце подсказало) – и гнал от себя свою догадку, словно проказу, врал себе, что этого не может быть… И в конце концов, возможно, поверил в собственную ложь. И обрел покой.
Иногда я завидую ему: моим-то мытарствам еще не видно конца. Я еще должен найти и покарать предателя… Если успею. А нет – за меня это сделает кто-то другой…»
– Вот и все, – задумчиво произнес следователь, закрывая пухлую картонную папку. – Поздравляю, у вас великолепная зрительная память, Майя Аркадьевна. Признаться, я вам не верил, сомневался до последнего момента.
– Откуда это? – слегка ошарашенно спросила она (черт возьми, а я-то злилась на него за бездействие!).
– Из Исторического музея в Питере и Московского историко-архивного института, я послал туда запрос и получил фотокопии документов. Автор дневника, Аристарх Гольдберг, умер в декабре 24-го, все его имущество перешло к хозяину рыбной лавки, некоему Августу Рогиру, потом – к его дочери и внучке, ну а те… Дальнейшие следы участников событий теряются. Николай Клянц (видимо, он и есть агент Челнок), возможно, эмигрировал или погиб. Любовь Немчинова закончила дни в сумасшедшем доме…
– Непонятно, почему Гольдберг проявил такой интерес к ее судьбе? – неожиданно спросила Майя. – Даже списывался из Парижа с врачом клиники в Творках (дело по тем временам совсем не простое)… И где сам дневник?
– А вы как думаете? – вяло поинтересовался Николай Николаевич.
– Я думаю… Нет, я уверена: его украл Клянц. Дневник был его приговором.
– Почему же он не украл письма, адресованные Гольдбергу?
– Масса объяснений. К примеру, их успел забрать владелец магазина – не мочить же старика…
Колчин усмехнулся:
– Вы, кажется, подозреваете агента царской охранки в излишней сентиментальности. Софью Немчинову он отравил, нимало не смущаясь… Кстати, если верить письмам, он сделал это задолго до того, как Любовь Павловна стала любовницей Карла.
Майя нахмурилась.
– Хотите сказать, Люба была для него только ширмой? И он сам свел ее с Карлом, чтобы… Нет, это невероятно!
Следователь побарабанил пальцами по столу.
– Ее отец, если помните, сказал то же самое: невероятно. «Знал – и гнал от себя, врал себе, что этого не может быть…» Однако меня заинтересовало не это, – он напрягся и прочитал по памяти: – «Я один знаю имя предателя. Я – и Павел Евграфович Немчинов».
– И что?
– Но почему он не упомянул о Лебединцеве? Тот факт, что Николай Клянц был агентом охранки, по идее был известен троим: Нечминову, самому Гольдбергу и Карлу. Почему он забыл о Карле?
Майя пожала плечами:
– Может быть, именно забыл?
– Ну нет. Этот человек, насколько можно судить, всегда был точен в деталях. Жизнь научила.
Она задумалась, подперев ладонью подбородок. Николай Николаевич поднялся, прошел до зарешеченного окна и обратно, разминая мышцы, снова сел – с некоторых пор он, похоже, воспринимал Майю если не как привычный предмет обстановки (сейф или увядший фикус на подоконнике), то как своего сотрудника или сослуживца, с которым приходится делить кабинет. Майя тоже как-то незаметно для себя стала приходить сюда словно на работу, следуя ежевечернему распорядку. По необходимости: дневная суета (занятия с учениками и неуклюжая имитация любительского следствия) кое-как отвлекала – тем круче наваливалась тоска вечерняя. От ночной спасало снотворное, которым щедро снабжала Ритка. В определенный час она собиралась (Колчин галантно помогал надеть пальто. «А вы?» – «Мне нужно еще поработать». – «Я думала, вы проводите меня до дома». – «Увы. Вот искореним преступность в мировом масштабе…»), выходила из здания прокуратуры и брела пешком вдоль заснеженных улиц, не торопясь (вот оно, преимущество «дамы на перепутье»: голодный муж не требует отчета, и дети не изводят жутковатыми просьбами о киндер-сюрпризах) и играя с городом в незамысловатую игру: я якобы не узнаю его, а он – меня, каждый занят своими мыслями…
Иномарка Севушки сиротливо мокла перед подъездом, окна Бродниковых светились, у Веры Алексеевны было темно – видно, чаевничают вместе, заварной чайник стоит на красиво вышитой салфетке, сахарница и четыре чашки… Хотя нет, Сева любит пить из стакана в подстаканнике. Майя представила себе собственную пустую квартиру – чистенькую кухню в розовом кафеле, кресло в гостиной перед телевизором, развороченный выстрелом дверной косяк – и едва не расплакалась. Идти домой не хотелось.
Пуля, застрявшая в дереве… Гоц сам открыл преступнику дверь и погиб вместо меня (почему-то этот постулат теперь казался неоспоримым), Келли и Вале Савичевой повезло больше: обе видели убийцу – и обе остались живы, получив одинаковые письма-предупреждения. Что касается Келли – все понятно и объяснимо: из своего укрытия она успела рассмотреть карнавальную Бабу Ягу в деталях. (А та – ее? Неужели действительно не заметила?) Две одинаковые записки, две девочки-свидетельницы – и два совершенно разных описания убийцы (Колчин в этом месте усмехнулся бы с видом превосходства профессионала над махровым «чайником»: «Свидетели, Майечка, всегда противоречат друг другу, это закон природы. Если один говорит, что жертву сбил блондин на японском джипе, другой обязательно возразит: не на джипе, а на горбатом „запорожце", и не блондин, а старуха, красящая волосы под брюнетку»).
Валя: «Слепа я, как летучая мышь, вот беда». – «Ну, хоть что-то ты заметила?» – «Человечек пробежал в чем-то красном, но не ярком, а поношенном, понимаете?»
Келли: «Передник и платок с яркой заплаткой, остроносые башмаки, согнутая крючком фигура – я сначала решила, старушка…» Старушка, отплясывающая брейк на дискотеке.
Стоп. (Майя действительно резко остановилась посреди тротуара. Кто-то налетел сзади, изрыгнул проклятие и понесся дальше.) Я совершаю ту же ошибку, сваливаю все в одну кучу. «Старушка» не плясала на дискотеке – она тихонько прошаркала по пустому коридору, подожгла музей и убила охранника. Другая Баба Яга (Лера Кузнецова) веселилась внизу, в актовом зале. Валя Савичева и Лика сходились лишь в одном: убийца был одет во что-то красное. Он вошел в вестибюль (предположим, дождавшись, пока бдительный страж утратит на минуту свою бдительность), шмыгнул наверх, однако был замечен, охранник бросился следом, уронив под стул «Русский транзит»… В этот момент Валя выглядывает из дверей актового зала и видит фигуру в поношенном розовом платье или кофте – никаких передников, никаких ярких пятен, «просто старое тряпье, понимаете?». Несколькими секундами позже Лика, девочка-Домино, заслышав шаги охранника, прячется в темном закутке и видит другую Бабу Ягу, в другом костюме (другом, другом – это вам не спутать японский джип с «запорожцем»!). А дальше начинается мистика: в школу убийца пришел явно не в карнавальном наряде – где он (она) мог переодеться? Не в вестибюле на глазах у охранника. Не на втором этаже: нет времени, встревоженный Эдик, почуяв недоброе, топает следом. Где?
Где, черт побери?!
Майя нашла телефонную будку, поколебалась несколько секунд и набрала номер прокуратуры.
Колчину не хотелось снимать трубку. Он уже надел пальто и шапку и выключил свет в кабинете. Но телефон звонил со стоическим терпением – так в далеком детстве бабушка убеждала семилетнего Колю выпить рыбий жир.
– Слушаю.
– Николай Николаевич!
Он с трудом сдержал раздраженное междометие.
– Вы еще на работе?
«Дурацкий вопрос. Нет, я дома».
– Слушаю, Майя Аркадьевна.
– Николай Николаевич, я знаю, почему Гольдберг так странно выразился…
– Какой еще… Ах, да, – он вздохнул. – Мне бы ваши заботы.
– Нет, послушайте. Он писал: «Я один знаю имя предателя…» Но ведь Николая Клянца разоблачил Лебединцев. – Казалось, на том конце провода собеседник притоптывает от возбуждения. – Значит, предателя должны были знать не двое, а трое!
– Мы уже обсуждали это…
– Да, я помню. Так вот, я думаю, Гольдберг написал правду. Только ему был известен настоящий провокатор и убийца, а Карл…
– Что?
– Карл ошибался. Провокатором был вовсе не Клянц. Меня просветил один сотрудник в библиотеке: царская охранка часто прибегала к подобному приему – подсовывала подпольщикам ложного агента, чтобы отвлечь их внимание от настоящего. Алло, вы слышите? Вы еще там?
– Куда же я от вас денусь. – Следователь помолчал. – Знаете, если вы правы (вероятность слабая, но чем черт не шутит), то преступник поджег музей, чтобы скрыть эту историю почти вековой давности… К примеру, всегда считалось бесспорным, что под псевдонимом «Челнок» скрывался Клянц, и вдруг…
– Не понимаю, – призналась Майя. – Кто бы он ни был, я имею в виду, провокатор, его кости давно сгнили в земле…
Колчин философски пожал плечами:
– Значит, не сгнили. Какие еще соображения?
Она наморщила лоб, стараясь не упустить мелькнувшую мысль.
– Келли упоминала: согнутая крючком фигура у двери музея, шаркающие шаги – прекрасно сыгранный сценический образ. А вы сказали позже: «Нынешнее поколение подобные проблемы не волнуют, они отчества своих бабушек-дедушек не всегда знают…» Я подумала: возможно, сценический образ тут ни при чем и убийца никого не играл? А шаркающая походка…
Длинная пауза: следователь, смирившийся с тем, что последний автобус уйдет без него, обдумывал новый постулат.
– Фантазия у вас, однако. Что ж, если и так – доказательств нет, единственная улика, дневник Гольдберга, сгорел в пожаре…
– Рукописи не горят, Николай Николаевич, – возразила Майя. – Это, конечно, только метафора, но…
Вежливое молчание на том конце провода. Майя почувствовала глухой приступ отчаяния. Все детали, составляющие разрозненные картинки из прошлого, завертелись в неистовой карусели, в заколдованном порочном круге: кажется, вот она, разгадка… Но нет улик (лишь одну она успела спасти – костюм новогодней ведьмы, да и та не к месту, словно камешек из чужой мозаики), давно умершие свидетели, кто своей смертью, кто не своей…
Аристарх Гольдберг (Париж, 17 декабря 1924 года, сердечный приступ, тело обнаружил старик Рогир, когда взломал дверь топориком, – труп просидел в кресле перед потухшим камином четыре дня и стал потихоньку разлагаться). Николай Клянц (застрелен у себя в номере в пансионате «Лазурный» в Ницце 9 мая 39-го года – темное дело, на нынешнем милицейском диалекте – «глухарь», убийцу не нашли). Всеволод Лебединцев («Карл», умер на виселице 4 апреля 1911 года). Любовь Немчинова (нет достоверных сведений: возможно, погибла при взрыве снаряда, попавшего в дом для умалишенных в Творках). Софья Немчинова (убита при невыясненных обстоятельствах в Петербурге, в особняке мужа). Павел Евграфович Немчинов (11 сентября 19-го, Петроград, сыпной тиф…). Никого, кто мог бы подтвердить или опровергнуть…
– Значит, все? – тихо спросила Майя. – Тупик, дело закрыто?
Пауза.
– Почему вы молчите?
– Думаю, – отозвался Колчин. – Вы правы, насчет рукописей – это метафора, однако, мне кажется, есть шанс. Крохотный, один из тысячи, но все же…
Майя замерла. Следователь колебался – это было ясно по голосу.
– Понимаете, школьный музей после пожара никто не видел, его сразу опечатали. То есть никто посторонний не мог знать, насколько он пострадал: уничтожил ли огонь все экспонаты, или часть сохранилась… – он словно осторожно подталкивал ее к чему-то, на что не имел права.
Она ткнулась разгоряченным лбом в обледенелое стекло. Никто посторонний не мог…
– Вы понимаете меня? – настойчиво спросил он.
– Да. Кажется, да…
– И вы согласны?
– Да, – сказала она без колебаний.
– Тогда сделаем так…
Короткие гудки.
Колчин недоуменно повертел трубку в руке, положил ее, снова поднял, набрал номер Майиной квартиры. В тишине пустой прихожей раздались равнодушные и равномерные звонки. Майя в телефонной будке, в ста метрах от родного подъезда, удивленно оглянулась и увидела, как чья-то рука вынырнула сзади и надавила на рычаг.
– Сева?
Друг детства аккуратно повесил трубку и ледяным тоном осведомился:
– Что ты ему сказала?
– Кому?
– Не притворяйся. Следователю.
Майя пожала плечами: мало ли что может женщина («дама на перепутье») сказать мужчине – от жаркого многообещающего «да!» до лукавого многообещающего «нет!».
– Шпионишь? – улыбнулась она. И попыталась выйти из будки, но Сева вдруг сделал шаг и загородил ей дорогу.
– Я не шучу, – ровным тоном сказал он.
Только сейчас она разглядела, какие холодные у него глаза. В остальном он мало изменился, законсервировавшись в тех временах, когда собирал под свои знамена комсомольцев-первокурсников, испуганно смотревших ему в рот. Та же покровительственная улыбка, те же демократичные ямочки на идеально выбритых щеках – помесь техасского ковбоя и сенатора из Южной Каролины (идолопоклонство перед Западом тогда не поощрялось, но выглядело прогрессивно и добавляло пикантности в имидж). Но глаза…
– Что ты все вынюхиваешь? – проговорил Сева, нехорошо усмехаясь уголком рта. – Тебя органы наняли?
– Нет. Ты же знаешь, я просто свидетель.
– И тебе больше всех надо?
– И мне больше всех надо.
– Иногда меня так и тянет свернуть тебе шею, – с задушевной добротой сообщил он. – Просто взять за горло и сжать…
– Как Гришу Кузнецова, да? – прошептала Майя.
– Я ничего не знаю ни о каком Грише. А вот ты… Ты меня достала.
Скрипнул снег – кто-то прогулочным шагом прошествовал мимо, даже не взглянув в их сторону: все в порядке, супруги (любовники, шеф и секретарша, прораб и каменщица, сутенер и девочка по вызову) мирно, без мордобоя, выясняют отношения… Конечно, Ритка, образцовая спутница жизни, сказала ему о пистолете, а Вера Алексеевна – о загадочном шуме в Майиной прихожей…
– У следователя было два основных подозреваемых, – медленно сказала она, стараясь не отрываться глазами от друга детства. – Два кандидата в Думу – два кандидата в убийцы. Теперь остался один. Ты понимаешь, что это значит?
– Великолепно, – Сева опешил на секунду, потом расхохотался. – Это называется «нападение как лучший способ защиты», да? Ты подбрасываешь следствию улики против всех по очереди и потихоньку отводишь подозрение от себя самой…
– Ты о чем?
– О самом очевидном, Джейн. О том, что ты единственная, кто не попал под колпак. А между тем только ты знала, где лежит пистолет, только ты могла открыть дверь собственной квартиры…
То же самое сказал и Колчин, с горечью подумалось ей. Он стоял в коридоре, над трупом школьного директора, а смотрел на меня, на меня!
– Ты заперла Ромку в этом гребаном музее – что тебе мешало плеснуть бензинчику… – Лицо Севы исказила какая-то внутренняя мука. – Мне, собственно, плевать на твои дела, мне хватает своих. Мне плевать, что ты подвела меня под удар. Но из-за тебя пострадала Лика…
Он сделал шаг вперед, расчетливо перекрывая Майе путь к отступлению, и сунул правую руку в карман – жест был достаточно красноречивый, можно было и не тратиться на слова…
Неясная тень вдруг возникла у него за спиной, из снежной круговерти, рванула за плечо, одновременно проводя болевой захват…
– Осторожно! – крикнула Майя сквозь слезы. – У него оружие!
Двое завозились на снегу, рыча от ярости и треща швами на одежде. Майя вылезла из телефонной будки, явно не зная, что делать дальше. У ее ног бушевал самый настоящий буран, маленький смерч, внутри которого хрипело и взвизгивало нечто многорукое, дикое, первобытное… Тела сплелись и расплелись – Севка оказался внизу, скрюченный и постанывающий, а Артур, без шапки, в расстегнутом пуховичке, держал противника за вывернутую кисть.
– Джейн, ты цела? – спросил он. – Звони в милицию, пусть заберут этого…
– Я тебе покажу милицию, сосунок, – прошипел Сева, пытаясь освободиться. – Я тебя самого сгною на параше! Я депутат…
– Ну, не ври, – осадил его Артур. – Выборы только послезавтра.
– Прекратите сейчас же! – выкрикнула Майя, вне себя от злости. Еще бы чуть-чуть, и она сама ринулась в драку… Однако голова вдруг закружилась, она сделала шаг и схватилась за ствол дерева, чтобы не упасть.
Как ни странно, ее послушались. Мгновенно расцепились и разошлись по углам ринга, напоследок обменявшись крутыми репликами:
– А жаль, что я тебя недодушил.
– А я тебе шею не свернул.
– Прекратите, я сказала! – Она отлепилась от дерева, пошатываясь, подошла к маленькому предмету, выпавшему из кармана Севы, присела на корточки и подняла… Подмокшая, втоптанная в землю пачка «Герцеговины Флор», половина сигарет безвозвратно погибла, превратившись в неаппетитное месиво. Тут тебе, как говорится, и нож, и пистолет.
А пистолетик-то не найден, шепнул ехидный голос из преисподней. Стало быть, по закону классической пьесы, должен объявиться в финале перед занавесом и выстрелить. Так что расслабляться рано.
Рано, согласилась Майя, медленно опускаясь в сугроб. Все поплыло перед глазами, оба потрепанных в схватке рыцаря встревоженно подскочили, схватили под руки…
– Джейн, тебе плохо? Ты что с ней сделал, урод?
– Сам урод, я ее пальцем не тронул.
– Не надо, – слабым голосом возразила она. – Я в порядке.
– Кой черт «в порядке»…
Они переглянулись, мигом забыв свои распри. Сева, подумав, тяжело вздохнул.
– Что ж, прошу ко мне, гости дорогие, – сказал он с той приблизительно интонацией, с которой говорят: «Пошли вон!»








