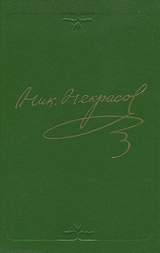
Текст книги "Том 7. Художественная проза 1840-1855"
Автор книги: Николай Некрасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 43 страниц)
– Вы, вероятно, поражены новостью заглавия: а это так, пришло мне в часы златого досуга; оно, знаете, как-то… благопристойнее, – произнес наконец он и скромно потупил глаза.
Я перевернул страницу: «Ямбические стихотворения» – было написано вверху страницы…
– Нужно вам сказать, что сия тетрадь заключает в себе двадцать восемь отделов, кои все носят заглавия по названию того размера, коим трактованы. Мне показалось это удобнее, – прибавил он скромно.
– Конечно, конечно, – подхватил я, – если б все наши поэты…
– Впрочем, сие стихотворение вы можете прочесть в оной книге, см. Отдел четвертый, страница 1439, стихотворение, титулованное «Одного поля ягодам», – сказал поэт, заметив, что я его не слушаю, а гляжу в книгу… Между тем я отыскал в ней стихи, которые с первых строк меня заинтересовали; для полноты наслаждения я просил самого поэта прочесть их.
– Это так, безделушка, – сказал он и, прокашлявшись, начал: «Величие души и ничтожность тела», стихотворение Ивана Иваныча Грибовникова, посвящается товарищам по семинарии.
Сколь вечна в нас душа, столь бренно наше тело.
Судьбы решили так: чтоб плоть в трудах потела,
А дух дерзал в Парнас, минуты не теряв,
Подобно как летал во время оно голубь,
Всему есть свой закон: зимой лишь рубят пролубь,
И летом лишь пасут на поле тучных крав!..
У вечности нельзя отжилить мига жизни,
Хоть быстро прокричи, хотя протяжно свистни,
Ее не испугать: придут, придут часы,
Прервутся жизни сей обманчивые верви,
Зияя проблеснет вдруг лезвие косы,
И, смертный! ври: тобой – уж завтракают черви!
Невольно изречешь: о tempora, о mores! [6]6
о времена, о нравы! (лат.).
[Закрыть]
Когда поразглядишь, какая в жизни горесть.
До смертных сих времен от деда Авраама
Людей я наблюдал и семо и овамо,
Дикующих племен я нравы созерцал
И – что– ж? едину лишь в них суетность встречал!
Нещадно все они фальшивят и дикуют
И божьего раба, того гляди, надуют.
То всё бы ничего: но ежели их души
Вдруг гордость обует, средь моря и средь суши,
Забудут, что они есть прах, средь жизни чар
Постигнет их твоя судьба, о Валтасар!
Он умолк. Я всё еще слушал, так я был поражен. Молча подал он мне руку, также молча я пожал ее; но мы понимали друг друга без слов, да и что нам было говорить?
Что бедный наш язык? Печальный отголосок
Торжественного грома, что в душе
Гремит каким-то мощным непрерывным звуком.
(Кукольник)
– Вы поэт, – сказал я, – поэт оригинальный, самостоятельный, каких еще не являлось у нас; вы бы могли произвести переворот в литературе; но, послушайтесь меня… не печатайте того, что написано, не пишите больше.
– Как! – вскричал поэт. – Бы сознаете во мне дарование и советуете мне в самом цвете, в самой силе схоронить его в могиле?
– Ограничьтесь тесным кругом служебной деятельности, живите для счастия своего и нескольких избранных друзей: жизнь ваша потечет тихо и спокойно; благословляя судьбу, довольные миром и людьми, вы наконец перейдете в жизнь лучшую так же безмятежно и примете достойную награду неба. Поверьте, это есть именно то, к чему мы должны стремиться. Труден и неблагодарен жребий литератора… На каждом шагу, во всяком ничтожном деле он терпит и – такова его участь – должен сносить и не жаловаться. Предположим, что вы издали книгу: она хороша, прекрасна, вы сами, как самый строгий и беспристрастный судья своего таланта, первый заметили достоинства ее, так же как и недостатки. Но не так поступят с ней критики, враги рождающегося дарования: они найдут в ней небывалые недостатки, постараются унизить, затереть, совершенно уничтожить ее, если можно. Мало, – они докопаются до вас самих; какое-нибудь гнусное, бездарное творение, ничтожнейшее возможной ничтожности, низостью души кой-чего добившееся, творение, с которым нельзя встретиться на улице, чтоб не пожалеть в нем человека, стыдно быть в одном обществе, – посягнет на ваше доброе имя, превратит вас в нуль – и всё это для того только, чтоб наполнить страницу ничтожной газеты. О самой книге и говорить нечего, подобные ценители закидают ее сором, втопчут в грязь и в доказательство беспристрастия своего приговора скажут только: ведь и мы можем написать так же!
– Но есть же люди, которые достигли известности на поприще пиитов еще недавно. Ужели я столь несчастлив? К тому я драматический автор, тут судит сама публика. Я покуда ограничусь театром. К театру я чувствую в себе призвание. Я пишу во всех родах: трагедии, оперы, драмы, водевили. Да, вы еще не читали моего водевиля. Вот он, послушайте! (он взял одну из тетрадей) «Святополк Окаянный», водевиль в одном действии, с куплетами, действие на Арбате, в Москве.
– Но Москвы тогда еще не было?
– Doctoribus atque poetis omnia licent [7]7
Ученым и поэтам всё позволено (лат.).
[Закрыть], – отвечал он и продолжал читать:
– Явление первое. Театр представляет померанцевую рощу…
– Но какие же померанцевые рощи в Москве?
– Doctoribus atque poetis omnia licent, – снова произнес он с некоторой досадой и продолжал:
– Святополк ходит в задумчивости и напевает известную песню: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан…», потом садится и начинает писать, потом читать: «С ног до головы целую тебя, любезная Элеонора…»
– Погодите немного, Иван Иванович, это мы прочтем после, я теперь не расположен смеяться, – сказал я, чувствуя особенное желание пофилософствовать, что у меня обыкновенно случалось на тощий желудок…
– Хорошо! – сказал он.
Я взял его за руку и продолжал:
– Положим даже, что журналисты, по какому-либо особенному случаю, вас расхвалят; но это еще не всё. Найдутся другие неприятности. – Вы – мечтатель в поэзии, но положительный в жизни; разумеется, вам не захочется всегда брать сюжетов из мира фантазии; вы возьмете их из природы, живьем перенесете на бумагу типические свойства человека, подмеченные вами; вы довольны своим трудом; вдруг чрез несколько дней доходят до вас слухи, что вы поступили неблагородно, бессовестно, низко… «Как? Что?» – воскликнете вы. «Еще запираешься, – говорит ваш приятель, – поздно, брат, мы узнали… Стыдно, стыдно: а еще человек с талантом, – списывать портреты с известных людей и разглашать печатно их семейные тайны; да и что он тебе сделал, за что ты его так выставил? он человек прекрасный!» Вы в недоумении, сердитесь, не знаете: что подумать. Приятель ваш подсмеивается над вами, и наконец дело кончается так: вы узнаете, что в вашем последнем сочинении выведены известные лица, которых сходство изумительно; одним словом, вас обвиняют во всем том, что мы разумеем под словом «личности». Не виноватый в этом ни душой, ни телом и, может быть, по благородству своего характера неспособный на такой поступок даже против человека вами ненавидимого, вы становитесь подозрительным в глазах людей благомыслящих и наживаете себе тайных недоброжелателей.
– Но, может быть, на театре…
– Еще хуже, одно случайное сходство фамилий, и вы неправы.
– Уж четвертый час, сударь; не прикажете ли сварить кофею? – послышался в дверях голос милостивого государя.
Я изумился, желудок мой обрадовался… «Но откуда взялся этот кофе?» – подумал я и повернул голову к Ивану. Только я увидел его, надежды моего бедного желудка вмиг разрушились: я сейчас догадался, что Иван приводил в исполнение то, что, по его словарю, называлось «задавать тону».
– Болван! – сказал я с притворным гневом. – Ты прежде этого мне не напомнил, а теперь уже время обедать.
Иван был очень доволен моим ответом и с самодовольствием возвратился за ширмы.
– Ну, любезный Иван Иванович, на что вы решаетесь?
– Но призвание, я вам скажу, оно-то меня волнует.
– Вы можете писать и не печатать.
– Но, вселюбезнейший Наум Авраамович, неужели слава, выгоды, которые представляет звание сочинителя, не выкупают с лихвою неудобств, вами представляемых?
– Ах нет! Иван Иванович! тот ошибается, жестоко ошибается, кто так думает. Слава? Но знаете ли, что только тысячный из среды этих жалких сочинительствующихтружеников достигает ее. Деньги! о, это еще труднее! Славу можно прикормить, припоить, купить. Но деньги! деньги, – повторил я со вздохом, – нет, о деньгах лучше не говорить; извините, я – не люблю денег! – произнес я в свою очередь трагически.
– Но ради чего вам кажется, что их приобретать трудно? Издал сочинение, роздал по лавкам – пошло, ходи только да обирай денежки по субботам.
– Ха-ха-ха! И вы так думаете, – закричал я почти неистово, – jпо субботам! Ха-ха-ха! Нет, я думаю, полы перетрешь у книгопродавцев в лавках, ходя за получкой; знаю я эту получку, она мне вот где сидит! – вскричал я, указывая на сердце.
– Как! и вы еще жалуетесь, Наум Авраамович! Слава богу, известно, что вы и тысячками ворочаете; откуда же они у вас?
– Вы ошибаетесь, друг мой, – сказал я с жаром. Воспоминание о получках по субботам затронуло чувствительную струну моего сердца; положение мое живо представилось моему воображению; мне стало стыдно, что я морочу этого бедного ребенка из пустого каприза казаться не тем, что я в самом деле. Я решился во что бы то ни стало снять повязку с глаз Ивана Ивановича и отвратить его всеми возможными средствами от поприща, на котором он легко может испытать участь, подобную моей.
– Откажитесь, – вскричал я, – ради бога, откажитесь от своего намерения. Да или нет?
– Нет! – произнес Иван Иванович решительно. – Призвание…
– Вам мало убеждений, которые я привел; так знайте же, я вам скажу последнее: вы можете умереть с голоду, если не откажетесь!
– Помилуйте!
– Я вам скажу примеры: Артур В., Мальфиатре во Франции; Генрих Виц в Германии; Камоэнс в Португалии; Ричард Саваж в Англии… Я сам – в России!.. – вскричал я в исступлении.
– Помилуйте, вы, кажись, живехоньки.
– Жив! Но знаете ли, что чрез несколько часов меня не станет?
– Но вы, кажется, здоровы?
– Я умру, умру с голоду! – с усилием произнес я и упал на свой ковер от изнеможения.
– Но ваше состояние?
– Состояние! У меня нет его. Я бедняк, о, я ужасный бедняк! Я во сто раз беднее этих жалких существ, которые выпрашивают милостыню с простертой рукой там, на Невском проспекте, у Аничкина моста. О, зачем вы заставили меня вспомнить мое положение…
– Верите ли вы мне? – спросил я, несколько успокоившись, смущенного поэта. – Видите ли теперь, как выгодно писать из денег! Оставите ли свое намерение?
– Призвание, призвание! – повторил поэт, судорожно пожимая мою руку.
– Верите ли вы моей бедности? – спросил я и пристально взглянул ему в глаза. Он потупил их и покраснел. – Не верите! Ха-ха-ха! Видно, вас крепко уверили в ноем богатстве. Смотрите! – сказал я и раскрыл мой маленький чемодан, в котором лежал мой фрак и несколько худого белья. – Вот всё мое богатство! Любуйтесь, любуйтесь! Это я приобрел от литературы в продолжение пяти лет; неусыпным рвением, трудами, благородным желанием принести пользу. Оставите ли теперь свое намерение?
Поэт молчал, но меня уже и то радовало, что он забыл о призвании.
– Мало этого, – сказал я, – вот вам письмо, надеюсь, что оно убедит вас.
– Пошла вон, пошла! У барина гости, как ты смеешь лезть к нему! – послышался из-за ширмы голос моего Ивана.
– Не пойду, не пойду, не пойду! – отвечал резкий старушечий голос. – Что я, крепостная какая, что ли, вам досталась, помыкать мной; мыла, мыла белье – да мало того, что не платят, еще и не войди!
– Замолчишь ли ты, яга!
– Не замолчу, не замолчу, не замолчу! Отдайте деньги за мытье; что вы с вашим барином-то вздумали озорничать – видно, и он гол-соколик.
– А чтоб тебе, старая чертовка, ежа против шерсти родить! Типун бы тебе на язык. Еще смеет барина порочить. Пошла вон! – закричал Иван и силой протолкал старуху.
Это меня развеселило. Я имею чрезвычайно счастливый характер. В каких бы обстоятельствах я ни находился, я только свистну, пройдусь по комнате, закурю трубку, буде таковая есть, а не то просто плюну – и всё как рукой снимет. Так случилось и нынче; несмотря на мой тощий желудок, мне вдруг сделалось чрезвычайно весело.
– Милостивый государь! – закричал я. – Что там за шум происходит?
– Да вот, сударь, прачка пристала: подай да подай долгу, а и следует только два двугривенных; стану я из-за этакой мелочи беспокоить барина, да еще при чужих людях, оборони меня бог! – Последние две фразы прибавил
Иван затем, что мой гость вслушивался в его слова.
– Ну что, Иван Иванович, убедились теперь, что я говорю правду? Прочли письмо?
– Но, может, сие было писано на случай смерти от других обстоятельств.
– Что вы? Прочтите хорошенько; там просто сказано: на днях я должен умереть с голоду; когда меня не станет, завещаю тому, кто примет труд меня погребсти, надписать на моей могиле…
– Точно, точно; сказано.
– Что ж вы?
Иван Иванович молчал. Двукратное противоречие Ивана собственным моим уверениям подействовало на ум поэта сильней письма. С грустию в сердце увидел я почти разрушившуюся надежду свою спасти хоть одну жертву от хищных когтей чудовища, именуемого литературою; вдруг, в то самое время как поэт, снова увлеченный своим вдохновением, декламировал мне послание свое «К жестоко-душной», которое начиналось так:
В сфере высших проявлений
Проявляется она:
То как будто чудный гений,
То как будто сатана… —
дверь с шумом отворилась и грубый, решительный голос спросил: здесь ли живет господин П.?
– Здесь, здесь, батюшка, я уж знаю; я походил довольно за долгом к их милости, – подхватил другой голос.
– Да и я сейчас была, прогнали, просто прогнали! По миру пустить хотят, защитите, батюшка, – послышался визгливый голос женщины, недавно прогнанной Иваном.
Между тем человек в темно-зеленом вицмундире с красным воротником вошел в мою комнату и с величественною важностью начал обозревать ее.
– Что вам угодно, милостивый государь? – спросил я.
– На вас есть просьбица, дельце казусное. Вы то есть не платите крестьянину Григорию Герасимову, содержателю здешней мелочной лавочки, денег за продукты, у него забранные.
– Но могу ли я заплатить, когда сам их не имею?
– Нам невозможно входить в разбирательство таких мелочей. Довольно, что жалоба имеет законное основание, В потому я бы попросил вас выплатить без отлагательства.
– Но этот бездельник слишком важничает, вишь, велика персона: пятидесяти рублей подождать не может.
– Ждал, необлыжно говорю: ждал долго! – вскричал оскорбленный лавочник, высунувшись из-за ширмы. – Да еще ругается! А сам прежде писал: вот, посмотрите, ваше благородие! – И он подал ему какие-то записки.
Чиновник прочел: «Милостивый государь, любезнейший друг и земляк! Вы своим великодушием и покровительством, какое оказываете всем в одном месте родшимся с вами, заставляете меня надеяться, что и ныне не откажете снабдить меня двумя золотниками чаю и таковою же пропорциею березинского табака, за что деньги получите на днях. Примите уверение в искренности чувств и пр.». В заключение чиновник прочел мое имя и фамилию.
Я взглянул на моего поэта, всё лицо его было слух и удивление.
– Что, верите ли теперь?
– Но ваши ломбардные билеты?
Не успел я ничего отвечать, как дверь снова растворилась и в комнату вошел хозяин. Как я ни был бесстрашен, но это поколебало мое хладнокровие… Хозяин!.. Знаете ли, что предвещает приход хозяина тому, кто не платит за квартиру?
– А! здравствуйте, Семен Семенович! Вы здесь; вот кстати как нельзя больше, – сказал хозяин и подал руку чиновнику.
– Батюшка, уж и обо мне-то замолвите, – сказала прачка, кланяясь квартальному…
Хозяин мой отвел его в сторону и пошептал ему что-то на ухо.
– Еще на вас, м<илостивый> г<осударь>, жалоба! Вы не платите за квартиру.
– Прошу вас очистить ее сегодня же, сегодня… У меня нанимают, деньги верные, да и больше дают; где это видано, жить даром в чужом доме! – кричал хозяин.
– Забирать даром мелочные припасы, – подхватил лавочник.
– Заставлять мыть на себя белье и не платить денег. Да еще называть честную женщину – и невесть как. Вишь, лакеишко-то спозаранку, видно, наизволился! – прибавила прачка.
Это дивное трио продолжалось с четверть часа, разнообразясь до бесконечности… Вопрошающим взором взглянул я на поэта.
– Но ваши ломбардные билеты? – повторил он.
– Они существуют только в моем воображении!
– Если вы честно не разделаетесь, то, извините меня, я поступлю по всей строгости законов, – сказал квартальный.
– И хоть еще строже! Черт вас возьми всех! Убирайтесь вон! Вы мешаете мне заниматься! – закричал я, стараясь перекричать их…
– Вон! из моего собственного дома? Ха-ха-ха! посмотрим. Убирайтесь сами, покуда целы… Не то ведь… держал же вас в доме даром, так, видно, и покормить придется. Кормовых денег не пожалею, вы же не служите; так – как раз!
– Окажите милость, остановите хоть вот эту шинель да сюртук, что на них надет, может быть, хоть половину за них выручу, – сказал лавочник квартальному, рассматривая мою шинель.
– А мне, батюшка, хоть белье-то предоставьте, я и тем буду довольна; пускай уж мое пропадает, – говорила прачка.
– Убирайтесь вон! – заревел хозяин.
Я обратился к тому месту, где стоял поэт, с вопросом: «Верите ли мне? Отказываетесь ли от своего намерения?» Никто не отвечал мне; я обвел глазами комнату, но его уже не было, Я взглянул на пол: все до одной рукописи Ивана Ивановича лежали на прежнем месте. Лицо мое просияло.
– Стыдно, стыдно! – кричал между тем хозяин. – Молодой человек, где бы трудиться, наживать деньги, а он вдался, прости господи, в какую-то ахинею, пишет и пишет, а что толку? Грех, господи прости, этаким людям и добро-то делать, поблажать их порокам.
– Да ведь кто ж знал, батюшка: думаешь, и честной человек, еще земляком называется.
– Я и сама прежде думала, – начала прачка.
– Цыц! старая ведьма! измелю в порошок и вынюхаю! – закричал мой Иван, который всё это время провел в немом созерцании.
– Убирайтесь же поскорей! вам ли говорят, – повторял хозяин.
– Хоть бы шинель-то мне отдали, – сказал лавочник и надел ее на себя.
– Посмотреть, не спустил ли уж и бельишко-то, – сказала прачка и начала шарить в моем чемодане.
– Цыц! нишкни! старая карга! Изобью в ножевые черенья, только тронь! – закричал Иван и оттолкнул ее от чемодана.
– Нет, это выше сил моих! – вскричал я, схватившись за голову. – Мучители, кровопийцы! Чего вы от меня требуете? Вы хотите меня с ума свести, хотите вымучить из меня душу, растерзать тело, вцепиться в мою печень. О, если б вы это могли! Что говорю? Я сам это сделаю! Только позвольте мне отхлестать вас по щекам моими внутренностями, я их сам вытяну. О, я убежден, что вы не проживете после того ни минуты!
Очевидно было, что я завирался; я всегда завираюсь в патетические минуты жизни; да и когда ж бы завираться, не будучи в опасности показаться дураком, если не пользоваться такими минутами?
– Вы начинаете бесчинствовать, – сказал квартальный, – вспомните, что я облечен властью…
– Поступать со мной, как законы повелевают? Знаю, знаю!
– Но вы можете всё это кончить гораздо для себя выгоднее.
– Как это? – спросил я.
– Немедленно оставить квартиру, предоставив принадлежащие вам вещи в пользу кредиторов.
Я крепко задумался. Но для вас это не интересно: охота ли читать, что происходило в душе человека, когда у него в желудке пусто, в кошельке пусто и когда ему предстоит через минуту величайшее наслаждение воскликнуть:
Мне покров небесный свод —
А земля постелью!
В этом нет ничего комического!..
– Но позвольте мне по крайней мере переменить белье и надеть мой белый галстух! – воскликнул я, по тщательном соображении решив, что если мне суждено умереть, так уж всё лучше умереть в чистом белье и белом галстухе.
На галстух имел виды лавочник, на белье прачка: они вопрошающим взором взглянули друг на друга.
– Извольте! – сказал великодушный лавочник.
– Извольте! – нехотя повторила за ним прачка и ушла за ширмы.
Я наклонился к человеку, чтоб достать белье, и увидел лежащую подле него на полу залитую ваксой статью, начатую мной поутру. Луч надежды блеснул в моем сердце. Как утопающий, схватился я за эту последнюю надежду и с подобострастием сказал хозяину:
– Еще до вас просьба. Позвольте мне остаться на несколько часов в вашем доме, чтоб дописать вот эту статью, я надеюсь получить наличными.
– Ни за что! – сказал хозяин решительно. – Вспомните, сударь, что вы давеча говорили: вы оскорбили мою личность.
– Личность! – сказал я в испуге и бросился к дверям… Это слово всегда имело на меня такое действие…
– Иван! – закричал я из дверей. – Забери все бумаги и иди за мной, всё прочее я оставляю моим кредиторам. Иван пошел исполнять приказание, я растворил дверь с твердой решимостью оставить дом коварства и крамолы,но вдруг всё изменилось.
– Друг мой! ты ли это? – закричал человек, всходивший на лестницу в то самое время, как я с нее спускался.
– Дядюшка! Мелентий Мелентьевич! – воскликнул я, и мы бросились друг другу в объятия. Славный человек Мелентий Мелентьевич: он заплатил мои долги, накормил меня, нанял мне квартиру… Но я оставляю до другого времени познакомить с ним читателя, а теперь обращаюсь к моему герою, которого совершенно забыл, заболтавшись о себе.
Но что я скажу о нем?
Все мои поиски отыскать Ивана Ивановича Грибовникова были тщетны: я справлялся во всех кварталах о его квартире, писал в Чебахсары к его родным, ничто не помогло: Иван Иванович пропал. В продолжение нескольких лет я не пропускал ни одной новой книжки, ни одного нумера журнала, чтоб не посмотреть, не явилось ли что-нибудь под его именем или хоть написанное в его роде, совершенно новом, который обещал в нем со временем литератора самобытного и замечательного. Несколько раз проклинал я свою настойчивость в первое наше свидание, думая, что поэт стал жертвою предубеждения, посеянного мною в юной душе Ивана Ивановича. С ужасом видел я, что мой коварный умысел, внушенный мне самим адом, похитить у литературы деятеля, у славы чело, достойное быть ею увенчанным, удался как нельзя лучше. Желая загладить свою ошибку, я всеми мерами решился отыскать Ивана Ивановича, благословить его на литературное поприще, и вот уже четырнадцать лет не проходит дня, в который бы я не искал его, не вспоминал о нем и не укорял себя за необдуманный поступок. Мысль, что я, может быть, погубил в самом цвете, в самой силе его дарование, тяготит меня. В эти ужасные минуты мне остается одно только утешение: я переношусь в прошедшее, вижу перед собой пылкого, благородного юношу Ивана Ивановича, слушаю его стихи, наблюдаю течение его мыслей. Таким образом я начинаю припоминать его слова, вспоминаю, с каким жаром говорил он о призвании. Но отчего же он изменил ему? – рождается при этом вопрос в голове моей. У я? не потому ли, что он увидел, как оно мало приносит? Точно, точно, ведь он убежал от меня в ту минуту, как увидел крайнюю степень моей бедности, да и говорил-то о призвании только сначала. Но в таком случае он не мог чувствовать призвания? Впрочем, читатель сам может решить, был ли талант у Ивана Ивановича, или он просто был обыкновенный смертный… Если отрывки, приведенные здесь из различных сочинений Ивана Ивановича, будут признаны не лишенными достоинства, то я за долг поставлю себе короче познакомить публику с талантом Ивана Ивановича и по временам стану печатать в журналах плоды светлых вдохновений, тайных упоений, диких приключений, бед и огорчений и проч. Ивана Ивановича: их у меня достанет на девять томов!








