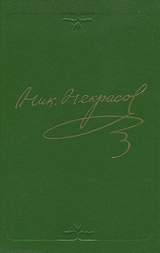
Текст книги "Том 7. Художественная проза 1840-1855"
Автор книги: Николай Некрасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 43 страниц)
– Господа, – сказал он нетвердым голосом, – конечно, это больше ничего, как случайность… забавная, конечно… но не менее неприятная… Сколь ни приятна мне честь, которую вы мне делаете… ожидая вот уже полчаса на холоде моего завтрака, но я должен вам сказать, что для вас гораздо выгоднее было бы не дожидаться…
– Так вот что! С церемониями! А мы думали бог знает что! Полно; что за церемонии… Мало ли чего не случается… Дождемся… Мы тебя так любим…
Когда восклицания умолкли, хозяин продолжал:
– Благодарю, благодарю, господа. Но совесть не дозволяет мне долее употреблять во зло вашу благосклонность… Вы иззябли, вы хотите есть…
– И пить, братец, особенно пить!
– Но, увы!.. Я должен признаться…
– Идет! идет! – закричало несколько голосов, и взоры всех устремились на лестницу, где показался юный артист в сопровождении рослого парня, в пестром халате, с огромною связкою разнородных ключей. Клики общей радости заглушили слова хозяина, который всё еще говорил. Слесарский подмастерье в минуту был поставлен перед заветной дверью.
– Отпирай, братец, поскорей. Что вы так долго ходили?
– Был у десяти слесарей. Никто нейдет… Насилу уговорил одного.
Подмастерье попробовал один ключ, другой, третий – и наконец отпер замок…
– Ну вот! Все затруднения уничтожились сами собою. Было из чего хлопотать, говорить такую странную речь!..
С шумом и криком неистовой радости толпа бросилась в дверь.
II
В квартире
Квартира сотрудника состояла из прихожей, совершенно темной, гостиной, освещавшейся двумя окошками, выходившими на крышу сарая, кабинета, освещавшегося одним окошком, из которого видно было до сорока разнокалиберных труб, и кухни, заимствовавшей свой свет от коридора, в подражание планетам, заимствующим свет от солнца. В гостиной стояло три стула и березовый крашеный стол; в кабинете, длинном и узком, начинавшемся окошком и оканчивавшемся одностворчатого дверью в кухню, помещался длинный письменный стол, стул, зеленые вольтеровские кресла, этажерка, по другой стене – диван. Стол был завален книгами и рукописями в ужасающем беспорядке; под столом и на полу также валялись книги, рукописи и старые корректуры; на диване лежали смятая подушка и одеяло; на стуле – брюки с невынутыми сапогами – живое подобие хозяйских ног; над столом висели портреты Кутузова, Поль де Кока и Гутенберга; над кроватью картинка в рамке, обложенной золотым бордюром, изображающая красавицу, которая, ложась спать, распускает ворот сорочки. Во всем были заметны признаки бедности, беспечности и равнодушия к порядку и благообразию. Но ни в чем не было заметно малейших признаков завтрака…
– Давай же, братец, водки! – нетерпеливо сказал драматург.
– Водки! – вскричал Х.Х.Х. диким и страшным голосом над самым ухом хозяина.
– Водки! водки! водки! – повторили многие громко и резко.
– Водки!
И все начали кричать изо всей силы: «Водки!..» Хозяин стоял неподвижно, сложив на груди руки и осматривая по очереди каждого из присутствующих взором грустным и сострадательным.
– Господа, – наконец сказал он с принужденной улыбкой, – вы долго ждали, подождите немножко еще. Зато я расскажу вам чудесную повесть, в которой не пощажу даже себя. По-моему, лучше сознаться во всем чистосердечно, чем оставить необъясненными причины странного приема, который я вам сделал; тем более что между вами есть несколько лиц, которых я не имею честь знать коротко. Я должен извиниться перед ними… Итак, умоляю вас, выслушайте меня!
– Лучше бы прежде закусить.
– Ну пусть его говорит: он что-то очень расстроен!
Еще несколько минут продолжался ропот неудовольствия; наконец замечание издателя газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, что если хозяин настоятельно требует отсрочки завтрака, то, вероятно, имеет на то основательные причины, заставило всех замолчать. Сотрудник начал рассказ, который передается здесь с возможною точностию.
– Я имею, господа, привычку, когда у меня нет денег, – что случается двадцать девять раз в месяц, – прогуливаться по отдаленным петербургским улицам и заглядывать в окошки нижних этажей: это очень забавляет меня и нередко доставляет мне материалы для моих фельетонов. Не можете представить, какие иногда приходится чудеса видеть: иногда, проходя мимо какого-нибудь окошка, в одну минуту, одним мимолетным взглядом, увидишь сюжет для целой драмы; иногда – прекрасную водевильную сцену. В тот день, о котором я хочу говорить, я видел очень много забавных и странных вещей. Представьте себе панораму, в которой виды беспрестанно меняются, и тогда только вы поймете всё разнообразие, всю прелесть моего наслаждения. Мастеровой у станка, согнувшись, опиливает какую-нибудь мелкую принадлежность своей работы; жена, подкравшись сзади, целует его в колпак и в то же время делает глазки подмастерью, который сидит у другого окошка; цирюльник держит за нос толстого, красного господина, которому, как ребенку, под горло подвязана салфетка или целая простыня; титулярный советник целует свою кухарку, которая в знак особенной нежности колотит его по спине жирными, красными руками, засученными по локоть; чиновник в пестром халате, красной ермолке, перевернувшись на окошке вверх брюхом, старается кинуть на балкон второго этажа, где мелькает белое платьице, стройная ножка и черный локон, записку, сложенную хитро и красиво; другой, также молодой человек, а иногда и довольно старый, курит трубку, посвистывает и поет на голос «Чем тебя я огорчила»:
В двенадцать часов по ночам
Из гроба встает барабанщик…
Шум, крик, хохот, табачный дым столбом валит из раскрытых окошек. Четыре господина с почтенными, глубоко внимательными физиономиями сидят за зеленым столом; по углам пуншевые стаканы: один недопит на палец, другой на вершок, третий пустехонек, четвертый не тронут! Господин с крестом и с лысиной шутлив и весел, он мурлычет какую-то песенку; господин с крестом без лысины скучен н мрачен, он произносит проклятия… два остальные господина без крестов и без лысин ни скучны, ни веселы: они душой и телом погружены в игру, в карты, которые у них на руках, и по временам исподтишка – в соседственные. Господни с большими черными усами, и плисовом архалуке, гладит собаку и грозит кулаком жене; другой господин, с небритой бородой, стекловидными, опухшими щеками, потягивает по временам сивуху из стоящего перед ним полуштофа и после каждого глотка погружает свои пахучие губы в мягкую шерсть любимца-кота, целуя его и приговаривая: «Не хочешь ли водки, дурашка?»
О, сколько милых ласк потеряно напрасно!..
Девушка с густыми черными бровями, продолговатым вдумчивым лицом, подперши локтем голову, внимательно смотрит в книгу, лежащую перед ней на окошке; страницы перевертываются быстро, и не одна из них смочена слезами красавицы. Как приятно подсмотреть, что читает она!.. Мальчик перевесился через окошко и готов выпасть; грубая, неопрятная рука схватывает его за ногу и уносит в глубину комнаты; поднимается страшный вой… Старуха с огромным…
– Ну уж будет, братец, пересчитывать сцены, которыми ты любовался. Нельзя ли поскорей к делу?
– Сейчас, господа… Старуха с огромным совиным носом, черными усами и бакенбардами, с сухим, костлявым и желтым лицом, в раздранном рубище, сидит на ветхом треногом стуле и рычит, как корова, от горя и голода; девушка лет двадцати, также бедно и неопрятно одетая, но хорошенькая, очень хорошенькая, стоит перед ней на коленях, целует руки ее и нежным, дрожащим от слез и волнения голосом шепчет ей слова надежды и утешения…
Я невольно остановился перед кривым, полуразбитым окошком грязного деревянного домишка, где происходила сцена, о которой теперь говорю. Тут уже стояло несколько любопытных, привлеченных странностью зрелища. Они разговаривали между собою, смеялись, делали остроумные замечания, но никто не думал помочь несчастным… Такое равнодушие ужаснуло меня. Но я еще больше расчувствовался, когда старуха, вскочив с какою-то неестественною живостию, начала бить себя в грудь кулаками и кричать диким, нечеловеческим голосом.
– Видно, кликуша! – заметил один из зевак,
– Кликуша! кликуша!
И толпа подступила к самому окошку. Я за нею…
Старуха продолжала кричать; девушка стояла на коленях и молилась; лицо ее выражало трогательную покорность провидению; из глаз ручьем лились слезы…
Я бросился в ворота и чрез минуту очутился в комнате.
– Что здесь делается? – спросил я.
– Ах, помогите, помогите! – сказала девушка изломанным русским языком, доказывавшим неруcское происхождение. – Матушка моя умрет с голоду!
Девушка упала передо мной на колени.
– Не унижайся, дочь моя! – воскликнула старуха трагическим голосом по-немецки. – Мы бедны, но мы должны беречь свою честь: она единственное наше сокровище!
– Ах да! – воскликнула девушка и, зарыдав, упала на грудь матери. – Но вы, матушка, третий день ничего не кушали!..
У меня, господа, было всех-на-все пятнадцать рублей-до первого числа оставалось еще две недели; но если б я знал, что, отдав последние деньги, я должен буду умереть с голоду, я и тогда отдал бы их. Большого труда стоило мне оказать несчастным пособие: дочь – туда и сюда, но мать – гордая и честная немка, как я мысленно называл ее, – рвала на себе волосы и называла меня оскорбителем своей чести. Я принужден был употребить хитрость и, положив деньги в карман, шепнул девушке, чтоб она последовала за мною.
– Когда вам будет нужда опять, – сказал я, отдавая ей деньги, – приходите ко мне.
– О благодетель наш! Вы спасли мою мать! – воскликнула она с чувством глубокой благодарности. – Небо заплатит вам!
Сказав адрес моей квартиры, я поспешил удалиться.
– Всё это, – заметил нетерпеливый драматург-водевилист, – очень хорошо и доказывает твое великодушие, однако ж нисколько не относится к завтраку, о котором идет речь.
– О, напротив, напротив! – возразил сотрудник с большим жаром. – Совершенно напротив.
– Не мешайте ему продолжать, – сказал издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, – повесть его начинает меня интересовать.
– Если он и врет, то врет очень складно! – заметил Х.Х.Х.
– Известно, как сочинитель, – отвечал ему лунатик о громким хохотом.
Тишина восстановилась, и хозяин продолжал:
– Заметьте, господа, одно обстоятельство: когда я выходил от несчастных, так нечаянно спасенных много, быть может, от голодной смерти, некоторые из зевак, бывших свидетелями этой сцены, громко хохотали и показывали нд меня пальцами, делая на мой счет какие-то замечания; один даже сказал так громко, что я мог слышать:
– Надули голубчика!
Толпа отвечала ему хохотом… Всё это происходило назад тому месяца два. Поверите ли, господа, с тех пор до сегодняшнего дня Амалия (так звали девушку) не выходила у меня из головы. Каждый день я ходил мимо ее бедной квартиры, но ни разу не решился зайти, опасаясь оскорбить ее гордую и благородную мать. Зато Амалия ходила ко мне довольно часто…
– У-гу!
– О-го!
– А-га!
– Э-ге!
– Ваши двусмысленные восклицания совсем неуместны: она приходила ко мне не более как на минуту, брала небольшую помощь, которую я мог уделять ей от своих скудных доходов, и уходила, оставляя в сердце моем неизгладимый след своей красоты. В одно из своих посещений она рассказала мне свою краткую и простую, но трогательную историю и тем еще более увеличила мое участие, которое – вы догадываетесь – скоро превратилось в любовь. Амалия – ревельская уроженка, год тому лишившаяся брата, который кормил ее с бедною матерью. Потеря сына заставила старуху и дочь ее переселиться в Петербург, где Амалия надеялась найти место гувернантки и в крайнем случае горничной, или, как говорится для большей важности в полицейских публикациях, камер-юнгферы. Но надежды, по обыкновению, не сбылись; мать захворала; дочь работала день и ночь, но трудов ее недоставало на удовлетворение нужд и прихотей больной, раздражительной матери; нищета постучалась в дверь бедных страда лиц, за нею голод…
– А за голодом ты?
– Да, я, господа. Если бы вы слышали, с каким чувством говорила бедная девушка о своих несчастиях, как просто и красноречиво высказывалась в каждом слове ее беспредельная любовь к матери, если б вы знали, с каким терпением переносила она все капризы, все прихоти гордой и своенравной старухи, наконец, если б вы видели слезы благодарности, катившиеся из глаз несчастной девушки на мои руки, – уверяю вас, вы сделали бы то же, что сделал я: вы влюбились бы по уши! В последовавшее затем свидание мы объяснились. Не могу описать вам чувства, овладевшего мною, когда я услышал от нее робкое слово взаимности. Признаюсь, до той поры мне никто не объяснялся в любви и преданности, кроме моего вечно пьяного человека, который имеет привычку изворачиваться таким образом, когда я ловлю его в воровстве медных денег, водки и сахару. Разумеется, я обезумел от радости – не мог ни писать, ни думать, ни даже читать корректуры; целый день посвистывал, подпрыгивая в своей комнате на одной ножке, и не раз очень изрядно ушиб голову, потому что потолок, как видите, довольно низок. Но лишняя шишка на голове, господа, тут ничего не значит: она не может уменьшить того счастия, того внутреннего довольства и мира, которые приносит любовь, – я был на седьмом небе…
– Прекрасно, но будет уж о любви. Нельзя ли подвинуться к завтраку.
– К завтраку, к завтраку!
– Сейчас, господа! С каждым посещением я, как водится, открывал в ней новые совершенства. Не поверите, как несчастная любила свою мать! Иногда прибежит ко мне со слезами: «Матушка просит рейнвейну, рейнвейну!.. Если я скажу ей, что мы уже так бедны, что не в состоянии купить бутылку рейнвейну, она умрет с отчаяния!» В другой раз явится бледная, расстроенная, в обрывках того самого платья, в котором я увидел ее в первый раз. «Что же ты не одеваешься в свое новое платьице (я, господа, подарил ей прекрасное платье), которое так идет к тебе?» Она падает ко мне на грудь, плачет и признается робко и тихо, что продала его для удовлетворения какой-нибудь новой прихоти больной, выжившей из ума старуха. Какова девушка, господа?
– Это много, это очень много, – заметил издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, – когда девушка жертвует для больной матери даже нарядами. Прекрасный пол так любит наряды!..
Нарядов нет – прекрасный пол
Капризится, тоскует, плачет.
Наряды есть – прекрасный пол
Под потолокв восторге скачет.
– Вот вам экспромт, господа!
– Ха! ха! ха!.. ха! ха! ха!..
– Браво, Дмитрий Петрович!
«Как жаль, – подумал драматург-водевилист, смотря на издателя известной газеты с чувством глубокого удивления, – как жаль, что этот необыкновенный человек имеет привычку сам записывать свои каламбуры и помещать в печатных статьях. С каким удовольствием делали бы это другие!»
И он глубоко вздохнул.
Издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, между тем, по требованию господ, недослышавших его выходки, повторил свое четверостишие голосом более громким и торжественным и был снова осыпан всеобщими похвалами.
– Хорошо, командир! – сказал хозяин.
Эти слова произвели такое действие, что сотрудник мог еще целый час продолжать свой рассказ без опасения потерять слушателей, потому что издатель, награжденный похвалою своего сотрудника, который редко обращал внимание на его остроты, необыкновенно развеселился.
– Не правда ли, господа, – сказал он, когда тишина восстановилась, – рассказ, которым угощает нас мой почтенный сотрудник, стоит хоть какого отличного завтрака?..
Никто не осмелился противоречить, хоть, без сомнения, многие отдали бы десять подобных рассказов за рюмку водки и бутерброд.
– Ну-с, милейший мой, продолжайте…
И сотрудник, очень хорошо понявший выгоду своего положения, продолжал:
– Я имею несчастие, господа, принадлежать к числу тех людей, которые смотрят на женщину как на поэтическое создание, как на святыню…
– Весьма верный взгляд, – заметил издатель.
– Всякий, почти всякий из вас на моем месте, верно, не устоял бы против искушений, которые на каждом шагу расставлял мне демон соблазна. Я думал иначе. Погубить столь чистое, благородное и кроткое создание у меня не достало бы ни духа, ни совести; я понимал также, что не могу и жениться на нищей. И, однако ж, несмотря ни на что, непреодолимая сила влекла меня к ней. Я желал познакомиться с ее матерью, войти в их дом…
– То есть в конурку, – заметил кто-то.
– Ну да, в конурку. Но девушка сказала мне, что желание мое покуда несбыточно, и умоляла не разрушать обмана, благодаря которому мать ее довольно спокойна.
Прошло два месяца. В продолжение их Амалия была у меня раз пять и всегда получала какую-нибудь помощь. Наконец она прибежала третьего дня поутру и со слезами на глазах рассказала, что матери ее гораздо хуже, что нужна непременная и скорая помощь. Поверите ли, сердце мое облилось кровью: у меня почти совсем не было денег. Отдав ей последнюю мелкую монету, я просил ее прийти послезавтра и обещал оказать тогда гораздо большую помощь. К тому же, то есть к сегодняшнему, дню я приказал прийти некоторым моим кредиторам (двух из них вы имели счастие видеть). Назначая им этот день, я имел в виду деньги, которые получу с бенефицианта за мою пиесу. И вот я их получил. Бенефициант вручил мне двухсотенную ассигнацию – цена, за которую мы уговорились. Я просил у него мелких ассигнаций или серебра, но он сказал мне, что все деньги жена увезла домой. Дальнейшие события этого вечера всем вам, господа, очень хорошо известны: мы пили вместе, но я, кажется, выпил более всех, потому что, пришедши домой, едва мог кой-как прочесть корректуру, которую приказал человеку отнести пораньше в типографию, и завалился спать. Поутру я проснулся довольно рано, и первою мыслию моею была мысль о завтраке, на который я вас пригласил. Я рассудил, что всего лучше будет послать за завтраком к хорошему ресторатору…
– Прекрасная мысль!
– …и с нетерпением ждал моего человека, который, отправляясь по моим поручениям и своим собственным нуждам в город до моего вставанья, имеет обыкновение запирать меня в моей собственной квартире и уносить ключ с собою…
– Мой Санхо-Панчо делает так же, – заметил издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа. – Только я приказываю ему класть ключ на всякий случай в щель, которая у нас под дверями. Можно ключ достать и с той и с другой стороны, а между тем посторонний никто не знает.
– А вот мы вас и обокрадем! – сказал лунатик с громким хохотом.
– Мой человек, – сказал один молодой актер, – также имеет обыкновение запирать меня, но он поступает так единственно из предосторожности, чтоб меня самого не украли: больше украсть нечего!..
– Здесь, господа, – продолжал сотрудник, улыбнувшись наивному простодушию юноши, – начинается цепь тех несчастных событий, которые были причиною продолжительного вашего дежурства на холоде и невольного пощения. Человек мой до сей поры не возвращался: вероятно, он сидит в кабаке с приятелями, которых у него тьма-тьмущая…
– Конец! конец! – воскликнули многие с радостным нетерпением. – Скажи, братец, что ж за охота была тебе мучить нас рассказом о старухе и ее дочери, которые совсем нейдут к делу?..
– В том-то и дело, что не конец, – отвечал сотрудник. – Здесь только начинается…
– Что начинается? – спросили многие с ужасом.
– Развязка, – отвечал хладнокровно сотрудник. – Ужасная, роковая развязка, перед которой все рассказанные мною события покажутся совершенно ничтожными. Пропал человек – беда еще небольшая! Нельзя принести сюда завтрака – я бы мог, господа, пригласить вас к Кулону, к Лерхе, к Леграну…
– Всего лучше к Леграну, – гастрономически заметил Кудимов.
– Что же мешает тебе исполнить свое прекрасное намерение? – спросил Анкудимов.
– Пойдемте, – сказал Х.Х.Х.,– ты доскажешь нам свою повесть дорогой.
– В самом деле: веселей будет идти.
– Увы, господа, – отвечал сотрудник. – У меня нет ни копейки денег!
Белолицый и беловолосый Х.Х.Х. побледнел как мертвец. Длинноногий Кудимов выронил восклицание ужаса и с разинутым ртом, с выпученными глазами остался в том положении, в каком застала его ужасная весть: он протягивал зажженную спичку к погасшей трубке, насаженной на длинный чубук. Но всех ужаснее был водевилист-драматург: улыбка самодовольствия и льстивого внимания, постоянно украшавшая его сальные растрескавшиеся губы, не успела совершенно исчезнуть, но превратилась в какое-то странное смешение – сахара с дегтем, варенья с хреном, добродетели с желчью; зубы застучали, глаза выражали недоумение и боязнь. Страшная весть сотрудника не привела в ужас только тех, у кого были в кармане деньги, за которые, как известно, очень легко достать завтрак в любой из петербургских рестораций…
– Ну-с, милейший мой, – сказал издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, – продолжайте!
– Чтоб кончить мой рассказ, нужно возвратиться к тому, на чем меня перебили, – сказал сотрудник с печальной улыбкой. – У всех ли достанет терпения дослушать меня?
– О, без сомнения!
– Итак, господа, я с нетерпением ожидал человека, чтоб распорядиться приготовлениями к завтраку. Прошло около часа: вдруг слышу робкий, несмелый стук в двери; вставать страх не хочется, да и что было бы пользы, если б я встал? Лежу! Постучат, думаю, и уйдут. Так нет, стук продолжается, усиливается и наконец принимает все признаки барабанного боя. Меня взорвало; вскакиваю, бегу к двери и кричу с гневом: «Пожалейте своих кулаков! = Человек мой ушел и унес с собою ключ: я заперт!» Иду назад через кухню – слышу, стучат в стекло; оглядываюсь и узнаю… кого бы вы думали?..
– Амалию!
– Первым делом моим, господа, было возвратиться опрометью в кабинет и накинуть халат; затем подхожу к окошку, отпираю форточку; Амалия делает невольное движение ко мне, я к ней: уста наши встречаются…
– Водевиль, решительно водевиль!
– Нет, господа, драма. Амалия была бледна и печальна; на лице ее я не мог не заметить признаков только что высохших слез. Если б не преграда, разделявшая нас, я готов был бы броситься на колени просить прощения моей невольной дерзости.
– Отчего ты так печальна, Амалия?
– Ах, я несчастна, очень несчастна!
– Не новая ли беда вас постигла?
– Ах да, ужасная! Она зарыдала.
– Говори. Я помогу тебе перенесть ее. Ты знаешь, как я люблю тебя, как драгоценно мне твое счастие!
– Если б не ваша любовь (я говорю ее собственными словами, господа), если б не уверенность, что есть на земле человек, которому я что-нибудь значу…
– О миленькая!
– О несравненный!
Я сделал к ней движение, но оно было так быстро и неосторожно, что на лбу моем и теперь еще можно ощупать шишку, которую я получил, ударившись об раму (я как-то особенно счастлив на шишки). Амалия вскрикнула от испуга; но я успокоил ее, просунул голову в форточку, и поцелуи градом посыпались на мою рану: боль, разумеется, тотчас прошла…
– Я умерла бы, я давно уже не в состоянии была бы переносить тяжелых испытаний, которыми обременяет меня судьба, – лепетала она, продолжая прежнюю мысль. – Да если б еще не мать, не моя больная, бедная мать!
– О добрая девушка!
Робким, трепещущим голосом рассказала она, что матери ее с каждым днем становится хуже, что малейший признак нищеты приводит ее в ужас. Я благодарил судьбу, что имею средство помочь страдалице, и побежал в кабинет.
– У меня нет мелких, – сказал я, возвратившись с двухсотенной ассигнацией, кроме которой у меня действительно не было ни копейки. – Если б ты согласилась немножко подождать… Придет мой человек… я пошлю разменять…
– Моя мать, моя бедная мать! – произнесла девушка, ломая руки. – Может быть, она теперь при последнем издыхании!
Я не знал, что делать; сердце мое разрывалось; если б в ту минуту попался мне под руку мой человек, я бы растерзал его. Вдруг счастливая… счастливая!., (сотрудник горько усмехнулся) мысль озарила мой разум…
– Добеги в лавочку, – сказал я. – Разменяй эту ассигнацию: возьми себе сколько нужно… двадцать пять, пятьдесят рублей… а остальные принеси мне…
Она пошла – и не возвращалась…
Некоторые хохотали, другие принялись утешать бедного сотрудника газеты, говорили, что, быть может, долгое отсутствие девушки произошло от каких-нибудь непредвиденных обстоятельств, и пр. и пр.
– Напрасно вы тратите свое красноречие, господа, – сказал он печально и мрачно. – Припоминая все побочные обстоятельства, все декорации небольшой драмы, которую я вам рассказал, я с каждым часом более и более убеждаюсь, что «она» – просто плутовка. Не старайтесь утешать меня, я очень твердо уверен, что одурачен!
Никто не посмел возражать такому сильному убеждению, которое к тому же имело вид вероятности. Водевилист-драматург, долговязый друг его и некоторые другие взялись за шляпы, опасаясь прозевать скромный домашний обед, что было бы очень накладно в их положении. Я остановил всех, пригласив отобедать на мой счет в ресторации.
Мы обедали до полуночи, подтрунивая над сотрудником, который, выпив с горя всех больше, повторял беспрестанно раздирающим душу голосом:
– Я дурак, я ужасный дурак!..
1845








