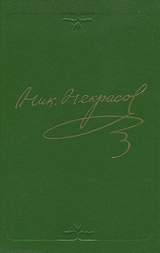
Текст книги "Том 7. Художественная проза 1840-1855"
Автор книги: Николай Некрасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 43 страниц)
Глава вторая,
о том, какой гриб съел капитан после завтрака
– Ах, кто-то идет… полноте, Андрей Петрович! – воскликнула в испуге Домна Семеновна, выдергивая свою руку из руки молодого человека.
В это время в прихожей раздался голос Кука:
– Дома ли барыня?
– Ах, это «наш капитан»! – сказала вдова. – Какой несносный! Ступайте покуда в эту комнату… я его сейчас выпровожу.
Молодой человек ушел в комнату направо, и в ту же минуту вошел капитан… Лицо ее показалось ему божественным, ручка, которую он облобызал с жадностию, обожгла его губы и, как надо полагать, была причиною прыщей, о которых будет говорено впоследствии. Сначала разговор был довольно обыкновенный; наконец с стесненным сердцем Иван Егорович решился приступить к объяснению.
– Сударыня, – сказал он, – вся природа веселится…
– Да, – отвечала она, взглянув на него с какой-то непонятной улыбкой.
– И вы тоже веселитесь, смею спросить?
– Как случится. – И она опять смерила его глазами и улыбнулась…
– Весна рассыпает благодетельные лучи на красоту вашу. Журчание ручейков, блеяние овец, зеленая травка, птицы небесные, конечно, вещи почетные… Что вы об них думаете, сударыня?
– Я совершенно согласна с вами. – Новая непонятная улыбка.
– Но по мне вы их затмеваете, сударыня. – Тут он «любовно» взглянул на Абрикосову и потом незаметно ущипнул себя в щеку, чтобы покраснеть.
– Вы нынче пускаетесь в комплименты, я от вас этого но ожидала, вы такой почтенный, мусье Кук…
Почтенным мусье, почтенный! Это несколько столкнуло капитана Кука с мыса доброй надежды, однако ж он скоро оправился и не терял бодрости.
– Странная бывает игра судьбы с человечеством, Домна Матвеевна, – сказал он таинственно.
– А что?
– Да вот что. Вы называете меня мусье Кук, а вам и невдомек, что был когда-то другой Кук, мореплаватель?
– Что ж тут удивительного… Такое сходство фамилий нередко.
– Но это сходство простирается гораздо дальше. Вы помните также, что тот Кук был капитан, а ведь и я, если не изволили забыть, не какой-нибудь прапорщик; тоже капитан. – Тут он приосанился и гордо взглянул на Абрикосову…
– И это случается.
– Он, как все моряки, любил пить ром, и я тоже, сударыня, хотя для экономии чаще пью вишневку.
– И это случается.
– Может быть, и конец-то наш будет одинаковый! – сказал Кук с глубоким вздохом.
– Как так?
– Да так. Он погиб от любви к морю, от ожесточения диких; а я, может быть, погибну от любви к женщине, от жестокости ее. От любви к вам! – воскликнул он, не имея сил более владеть собою, и упал на колена перед Домной Матвеевной.
– Ха-ха-ха! вы шутите, мусье Кук! Вот уж, право, странно. Вы были всегда так степенны, так любезны, а тут вздумали шутить!
«Шутить! я шучу! И это сказала она, в самую торжественную минуту моей жизни… когда душа моя готова была излиться в страстном признании; когда рай и ад теснился в мою душу… и когда одно ее слово могло меня осчастливить… О нет, она не любит меня!.. Она никогда не может любить… Она – холодная, безжизненная душа, которая отдала любовь свою в проценты, под верные залоги. А я, несчастный!» – вот что продумал в одну минуту озадаченный Кук.
– Прощайте, сударыня, прощайте! Вы меня никогда более не увидите, никогда!
– Помилуйте, мусье Кук; право, я вас не понимаю, разве вы шутите… ваш костюм…
– Мой костюм? мой костюм, сударыня, приличен благородному человеку моего звания и моей комплекции! – воскликнул Кук и в это время увидел себя в зеркале. – О ужас! О проклятие! Я в халате! – вскричал он отчаянно и выбежал на улицу; хохот вдовы и Чугунова проводил его. Проклятая надпись «Дом надворной советницы Абрикосовой» мелькнула в глазах его и лишила душу нашего капитана последнего покоя.
– Несчастный дом! На тебе никогда не будет надписано «Дом капитана Кука»! – сказал он с горестью и поехал домой.
Соблюдая историческую достоверность, мы, однако ж, должны сказать, что капитан сделал утренний визит госпоже Абрикосовой не в халате, а в форменном сюртуке, который за старостью и худобою носился только дома и носил название халата. У капитана была страсть давать вещам не по шерсти кличку…
Глава третья,
о том, как капитан Кук пил кровь и какого мнения приятель его о брюках со штрифками
– Крови, Степка, крови! – яростно закричал капитан, вбегая в свою комнату.
Степка подал ему стакан красной жидкости, которую он выпил с жадностию.
– Отелло! сколько разительного сходства в судьбе моей с твоею! Ты блаженствуешь… семейное счастие тебе улыбается… Дездемона – ангел, Дездемона – рай души твоей… вдруг… всё переменяется: Дездемона – демон, ад души твоей… «Крови, Яго, крови!» – восклицаешь ты, и сердце твое разрывается… Так и я. Обольстительные мечты лелеют пламенную душу мою… Домна – кумир мой, Домна – лучезарная звезда моего счастия… Я ощущаю предвкусив ее объятий… подъезжаю к пой; самый дом мне улыбается… вдруг… адские проценты! демонский хохот ростовщика над бедняком, принесшим в заклад свое бедное сердце! Ха-ха-ха! у него ничего больше… каменный… вдова… дом… прекрасная… Я разорен! Крови, Степка, крови! – вторично воскликнул Кук и опять проглотил стакан. Но ничто не успокоивает бедной души его. О, как тяжело потерять веру в людей, в счастие, в жизнь, в дев, в мечту, в каменные строения, в чистоту нравов; о, ужасно! Будь у него бронзовая голова на каменном фундаменте… он бы и тут не выдержал!..
Быстрыми шагами ходил он по комнате и в ужасном отчаянии ломал себе руки, скрежетал зубами, моргал бровями, кусал губы и т. д. В таком положении застал его Евстафий Андреич, франт, отставной поручик, задушевный друг капитана.
– Что с тобой? – спросил он, заметив необыкновенную мрачность Кука.
– Ничего! – отвечал Кук гробовым голосом. Слова его заметно подействовали на чувствительную душу Евстафия. Он понял без слов, что друг его в бедственных обстоятельствах. У него была страстная охота прослыть утешителем страждущих, и он начал так, голосом, проникающим до глубины души:
– Друг мой! мы все люди, все человеки, все странники! – Кук пожал ему руку, в знак согласия, и вздохнул. – Итак, согласись, что не стоит роптать на трудности пути, когда он не бесконечен… Но если можно преодолевать эти трудности и находить для себя радости в скоротечной жизни, то зачем отчаиваться… будем бодры…
– Нет, радость не для меня!
Погибну я, как пламень дымный,
Среди полей, среди глуши!
Умру – и могила примет кости мои; сгнию – и прах мой соединится с землей; исчезну – и меня не отыщешь ни на земле, ни под землею! – Тут Кук заплакал и упал к нему в объятия…
– Кто погубил тебя? – спросил он с участием. – Она? Но для тебя не всё еще потеряно… Мир не вечен… Тебя ожидает другой мир, лучший дом…
– Лучший дом! – повторил Кук с некоторой надеждой. – Который, в какой улице?
– Дом, в котором успокоиваются все страждущие…
– Дом призрения бедных? Да он казенный?! – воскликнул Кук с прежним отчаянием.
– Есть, говорю я, мир, где будут жить по смерти; где встречаются души любящие и страдающие для вечного, неизменяемого блаженства… Там ты найдешь ее!
– Крови, Степка, крови! – закричал Кук еще отчаяннее.
– Что так поразило тебя? – спросил друг.
– Неужели я должен обречь остальную жизнь, – произнес он, глотая влагу, – на страдания, слезы, проклятия, вздохи, воспоминания веселые, предчувствия печальные, идеи мрачные и мечты прозаические, – сказал Кук раздирательным голосом. (Я вам говорил недаром, что он играет в трагедиях.)
– Постой! может быть, всё поправится, – сказал друг с надеждою.
– Увы!
– Кто она?
– Домна Семеновна Абрикосова.
– И она отказала? странно!
– Ужели вечно будем мы бездомны! – произнес Кук и заплакал.
– Не плачь! Домна не так жестока… Не понимаю, почему она отказала? Когда ты у нее был?
– Я только от нее перед твоим приходом.
Тут друг внимательно оглядел Кука с ног до головы и захохотал пронзительно.
– Теперь наконец я всё понял! – произнес он торжественно и подвел Кука к зеркалу.
– Знаю, видел! семи пуговиц нет, правая пола разорвана, на левой во всю длину сальное пятно, – простонал Кук голосом недорезанного теленка.
– А на шее-то, на шее что? – сказал Евстафий. – Носовой платок вместо галстуха, и весь в табаке…
– О судьба! Ты ли обрушила на главу мою столь тяжкие бедствия? Крови, Степка, крови! – И Кук опять выпил крови.
Евстафий хохотал.
– И ты в этом костюме предлагал ей приятности своей особи?
– Да… шила в мешке не утаишь.
– Любовь без галстуха, любовь без штрифок! ха-ха-ха! И ты ничего не снял, не прибавил, приехав домой?
– Ни йоты! – отвечал Кук мрачно.
– Бьюсь об заклад, что твоя неудача произошла от костюма! Ты, верно, показался ей шутом, полусумасшедшим!
Пока он так рассуждал, Кук, с своей стороны, доискивался причины небрежности наряда. Наконец он догадался. Идея о сватовстве была так быстра и неожиданна и так ему понравилась, что она в ту же минуту завладела всею полостию его ведения;он всё забыл… и удивительно еще, как он не забыл самой шапки!
– Но всё равно! Она не любит меня… Любовь не разбирает, в каких видах, она проявляется! Не костюм, не суетные украшения – на нее действует только личность… а она отвергла меня!
– Постой. Всё поправится! Есть у тебя хорошее платье?
– Как же! Всё новое, третьего года только сделал! Темно-зеленый фрак с плисовым воротником, малиновая жилетка с желтыми цветочками… галстух белый с красненькими полосками, брюки суконные.
– Без штрифок? – спросил друг нетерпеливо, с каким-то страшным предчувствием.
– Да!
– Ничто – не годится!
Кук был как пораженный громом… кровь бросилась ему в голову.
– Крови, Степка, крови!
– Друг мой, – сказал Евстафий после некоторого молчания, схватив его за руку, – ты хочешь владеть ею?
– Еще бы! – произнес Кук едва слышным голосом, в котором изображалась вся внутренняя борьба этой великой души.
– Есть ли у тебя в наличности пятьсот рублей?
– Есть полторы тысячи!
– Она будет твоею!
– Она будет моею! Крови, Степка, крови!
– Бери деньги с собой, пойдем к лучшему здешнему портному. Костюм повредил тебе, он же должен и поправить дело…
– Ты уверен?
– Как нельзя более… Великое дело брюки со штрифками!
Разряженный самым блистательным образом, капитан Кук подъехал к дому Абрикосовой. Он более отчаивался, чем надеялся. Только когда воображение рисовало ему собственную его фигуру, красивую, новомодную, он несколько ободрялся. Он спрашивал самого себя: что бы я сделал, если б был на месте Домны Семеновны? Вышел бы замуж за капитана Ивана Егоровича Кука, – отвечал он с самодовольствием, вытягивая свои триковые ноги. Мало-помалу он убаюкал сомнение, и, когда всходил на лестницу, в душе его была одна надежда.
На последней ступени лестницы он встретил молодого человека.
– Здравствуйте, Андрей Петрович! – Но Андрей Петрович насмешливо поглядел на Кука, не поклонился и пошел далее. Сердце капитана вздрогнуло, он готов был закричать: «Крови, Степка, крови!» Но впору опомнился.
Более мы ничего не скажем о вторичном сватовстве нашего капитана. Он очень скоро возвратился домой и в этот день истребил необыкновенное количество крови. Когда он не пил, то вздыхал и произносил про себя:
– Черт бы взял всех портных! деньги даром берут!
Глава четвертая,
о том, какое условие заключили Кук с Чугуновым и какую кровь пил капитан Кук
Мрачен и дик сидел капитан за завтраком. Он почти ничего не ел. Интересная виньетка полуштофа не привлекала уже его внимания. Темно было у него на сердце. Дверь отворилась; вошел Андрей Петрович Чугунов.
– А, какому приятному случаю… Ну что, достали денег?
– Нет, я хотел просить вас.
– Ах, молодой человек, до суеты ли мирской мне теперь… Я убит горестию, растерзан… я сам несчастный, бездомный сирота!
– Послушайте, Иван Егорыч. Я знаю ваше горе: вам отказала Домна Семеновна.
– Вы знаете… О, теперь весь город знает мое бесчестие!
– Не отчаивайтесь! Знаете ли, что от вас зависит оправить дело?
– От меня, от меня?.. Как? я уж употреблял все средства: лучше одеться нельзя.
– Домна Семеновна никогда бы не отказала вам… вдруг она узнала меня… не знаю почему она отдает мне преимущество…
– Вам! так вы мой соперник… а? Вы благородный человек… вы знаете, что такая обида… Крови, крови!
– Позвольте, дело может обойтись без крови…
– Как без крови… я убит горестию… Силы мои слабнут. Крови, Степка, крови!
Он выпил крови. Молодой человек был изумлен.
– Послушайте, – наконец сказал он, – вся беда в том, что она не знает, что я имею невесту, и надеется, что я на ней женюсь, а я поддерживаю ее в этой надежде для того, чтоб она дала мне взаймы тысячу рублей на мою свадьбу… Если вы согласитесь…
Кук прозрел. Ему стало всё ясно. Дом так ослепил его, что он тысячу рублей считал ни во что и сейчас же достал их из комода.
– Без процентов! – сказал он, вручая ему деньги.
Молодой человек остолбенел от радости.
– Я сейчас пойду к ней и дам понять, что женюсь, – сказал он с чувством признательности.
– И прибавьте, что ей никогда не найти мужа… Слышите, подожгите ее! – подхватил Кук.
– Хорошо, с удовольствием.
– Вслед за вами явлюсь я… Вот как он захочется доказать, что вы лгали, так и согласится.
– Именно, прекрасно… прощайте…
Молодой человек сказал правду: он точно ухаживал за вдовой, желая выманить у нее деньги, и, получив их от Кука, был радехонек с ней развязаться. Кук приоделся и отправился в третью экспедицию за сердцем и домком вдовы.
Вот он на лестнице, вот в гостиной; поправился перед зеркалом, закинул назад голову, выдвинул вперед левую ногу, засунул в карман два пальца правой руки, несколько закусил губу, сдвинул брови, усилил блеск глаз… и ждет.
Она входит. На лице ее признаки недавней злости: краснота и опухоль; но вот оно просияло. Она бросает на него взор изумления, взор почтения, взор умиления, взор ласки, взор радости, наконец, взор счастия… потом… одним словом, все возможные взоры, от сонного до страстного включительно.
Кук бодро повторил предложение.
– Крови, Стенка, крови! – радостно закричал Кук, вбегая в свою комнату.
– Ну что? – спросил ожидавший его Евстафий…
– Наша взяла! – воскликнул Кук торжественно…
– Вот то-то, я говорил, я знал, как много значат брюки со штрифками…
– Да, толкуй тут… ты где пропадал целую неделю?.. вот я тебе порасскажу… Что ж крови, Степка!
– Пожалуйте денег, сударь, вишневка вся вышла, – сказал Степка, выходя из прихожей с пустой бутылкой.
Карета
Предсмертные записки дурака *
Жизнь моя приходит к концу; скоро смерть костлявым перстом своим постучится ко мне в двери… скоро! Грудь моя иссушена страданиями, – поцелуям дев уже но разогреть ее. За грехи жизни, за борьбу с рассудком жестокий рок вырвал из головы моей все волосы, – макасарскому маслу их уже не вырастить! Трудно умирать, наделав так много глупостей в жизни, как я! Трудно умирать с горьким сознанием, что на душе грехов больше, чем было волос на голове в самую блестящую пору жизни; трудно рассчитываться с бренным миром, когда имеешь так много долгов… трудно, очень трудно! О я несчастный! О я глупец! Зачем не подумал я прежде о том, что делал… Зачем так поздно я себя понял! Братья люди! пожалейте бедного ближнего, который так поздно уверился, что он дурак; что всё назначение его жизни состояло в том, чтоб удерживать самого себя от глупостей. Пожалейте несчастного ближнего, который, не поняв себя вовремя, действовал вопреки своему назначению…
Не виню никого за мои заблуждения; никто их во мне не поддерживал: они сами укоренялись. Благодарю вас, добрые журналисты, вы даже старались прояснить мой разум; вы печатно доказывали мне горькую истину, в которой я так поздно уверился и незнание которой было причиною стольких несчастий и прегрешений! Глупое самолюбие мешало мне тогда поверить, что я дурак!
Незадолго до настоящей минуты я имел намерение написать и выдать в свет историю моих глупостей; но тяжела обязанность историка: трудно сохранить беспристрастие в отношении к самому себе, вы знаете это по опыту. Размышляя так, я решился не срывать покрова с прошедшей моей жизни. Не могу, однако ж, удержаться, чтоб не приподнять его, думая, что моя откровенность будет полезна человечеству. Может быть, я ошибаюсь; не упрекайте за дерзкую мысль: вспомните, что я дурак!
Думаю, что случай, бывший со мной в молодости и отбросивший яркую тень на всю мою остальную жизнь, будет кому-нибудь полезен. Приготовьте терпение: я хочу рассказать вам величайшую глупость моей жизни.
Из всех страстей, волновавших бурную мою молодость, зависть была едва ли но первая. Много я пострадал от нее. Не хочу, однако ж, безусловно порицать этого чувства. Подавив в душе своей личную ненависть, я сначала надеюсь высказать мое искреннее мнение о зависти. Зависть – не бесполезное чувство, хотя более вредное. Она приводит в волнение кровь и препятствует гибельному застою души; она пробуждает от бездействия, которое так вредно обществу; она заставляет иногда делать решительные глупости, которые от необычайной дерзости, с какою сделаны, получают вид глубоких соображений ума. Она постоянно держит человека, ею одержимого, в крайнем напряжении действующих сил – ума и воли. Не говорю о мелочной, ежедневной зависти, которую на каждом шагу вы можете встретить в Лондоне и в Калуге, на Выборгской стороне и на Невском проспекте, скажу о зависти более достойной внимания. Есть люди, которые завидуют Наполеону и Суворову, Шекспиру и Брамбеусу, Крезу и Синебрюхову; есть другие, которые завидуют Палемону и Бавкиде, Петрарку и Лауре, Петру и Ивану, Станиславу и Анне; есть третьи, которые завидуют Манфреду и Фаусту; четвертые… одним словом, все мы чему-нибудь завидуем. Вы встретите зависть в театре, смотрящую «Гамлета», в кондитерской, читающую-«Русский инвалид», на бале, танцующую с красавицей, которой завистнику не видать как ушей своих. Особенно проявление ее заметно в деле торговом, служебном в литературном. Но довольно о том, где можно встретить зависть, я хочу рассказать вам, где я ее почувствовал… Кладу левую руку на сердце, собираю остаток сил и молю благую судьбу, чтоб она не пресекла жизни моей прежде окончания моей поучительной беседы с благосклонным читателем…
Я родился в одной из линий Васильевского острова… от благородных, но бедных родителей. Когда мне минуло восьмнадцать лет, я остался сиротой и получил во владение десятитысячный капитал. Следуя предсмертному совету моего отца, я стал отдавать его в «частные руки», но как процентов мне на житье недоставало, я принужден был давать уроки… Жестоко жаловался я на судьбу свою, принужденный иногда но десяти верст в день бегать из-за пяти рублей. «Сколько людей ездят в каретах! – думал я, – Чем они лучше меня?» Мало-помалу эти жалобы становились чаще и чаще. Несчастный! я не понимал тогда, как много грешу против провидения, осмеливаясь осыпать роптаниями его благую волю. Сердце мое надрывалось от злости и зависти при виде кареты, я ненавидел тех, кто мог иметь ее… Зависть сосала мою душу… Что ни делаю, куда ни пойду – карета не покидает моих мыслей! Я пропускал уроки, говорил пошлости, делал глупости – и всему причиной была эта мысль. «За что, судьба жестокая ты создала меня бедняком? За какие подвиги столько народу ездит в каретах и за какие прегрешения я осужден целую жизнь проходить пешком?» – восклицал я в грешном отчаянии. Но всего ужаснее действовала на меня дурная погода. Когда на дворе дождь, грязь, гром, молния – и со мной то же самое; вид грязных сапогов побеждает твердость моего сердца: слезы льются ручьем, глаза сверкают как молнии, в голове шумит буря… «Страшно, страшно не иметь кареты!» – произносил я, на цыпочках переходя грязные улицы; вдруг раздавался вдали шум – я взглядывал и каменел от бешенства: мимо меня проезжала карета! Я тогда не мог владеть собою! Я готов был вскочить внутрь этого четырехместного чудовища; я готов был съесть глазами его квадратную фигуру, поглотить слухом его отвратительный стук, остановить зубами его правильное движение. Кровь моя приходила в волнение, ноги подгибались: я не мог идти, а дождь лил на меня ливмя, а гром гремел над самою моею головою, а страх опоздать на урок жег молнией мое сердце! Проезжало чудовище – я становился спокойнее, но ненадолго: опять вдали стук, снять оно; а иногда… о ужас! два, три, четыре чудовища разом… Решительно не было спасения! Грязь комками летит в бок, в ногу, в руку, в лицо, в рот… ужасно! Сколько причин ненавидеть человечество! Тебя публично кормят грязью, и ты не смей рта разинуть! «Задень за что-нибудь, расшибись, отвратительное орудие сатаны!» – кричал я, убегая от лошадиных копыт. Мучения мои доходили до невероятности. Самая любовь, которую я чувствовал к сестре одного из моих учеников, уступала место моему непостижимому чувству – к карете. Непостижимому, говорю я, потому что оно было действительно непостижимо: я любил карету, потому что завидовал ее обладателю; ненавидел, потому что желал ей всевозможного зла, как. источнику всех моих страданий… О, как я тогда был глуп! Самая любовь моя, повторяю, чуть было не превратилась в ненависть, оттого что предмет моего обожания ездил в карете. Я мучился, рвался, страдал, как шильонский узник, проклинал, как Байрон, и в страшном отчаянии незаметно издерживал свой капитал, вместо того чтоб отдавать его в проценты… Для успокоения сердца моего нужна была месть человечеству, для мести – карета… Я чувствовал, что обладание ею не сделало бы меня счастливее, но наслаждение видеть во власти своей эту рессорную гадину, иметь право раздавить ее при первой вспышке гнева… о, для этого стоит чем-нибудь пожертвовать! Долго я боролся с самим собою; долго искра потухавшего рассудка спасала меня от позорного названия «отъявленного дурака», наконец одно ужасное обстоятельство решило мою участь и помогло судьбе произвесть меня в «чистые дураки», каковым я теперь имею честь быть…
Однажды в довольно хорошую погоду я шел по Невскому проспекту; на сердце у меня было легко, потому что я уже давно не видал кареты. Я вспомнил мою любовь; ничего утешительного не было в ней; но она по крайней мере обещала мне много чистых наслаждений в настоящем. Любовь богата: она создана ездить в карете, жить в счастье и роскоши; я существо, явившееся в мир на правах пешего хождения,заклейменное странным пороком – завистью к карете!Но у дураков часто самые препятствия обращаются в мнимое их преимущество: я доказывал себе, что препятствия ничего не значат, что дело пойдет на лад, и выводил преглупые заключения, казавшиеся весьма вероятными моему ограниченному уму. Вдруг пошел дождь; стало грязно… Кареты чаще и чаще начали возмущать мой взор. По обыкновению мне казалось, что хозяева их глядят на меня с насмешкой, что кучера нарочно норовят наехать на бедного пешеходца и потом уж кричат ему пади,то есть «упади и простись с жизнию!» Глупо, очень глупо! а должно признаться, что такая дичь тогда казалась мне вероятною. Вот я перехожу улицу, вдали вижу карету, отворачиваюсь, чтоб не попасть под лошадей… Вдруг ужасный комок грязи летит мне прямо в лицо; я вздрагиваю от ужаса и негодования; хочу отнять от лица прилипший комок, но в это время в карете раздается хохот… Боже мой! чей хохот? руки мои опустились. Я оборачиваюсь и вижу – Любовь Степановну, мечту мою, предмет любви моей; она высунула головку из дверец и изо всей мочи изволит смеяться… Хохот ее и теперь раздается в моих ушах! Не могу припомнить, что я сказал тогда, только помню, что я сказал какую-то ужасную глупость… Судьба моя решилась. Как сумасшедший я убежал домой. Комок грязи был еще на лице моем; чувство присутствия его не дало охладеть моей ярости!
Я продал все свои вещи, собрал деньги, какие были, и купил карету. О, как я был тогда глуп!
Сделав эту капитальную глупость, я остался с несколькими сотнями рублей. А между тем расходы мои увеличились: проклятая карета требовала сарая, лошади – овса и стойла; люди – квартиры и хлеба. Я нанял небольшую комнатку с большою конюшней. Первый выезд мой в карете был к ним,на урок. Всё семейство и еще какой-то незнакомый офицер встретили меня хохотом. Меня бросило в жар и холод. Она, коварная, больше всех смеялась!
– Вообразите, – говорила мать офицеру, – мы только выехали покупать приданое для нашей Любиньки…
– Приданое, для Любови Степановны? – повторил я с ужасным предчувствием.
– Да, – отвечала Любинька смеясь, – мы ехали покупать наряды и так неосторожно… ха! ха! ха!.. брызнули…
Латинская грамматика Цумпта выпала из моих рук…
– Я отомщу за себя! – произнес я и выбежал вон из комнаты…
– Куда прикажете? – спросил лакей.
– Куда хочешь! Только скачи сломя голову там, где больше грязи, и старайся забрызгать всех прохожих, – закричал я кучеру.
Кучер и лакей вытаращили на меня глаза, думая, что я сумасшедший… А я просто был дурак…
С тех пор любимым моим занятием было скакать по улицам и смотреть, как грязь от моей кареты попадает на лица прохожих. Как скоро дурная погода, на улице грязь, я приказываю заложить карету и скачу, скачу, и с невыразимым наслаждением слежу глазами за направлением грязи, вылетающей из-под колес и копыт лошадиных! Я утешался мыслию, что в отмщение за обиды, нанесенные мне, пятнаю теперь сам грязью человечество. Дурак я, дурак!
Сколько я ни старался, мне, однако ж, никогда не удавалось влепить комок грязи в лицо тех особ, от которых я вытерпел некогда подобное унижение…
Наконец капитал мой истощился; я не ел сам, чтоб накормить лошадей, но всё было напрасно… Пришла минута горького сознания бедности, я увидел невозможность держать карету. Но я не продал ее. В безрассудном ожесточении на это немое орудие моего несчастия я собственными руками изломал мою карету, и в нищете, в отчаянии утешался еще мыслию, что я стер с лица земли хоть одну из тех двуместных гадин, которые столько людей, не исключая и меня грешного, запятнали грязью! О, как я был глуп!
Что еще сказать? Я уже упоминал, что это событие имело пагубное влияние на остальную жизнь мою. С разбитым сердцем, разочарованным воображением, бледный, изнуренный, наконец встал я с постели после продолжительной болезни, постигшей меня после уничтожения кареты. Силы мои были еще слабы; но я жаждал света божьего, жаждал чистого воздуха и вышел на улицу. На Невском проспекте я попал под карету и лишился правой ноги. Да научитесь вы, созданные на правах пешего хождения, из моего печального рассказа, что не должно завидовать людям, которые ездят. Если мой пример вылечит двух-трех завистников, я при конце жизни моей буду утешен, что сделал на своем веку хоть одно умное дело; для дурака и этого много! Завещаю тем, кто будет хоронить меня, чтоб за гробом моим не ехало ни одной кареты. Я сознаю, что предубеждение мое глупо, но не могу выйти совершенно из-под его влияния. Такова сила привычки. В старых дураках она извинительна!








