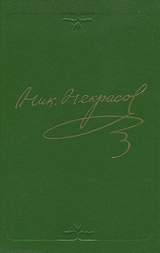
Текст книги "Том 7. Художественная проза 1840-1855"
Автор книги: Николай Некрасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 39 (всего у книги 43 страниц)
Впервые опубликовано: 03, 1843, № 11, отд. I, с. 319–341, с подписью: «Н. Некрасов».
В собрание сочинений впервые включено: Собр. соч. 1930, т. III.
Черновой автограф (ГБЛ А), являющийся одновременно наборной рукописью главы VII части второй романа «Жизнь и похождения Тихона Тростникова», без даты, с заглавием: «Необыкновенный завтрак» и подписью: «Н. Некрасов» – ГБЛ, ф. 195, М5758. 1, л. 86-104 об. Написан на двойных листах большого формата, имеет авторскую нумерацию (л. 5-21), содержит большое количество правки, вычеркнутых мест и дополнений на полях (см.: Другие редакции и варианты, с. 491–505). Обилие исправлений объясняется подготовкой очерка к печати. На листах рукописи есть следы типографской краски, зафиксированы карандашом фамилии наборщиков («Пермогоров 1-й», «Степанов», «Леонтьев», «Мурат<ов> 2-й»). Слева на полях помечено чернилами рукой Некрасова: «Рукопись вернуть обратно автору» (л. 21 об.). На атом же листе была начата и зачеркнута глава VIII романа о Тростникове от слов: «Успех моего водевиля…» – до слов: «Он сам подвизался…» (см.: наст. изд., т. VIII).
Черновой автограф (ГБЛ Б) от слов: «Эпизод из жизни сотрудника газеты…» – до слов: «– Молчите вы, свиньи! – с гневом воскликнул…», 4 л., без даты, с заглавием: «Необыкновенный завтрак» и авторской пометой карандашом (на л. 1): «В I отдел цензуры» – ГБЛ, ф. 195, М5756. Содержит значительные исправления (см.: Другие редакции и варианты, с. 505–508). Следы типографской краски, карандашная помета: «Мурат<ов> 1-й» (фамилия наборщика) свидетельствуют, что рассказ набирался также и по этой черновой рукописи. Очевидно, готовя «Необыкновенный завтрак» к печати, Некрасов заново написал начало, снабдив рассказ традиционным для литературы 1840-х гг. пространным подзаголовком: «Эпизод из жизни сотрудника газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа, рассказанный коротким его приятелем». Еще одно название (с подзаголовком) в таком роде – «Бал у писарей, или Дежурство в Новый год. (Фантастический эпизод из жизни чиновника)» (ОЗ, 1843, № 11, отд. VIII, «Смесь», с. 23–34).} Текст обеих черновых (наборных) рукописей в основном совпадает с текстом, напечатанным в «Отечественных записках». По-видимому, по цензурным соображениям в первой публикации были сделаны следующие исключения: «свиньи» (с. 312, строка 36); «господин с крестом» (с. 323, строки 5–7); «два остальные господина без крестов» (с. 323, строки 8–9); «как на святыню» (с. 327, строка 43). В настоящем томе эти купюры восстанавливаются по черновым автографам.
Рассказ датируется предположительно концом 1813 г., не позднее 31 октября, по цензорской помете на «Отечественных записках» (№ 11): «Печатать позволяется. С.-Петербург, 31 октября 1843. Цензоры А. Никитенко, С. Куторга».
«Необыкновенный завтрак» представляет собой главу VII части второй («Похождения русского Жилблаза») по завершенного и не опубликованного при жизни Некрасова романа «Жизнь и похождения Тихона Тростникова». В центре глав V и VI рома на, продолжением которых является «Необыкновенный завтрак», – тема литературно-журнальной борьбы эпохи. Отдельными сюжетными мотивами рассказ близок предшествующим автобиографическим прозаическим произведениям и водевилям Некрасова, посвященным эпизодам из петербургского литературно-журнального и театрального быта 1840-х гг.: «Без вести пропавший пиита» (1840), «Актер» (1841), «Утро в редакции. Водевильные сцены из журнальной жизни» (1841).
Кроме автобиографического материала в нем использованы и литературные источники. Некоторые тематические и стилистические параллели к «Необыкновенному завтраку» прослеживаются у И. И. Панаева («Русский фельетонист. Зоологический очерк» – ОЗ. 1841, № 3; «Тля! (Не повесть)» [43]43
Журнальное название повести И. И. Панаева «Литературная тля» (см.: Ямпольский И. Г.Из истории литературной борьбы начала 1840-х годов («Петербургский фельетонист» и «Литературная тля» И. И. Панаева). – Учен. зап. Ленингр. гос. ун-та, 1954, № 173, сер. филол. наук, вып. 20, с. 149).
[Закрыть]– ОЗ, 1843, № 2). Прямая ссылка на последнее произведение содержится в «Очерках литературной жизни» (1845) (см. выше, с. 355–356). В этой повести И. И. Панаева описываются бенефис и пирушка; с упоминания подобных эпизодов начинается и «Необыкновенный завтрак» Автор называет своих героев не столько по именам, сколько комическими формулами: «добросовестный» книгопродавец, «отягченный галантерейностями», «издатель какой-то газеты», «литературный сплетник» и т. д. Этот стилистический прием используется и Некрасовым: «сотрудник газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа», «актер, отличавшийся необыкновенной любезностью», «рыжебородый мещанин», «чернобородый мещанин», «драматург-водевилист» (см. об этом: Гуковский Г.Неизданные повести Некрасова в истории русской прозы сороковых годов. – Некрасов. Тростников, с. 371).
Однако система повествования рассказа (обилие диалогов, иронические намеки на реальные факты литературной жизни 1840-х гг., физиологические зарисовки, авторские отступления – рассуждение об удивительно «малообразованном русском журналисте», например) свидетельствовала о поисках Некрасовым своей манеры, которая формировалась в русле «натуральной школы», под влиянием Гоголя (см.: Жук А. А.Сатира натуральной школы. Саратов, 1979, с. 142).
Нелепость происшествия, лежащего в основе рассказа («приключение» с ревельской уроженкой Амалией, излагаемое Некрасовым в пародийном ключе), характерные сюжетные атрибуты произведений «натуральной школы»: отсутствие денег, кредиторы у запертой снаружи квартиры «сотрудника газеты», диалоги «через форточку» – усиливали комическое звучание «Необыкновенного завтрака», сближали его с водевилем.
В статье «Русская литература в 1843 году» (ОЗ, 1844, № 1) Белинский отметил «Необыкновенный завтрак», назвав его в числе «лучших оригинальных повестей в прошлогодних журналах» наряду с «Тлей» И. И. Панаева, «Чайковским» Е. П. Гребенки, «Вакхом Сидоровичем Чайкиным» В. И. Даля (см.: Белинский, т. VIII, с. 95).
Необыкновенный завтрак. – Название могло быть заимствовано Некрасовым из комедии, написанной им в соавторстве с П. И. Григорьевым (1-м) и П. С. Федоровым «Похождения Петра Степанова сына Столбикова» (1841–1842), в которой картина вторая озаглавлена «Необыкновенный обед». Ср. также: Тяжелый завтрак. Сценка из парижской жизни. – ЛГ, 1842, 31 мая, № 21, с. 436–438.
Эпизод из жизни сотрудника газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа… – Имеется в виду «Литературная газета», выходившая в 1840 г. (в период редакторства А. А. Краевского) с эпиграфом: «Журнал добросовестный есть дело великое в благоустроенном государстве. (Из записок журналиста)», а с 1841 г. – с иным: «Сделайте одолжение, читайте!». По поводу последнего эпиграфа неоднократно иронизировала «Северная пчела»: «Три раза в неделю „Литературная газета“ представляет своим читателям одну и ту же картину, занимающую с падающими буквами заглавия ровно осьмую часть всего объема газеты. На этой картинке изображены разные фигуры (в одном углу франт, в другом человек с галунами по всем швам <…>) с листом бумаги в руке, а под картиною находится жалобная и трогательная надпись: „Сделайте одолжение, читайте!“. С величайшим искусством художник выразил ответ в чертах лица каждой фигуры, изображенной на картине: „Рады бы – да, право, нечего“» (СП, 1841, 27 марта, № 67, с. 266–267); «Она так потешна своею важностью <…> что нам весьма жаль, что ее так мало читают, невзирая на нежный эпиграф; „Сделайте одолжение, читайте!“ Замечательно и небывало» (СП, 1841, 15 сент., № 204, с. 827).
…справедливость философской поговорки «Чем ушибся, тем и лечись»… – Пословица, означающая похмелье (см.: Снегирев И.Русские в своих пословицах. Рассуждения и исследования о русских пословицах и поговорках, кн. IV. М., 1834, с. 91).
…каждый этаж имел свой особенный воздух ~ Дом был наполнен подобными мастеровыми… – Ср. описание дома в «Петербургских углах»: «Дом, на двор которого я вошел, был чрезвычайно огромен, ветх и неопрятен; меня обдало нестерпимым запахом и оглушило разнохарактерным криком и стуком: дом был наполнен мастеровыми…» (см. выше, с. 333).
…отставной солдат с корректурами… – Ср. «О погоде» (1858–1865): «рассыльный Минай с корректурами»; рассыльный Минай упоминается и в «Песнях о свободном слове» (1865–1866) (см.: наст. изд., т. II, с. 181, 211).
…скверных прикупках… – В карточной игре – карта или несколько карт, получаемых игроками сверх сданных по правилам игры.
Авторство у нас еще доныне придает ~ где будут смотреть на него как на гения. – Ср. комическую трактовку этой темы в «Без вести пропавшем пиите» (1840) (выше, с. 47–66) и в фельетоне «Хроника петербургского жителя» (1844): «Ремесло сочинителя начинает мне с каждым днем больше нравиться: можно врать что угодно…» (ПСС, т. V, с. 401).
…был неказист; совсем не умел задать тона… – Ср. в «Без вести пропавшем пиите»: «Иван приводил в исполнение то, что, по его словарю, называлось „задавать тону“» (с. 61); в «Актере» (1841): «Я льстить не умею И тон задавать…» (наст. изд., т. VI, с. 562). Этот фразеологизм встречается также в «Жизни и похождениях Тихона Тростникова» (наст. изд., т. VIII).
Приятелем нашим прикинулся. Каждый день в лавку зайдет ~ полфунтика сыру швейцарского в долг… либо осьмушку чайку!.. – Подобный эпизод встречается в рассказе «Без вести пропавший пиита». См. воспоминания М. И. Писарева о Некрасове (Новости, 1902, 25 дек., № 355; а также: Успенский Н. В.Из прошлого. М., 1889, с. 4–5).
…и пойдет рассказывать, и про Асенкову, и про театр, и про ахтеров… – Варвара Николаевна Асенкова (1817–1841) – талантливая актриса петербургского Александрийского театра, ученица И. И. Сосницкого. См. также стихотворения «Прекрасная партия» (1852), «Памяти <Асенков>ой» (1855).
– Все издания Онисима Евстифеича-с. Приказал-с просить – похвалить-с хорошенечко-с. – Отражение автобиографических фактов – по заказам издателей и редакторов (Н. А. Полевого, А. А. Краевского, В. П. Полякова, Ф. А. Кони) Некрасов писал множество рецензий.
Пить чай пошли.~ Под машину. – В трактир или ресторан с органом.
…в пестром пестредевом халате… – Пестредь (пестрядь) – грубая бумажная ткань из разноцветных ниток.
…общество наше увеличилось издателем газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа… – Имеется в виду Ф. А. Копи (1809–1879), писатель, критик, водевилист, театральный деятель. С 1841 по 1843 г. Кони редактировал «Литературную газету». Об эпиграфе «Литературной газеты» см. выше, с. 575. «Издатель газеты, знаменитой замысловатостью эпиграфа», фигурирует в романе о Тростникове (см.: наст. изд., т. VIII) и в «Очерках литературной жизни» (1845): «издатель Дмитрий Петрович» – см. выше, с. 372–376.
Об отношениях Ф. А. Кони с Некрасовым см.: Евгеньев-Максимов В. Е.Некрасов и Петербург. Л., 1947, с. 31–36; Евгеньев-Максимов, т. I, с. 230–242; Королева Н. В.Н. А. Некрасов. Ф. А. Кони. – В кн.: Очерки истории русской театральной критики. Конец XVIII – первая половина XIX в. Л., 1975, с. 322–345; наст. изд., т. VI, с. 655–656. Ф. А. Кони явился прототипом «издателя какой-то газеты» Александра Петровича Д * в повести И. И. Панаева «Литературная тля» (см. указанную выше статью И. Г. Ямпольского, с. 156). Ср. также комментарий на с. 594–595.
…с очаровательною улыбочкой, которая на устах его обыкновенно служила предвестницею каламбура ~ есть-таки привычка запираться! – Ср. в романе о Тростникове (часть вторая, глава VI): «Рассказ a la Кони, с каламбурами» (см.: наст. изд., т. VIII). В фельетоне «Современные заметки» (1847) Некрасов иронизировал по поводу плоских каламбуров («самородных русских каламбуров»),широко представленных в водевилях (см.: ПСС, т. IX, с. 552–553).
…он метал банк… – Метать банк – сдавать карты игрокам (картежный термин).
…твой джин только держись. – Джин – английская водка.
…загибая угол червонной семерки. (Он понтировал в долг.) – Пять рублей мазу! – Терминология карточной игры. Угол означает четверть ставки (суммы денег, которую игрок ставит на карту), при объявлении которой загибается край, угол карты; понтировать – участвовать в карточной игре в качестве играющего против банка; маз – прибавка к ставке игрока, дающая право на долю в выигрыше.
– Берегите носы, господа,~ мы ведь все с лишним носом. – Некрасов использует распространенные в литературе 1830-1840-х гг. каламбуры и анекдоты о носе, собранные, в частности, в альманахе «Картины света», изданном А. Вельтманом (М., 1836) (см. также: Невский альманах на 1846 г. СПб., 1846). Шуткой о носе начинается часть вторая цикла стихотворений Некрасова «О погоде» (см.: наст. изд., т. II, с. 187).
Лафит– сорт красного виноградного вина.
Пармезан– итальянский сорт сыра.
…над столом висели портреты Кутузова, Поль де Кока и Гутенберга; над кроватью картинка в рамке… – Ср. в «Петербургском фельетонисте» И. И. Панаева: «На стене висят картиночки и портретцы великих людей» (ФП, ч. 2, с. 246). Поль де Кол (1793–1871) – французский романист-бытописатель, автор романов с запутанной интригой. Русская реакционная критика считала его произведения «грязными». В биографическом очерке о Поль де Коке (ЛГ, 1842, 8 марта, № 10, с. 208–210) Некрасов одобрительно оценивал демократическую тематику его произведений. Иоганн Гутенберг (1400–1468) – немецкий изобретатель, создатель европейского способа книгопечатания. Первоначально в черновой рукописи Некрасовым был назван и портрет Байрона (см.: Другие редакции и варианты, с. 498). Разностильность этих портретов, украшающих квартиру сотрудника, создавала комическое впечатление, намекала на «свободомыслие» литератора.
Стол был завален книгами и рукописями ~ на полу также валялись книги, рукописи и старые корректуры… – Ср. описание кабинета журналиста в «Петербургском фельетонисте» И. И. Панаева: «Груды рукописей, книг, газет и журналов французских и немецких разбросаны по столам, пыльные и в беспорядке; корректуры валяются на полу» (ФП, ч. 2, с. 243).
Представьте себе панораму, в которой виды беспрестанно меняются ~ Старухас огромным… – Перечень портретных и бытовых зарисовок, характерных для русских «физиологий».
…на голос «Чем тебя я огорчила»… – начальные строки стихотворения А. П. Сумарокова «Чем тебя я оскорбила» <1770>, вошедшего в песенники конца XVIII–XIX в. В первой строке иногда: «огорчила», «досадила». В песенниках первой половины XIX в. песня эта упоминалась как «любовная», «нежная» (см.: Песни и романсы русских поэтов. М.-Л., 1963, с. 75, 979). Цитируется в фарсе-водевиле «Две кормилицы», переделанном с французского Д. Т. Ленским: «Фекла: поет на голос „Чем тебя и огорчила“.» (Репертуар русского театра, 1841, № 8, с. 4).
…В двенадцать часов по ночам Из гроба встает барабанщик… – начальные строки стихотворения В. А. Жуковского «Ночной смотр» (1836).
…сидят за зеленым столом… – т. е. за карточным столом, оклеенным зеленым сукном, на котором мелом записывались взятки (карты, взятые старшей картой или козырем).
…в плисовом архалуке… – т. е. в коротком мужском платье, заменяющем халат, из хлопчатобумажной ткани с ворсом.
…беречь свою честь: она единственное нате сокровище! – Ср. вариант этой же фразы в «Очерках литературной жизни»: «…ведь тут честь – драгоценнейшее сокровище человека» (выше, с. 369).
…как говорится ~ в полицейских публикациях, камер-юнгферы. – Имеютсяв виду объявления в газете «Ведомости С.-Петербургской городской полиции». Камер-юнгфера (нем. Kammerjungfer) – камер-девица (придворный чин). Слово это упоминается также в черновых рукописях частя первой (глава IV «Счастливые») «Кому на Руси жить хорошо» (см.: наст. изд., т. V, с. 316).
…просит рейнвейну… – Рейнвейн – сорт виноградного вина.
Нарядов нет – прекрасный пол ~ Под потолок в восторге скачет, – Некрасов использует здесь куплеты из водевиля «Феоклист Онуфрич Боб, или Муж не в своей тарелке» (1841). Ср. начальные и последние строки:
Вот уж какой каприз нашел…
Скакать изволила… и только…
А мужа нет, так этот пол
Под потолок в восторге скачет
(см.: наст. изд., т. VI. с. 112).
Как жаль, – подумал драматург-водевилист~ что этот необыкновенный человек имеет привычку сам записывать свои каламбуры и помещать в печатных статьях. – Ср. «Очерки литературной жизни», в которых драматург-водевилист намеревается все каламбуры журналиста-издателя поместить в свой водевиль (выше, с. 374).
Мой Санхо-Панчо… – Речь идет о герое «Дон-Кихота» Сервантеса. Первый русский перевод «Дон-Кихота» с испанского был выполнен К. П. Масальским (СПб., 1838).
…пригласить вас к Кулону, к Лерхе, к Леграну… – Имеются в виду петербургские рестораны. Описание их см.: Пыляев М. И.Старое житье. Очерки и рассказы. СПб., 1892, с. 8–9.
…с двухсотенной ассигнацией… – Ассигнации – бумажные деньги, действовавшие в России до 1843 г., когда они были заменены государственными кредитными билетами.
Петербургские углы *
Печатается по тексту первой публикации, с восстановлением цензурных исключений и со следующими исправлениями по авторизованным писарским копиям: с. 337–338, строки 44-1: «выварю» вместо «выпарю» (по АК ГИМ); с. 339, строка 6: «говорят, сердяга» вместо «говорят» (по АК ЦГАЛИ); с. 339, строка 22: «осьмнадцать» вместо «восемнадцать» (по АК ГИМ); с. 340, строка 37: «худенькой» вместо «худенький» (по АК ГИМ и АК ЦГАЛИ); с. 340, строка 37: «тощенькой» вместо «тощенький» (по АК ГИМ и АК ЦГАЛИ); с. 341, строка 29: «совсем дело дрянь» вместо «дело дрянь» (по АК ГИМ и АК ЦГАЛИ); с. 343, строка 25: «страшный» вместо «странный» (но АК ГИМ и АК ЦГАЛИ); с. 343, строка 26: «странным» вместо «страшным» (по АК ГИМ и АК ЦГАЛИ); с. 344, строка 17: «Долго» вместо «долго» (по АК ГИМ и АК ЦГАЛИ); с. 350, строка 36: «сковал» вместо «оковал» (по (АК ЦГАЛИ); с. 351, строка 30: «клубами» вместо «клубом» (по АК ЦГАЛИ).
Впервые опубликовано: ФП, ч. 1, с. 254–303, с подписью: «Н. Некрасов».
В собрание сочинений впервые включено: Собр. соч. 1930, т. III.
Отрывок чернового автографа главы V «О петербургских углах и о почтенных постояльцах, которые в них помещаются» из части первой не завершенного и не опубликованного при жизни Некрасова романа «Жизнь и похождения Тихона Тростникова» (см.: наст. изд., т. VIII) от слов: «Хороший человек…» – до слов: «…кивала мне головой», с датой: «7 сентября» – ГБЛ, ф. 195, М5758.1, л. 24. Глава романа была написана на л. 21–29 (сдвоенных, большого формата) автографа. Л. 24–28, по-видимому, были извлечены Некрасовым из рукописи для подготовки их к публикации в качестве самостоятельного очерка в первой части «Физиологии Петербурга». Дальнейшая судьба л. 25–28 неизвестна.
Отрывок белового автографа: «…в себе похвалы ~ лучше, чем теперь» – с незначительными карандашными поправками – ГПБ, ф. 608, № 5099, 1 л. (см. о нем: Заборова Р. Б.Из архивных разысканий о Н. А. Некрасове. – РЛ, 1973, № 4, с. 124–125).
Первая авторизованная писарская копия (АК ГИМ) со значительной правкой чернилами и карандашом, с обозначением Некрасовым расположения политипажей, с цензурными и автоцензурными исключениями, с пометами красным карандашом и красными выцветшими чернилами цензора А. И. Фрейгаига (на л. 1 помета, служащая основанием датировки копии: «По решению Комитета нельзя печатать. 4 апреля 1844») – ГИМ, ф. 37, ед. хр. 510, л. 1-46. Текст: «…заключали в себе похвалы ~ было лучше, чем теперь» (л. 33) утрачен (см. с. 347–348, строки 36–30).
Вторая авторизованная писарская копия (АК ЦГАЛИ), очевидно более поздняя (сходство авторских исправлений с первым списком позволяет датировать ее также 1844 г.), в основном соответствующая печатному тексту (за исключением отдельных цензурных и автоцензурных купюр), с авторской правкой чернилами и авторской пометой слева в углу на л. 1: «Рыжов! Перепишите эту статью еще раз хорошенько и поскорее. Некрасов» – ЦГАЛИ, ф. 338, ед. хр. 36, л. 1-23.
Последовательность копий устанавливается на основании следующих соображений. На первом листе копии ГИМ после заглавия «Петербургские углы» рукой Некрасова вписано: «(Из рукописи „Русский Жиль Блас“)». В копии ЦГАЛИ подзаголовок изменен также самим Некрасовым и соответствует имеющемуся в печатном тексте (в первой части «Физиологии Петербурга»): «Петербургские углы (Из записок одного молодого человека)». По сравнению со списком ЦГАЛИ копия ГИМ является более черновой. В ней содержится большее количество авторской правки, зачеркнутых и незачеркнутых вариантов. Описание «петербургских углов» здесь более пространно и сопровождено множеством бытовых деталей, отсутствующих как в копии ЦГАЛИ, так и в тексте первой публикации. После слов: «остальное пространство до двери было завалено разным хламом» – Некрасов вписывает на полях рукописи ГИМ: «в углу [налево] направо и противуположном ему, в углублении, были устроены нары, прикрытые так называемыми постельниками из тростника; четвертый угол был пуст» (см.: Другие редакции и варианты, с. 515). Диалог героя-повествователя с содержательницей «угла» Федотовной в копии ГИМ имеет большее число вариантов, свидетельствующих о поисках Некрасовым окончательных и более точных формулировок (там же, с. 515–516). Значительна авторская правка Здесь и в характеристике отдельных персонажей, в частности «зеленого господина» (там же, с. 519–522). В копии ГИМ содержится ряд карандашных помет, сделанных, очевидно, цензором, рядом со словами, требующими разъяснения. Например, знаки вопроса стоят около просторечных выражений «ерунда» и «побывшился», произносимых дворовым человеком и Кирьянычем, крестьянином, «отпущенным по оброку». В копии ЦГАЛИ к слову «ерунда», еще не бытовавшему в 1840-е гг. в литературе, рукой Некрасова вписано примечание: «Лакейское слово, равнозначительное слову – дрянь» (с. 348).
Все сказанное свидетельствует о том, что копия ЦГАЛИ представлялась Некрасову завершенной и окончательной. Цензорская правка красным карандашом содержится лишь в копии ГИМ; в копии ЦГАЛИ она почти не учтена, что объясняется, очевидно, намерением Некрасова сохранить текст в первоначальном виде. Однако цензорские изъятия в копии ГИМ и в «Петербургских углах», напечатанных в «Физиологии Петербурга», идентичны. Таким образом, сличение обеих авторизованных рукописей с текстом «Физиологии Петербурга» дает возможность выявить цензурные купюры и восстановить их в тексте, публикуемом в настоящем томе.
Цензурной правке в копии ГИМ подверглись главным образом фразы, содержащие намеки антиклерикального содержания, и некоторые «неблагопристойные» выражения. На с. 344 (строки 9-10) цензором вычеркнуто слово «Богоявленский» в надписи «Богоявленский питейный дом», здесь же (строка 30) зачеркнуто: «дьячки и квартальные»; на с. 345 (строка 29) под зачеркнутой фамилией «Яковлев» сверху надписано «Я…», по-видимому, чтобы исключить недопустимый намек на лицо именитое или известное современникам (ср. с. 520, 591); на с. 334 (строки 20–22) отмечена фраза, содержащая намек на грубую пословицу: «Я смекнул, что лучше последовать известной пословице ~ пошел серединою», а на с. 339 (строки 40–41) – слова «перекрестился на образок, висевший над нарами»; на с. 339 (строки 11–12) зачеркнуто: «вы тоже крепостной» и вписано: «дворовый». Некрасов заменил цензорский вариант словом «господский». В рукописи ГИМ изъято ироническое упоминание «Северной пчелы». Название булгаринской газеты заменено нейтральным обозначением «одна газета» (см.: Другие редакции и варианты, с. 523). Цензорская правка в писарской копии ГИМ не коснулась слов «напевая что-то про барыню» (с. 339, строки 31–32). Они есть и в списке ЦГАЛИ. Однако в тексте «Физиологии Петербурга» это место отсутствует. Очевидно, оно было исключено при повторном прохождении «Петербургских углов» через цензуру 11 февраля 1845 г. По-видимому, тогда же были изъяты фразы: «Но уважение к исторической истине заставляет сказать, что при вывеске повивальной бабки изображения никакого не было» (с. 333, строки 25–27) и «У отца родного крест с шеи снимет» (с. 353, строка 29). В обеих писарских копиях эти фразы значились.
Помимо перечисленных исключений, связанных с замечаниями цензора, в тексте «Петербургских углов» прослеживается еще несколько купюр. К ним относятся: «Из избы сору не выношу» (с. 337, строка 13); «А на собаке какой грех» (с. 337, строка 24); «Да денег дай! – сказал дворовый человек, отпущенный по оброку, – Денег у черта просить, – проворчал сердито бородач. Разговор прекратился» (с. 340, строки 11–14); «накапал в стакан сала из ночника, всыпал щепоть табаку и целую горсть соли, долил вином и пальцем всё размешал. Мне стало страшно» (с. 349, строки 24–27); «господь прибыль дает» (с. 353, строки 19–20); «Вчерась в нем в церковь ходила, рублев десятка стоит. Известно, тоже у господ украден: нищему где платок покупать!» (с. 353, строки 38–40).
Все это дает основание предполагать существование еще одной, не дошедшей до нас рукописи «Петербургских углов» (наборной), в которой, очевидно, имелась отмеченная выше правка.
В «Петербургских углах» (ФП) содержится авторское рассуждение (с. 347–348, строки 38–30): «Такие брошюры загромождали русскую литературу в доброе старое время ~ когда, по их словам, все было лучше, чем теперь», заключенное в кавычки. Между тем в обеих авторизованных писарских копиях и в отрывке ГИБ кавычки отсутствуют. Комментаторы (К. И. Чуковский, А. Н. Лурье) находили к этому месту отдельные смысловые параллели в статьях Белинского. Точным цитированием это некрасовское рассуждение не представляется. В настоящем томе кавычки устраняются по обеим копиям, по которым в тексте «Петербургских углов» восстанавливаются и купюры, перечисленные выше.
Начало работы над «Петербургскими углами» (не в качестве самостоятельного произведения, а в составе главы V романа о Тростникове) относится, вероятно, к концу 1843 г. Основанием для такого предположения является некрасовская помета «7 сентября» (без указания года), сделанная в черновой рукописи главы «О петербургских углах и о почтенных постояльцах, которые в них помещаются». Очевидно, эта дата может относиться лишь к 1843 г., так как 4 апреля следующего, 1844, г. «Петербургские углы» были запрещены Петербургским цензурным комитетом.
Как явствует из цензурной истории, первоначально «Петербургские углы» предназначались Некрасовым для «Литературной газеты». На заседании Петербургского цензурного комитета, состоявшемся 4 апреля 1844 г. в присутствии председателя комитета Г. П. Волконского, цензоров А. Л. Крылова, А. В. Никитенко, С. С. Куторги, А. П. Очкина, рассматривались представленные цензором А. И. Фрейгангом «две статьи, назначаемые к помещению в „Литературной газете“: 1. Фантазия Ж. Ж. Гранвиля с политипажем, представляющим человека, нисходящего до животного, и животного, возвышающегося до человека [44]44
Речь шла о работе французского карикатуриста Ж. Гранвиля (1803–1847) (настоящая фамилия Ж. Жерар) «Животные, изображенные ими самими» (1842).
[Закрыть], и 2. „Петербургские углы“. Комитет первую статью признал позволительною и разрешил г. цензору одобрить ее к папечатанию; а вторую, на основании ї 3 ст. 3 Устава о цензуре, подверг запрещению» (Журнал заседания С.-Петербургского цензурного комитета 4 апреля 1844 г. – ЦГИА, ф. 777, оп. 27, д. 37, л. 38–41 об.). ї 3 ст. 3 Устава о цензуре препятствовал публикации статей, содержащих «оскорбление добрых нравов и благопристойности».
Вскоре после запрещения «Петербургских углов» Некрасов в качестве редактора начал интенсивную организационную деятельность по подготовке альманаха «Физиология Петербурга». Его основные темы и направление намечены в ряде фельетонов писателя, напечатанных в «Литературной газете»: «Хроника петербургского жителя» (ЛГ, 1844, 2 марта, № 9; 6 апр., № 13; 13 апр., № 14), «Черты из характеристики петербургского народонаселения» (ЛГ, 1844, 10 авг., № 31; 17 авг., № 32) и др.
К 1844 г. относится работа писателя над водевилем «Петербургский ростовщик». В одной из ранних газетных публикаций о первой части «Физиологии Петербурга» (предваряющей ее появление), в «Журнальных отметках» (РИ, 1844, 12 ноября, № 256), возможно принадлежащих Некрасову, приводится перечень статей будущего альманаха, процензурованного 2 ноября 1844 г. В его составе значится «Петербургский ростовщик». Однако при жизни писателя водевиль не был напечатан (см.: наст. изд., т. VI, с. 676–677). По-видимому, когда первая часть сборника уже была набрана (и соответственно на титульном листе первой части была обозначена дата: «1844»), Некрасову благодаря содействию А. В. Никитенко удалось получить цензурное разрешение для «Петербургских углов». На оборотной стороне шмуцтитула «Петербургских углов» помечено: «Печатать позволяется. С.-Петербург, 11 февраля 1845 года. Цензор А. В. Никитенко». Цензурное разрешение очерка определило окончательный состав первой части «Физиологии Петербурга», в которой вместо «Петербургского ростовщика» были опубликованы «Петербургские углы» как произведение, наиболее соответствующее направлению и структуре сборника. Очевидно, вторичное прохождение «Петербургских углов» через цензуру, включение очерка в почти подготовленный альманах явились причиной задержки выхода в свет первой части «Физиологии Петербурга», обещанной читателям в конце декабря 1844 г. (см. об этом: Бухштаб В. Я.Библиографические разыскания по русской литературе XIX века, с. 60–61).
«Петербургские углы» – одно из центральных произведений некрасовского сборника. Его содержание (быт и судьбы низших сословий, людей из народа, обитателей петербургского «дна») и художественная специфика в духе поэтики «натуральиой школы» полностью отвечали задачам создания беллетристики гоголевского направления, сформулированным Белинским в программном «Вступлении» к первой части «Физиологии Петербурга». Здесь же петербургские очерки, в том число и «Петербургские углы», соотносились с предшествующими опытами в подобном жанре, с французскими «физиологиями» и русскими нравоописаниями.
Некрасову – создателю «Петербургских углов» были хорошо известны издания А.-Л. Кюрмера «Французы в их собственном изображении» (1840–1842), физиологические очерки Ж. Жанена, издание А. П. Башуцкого «Наши, списанные с натуры русскими» (1841–1842), «Картинки русских нравов» (1842) и «Очерки русских нравов, или Лицевая сторона и изнанка рода человеческого» (1843) Ф. В. Булгарина и др. К нравоописаниям Булгарина он, так же как и Белинский, относился крайне отрицательно, неоднократно рецензируя их в «Отечественных записках» (1843).
К социальному исследованию петербургского «дна» обращались литературные современники и соратники Некрасова, многие из которых принимали участие в организованных им сборниках. Бедственному положению низших слоев петербургских тружеников были посвящены очерки Д. В. Григоровича («Петербургские шарманщики») и В. И. Даля («Петербургский дворник»); мелкий люд, живущий в Петербурге на положении жильцов у квартирохозяев, описан Е. П. Гребенкой в «Петербургской стороне». Все эти произведения, создававшиеся почти одновременно с «Петербургскими углами», напечатаны Некрасовым в «Физиологии Петербурга». Присущее им сходство тем, мотивов, ситуаций и даже языковых оборотов объясняется идеологической общностью и единством поэтических принципов, характерных для «натуральной школы».








