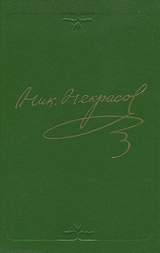
Текст книги "Том 7. Художественная проза 1840-1855"
Автор книги: Николай Некрасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 43 страниц)
– Делайте что хотите, – сказала Амалия, – только, ради бога, не слишком шумите и не говорите ничего моему мужу: он при смерти… Вот вам ключи от всего; вот ход в мастерскую, там все инструменты.
Исполнители закона принялись за дело. Вскоре пришел и Корчинский.
– Что, каково? не говорил я, что это будет, а? – сказал он с злобной усмешкой, громким голосом.
– Ради бога, не кричите; муж мой заснул… Он не спал больше недоли…
– Ничего, ничего, что он за неженка… Что, господа, много вещей оказывается?
– Немного.
– Тем лучше. Дольше ему не выйти из-под моей опеки… я буду платить кормовые деньги. И вы, >сударыня, если хотите, последуйте за своим мужем, я и за вас, так и быть, заплачу… Вы же его так любите… что же, не мешает, последуйте.
– Куда?
– В тюрьму, сударыня. Я бедный человек, но для вас последней копейки не пожалею.
– Ужасный человек! Вы поступили низко, вы выбрали ужасное время для своей мести…
– Что ж, господа, вы остановились?
– Опись кончена.
– Эге! что вы, господа? кончена!.. Были ли вы в той комнате? – сказал старик, показывая на спальню Франца.
– Нет.
– Клянусь богом, – сказала Амалия в сильном волнении, – там ничего нет, кроме необходимых вещей больного, которых вы не имеете права отнимать.
– Господа, я требую, чтоб спальня была осмотрена; иначе я не признаю верною описи.
– Ради бога, не ходите туда. Вы разбудите Франца, вы убьете его: он ничего не ожидает, он и не подозревает, что мы в таком ужасном положении…
– Тем лучше, тем лучше… Он услышит приятную нечаянность. – Старик дьявольски весело произнес эти слова, так что Амалия лишилась последнего присутствия духа.
– Господа, исполняйте свою должность. Исполнители сделали несколько шагов вперед.
– Жестокий человек… сжалься! Что ты делаешь? Ты хочешь убить его…
– Что его убивать, когда он и так на ладан дышит…
– Но ему стало лучше. Он заснул… О, сжалься, ради бога.
И Амалия готова была упасть на колена перед подлым стариком, который потирал руки от удовольствия.
– Что ж вы, господа, остановились? – сказал он. Исполнители сделали еще несколько шагов. Амалия в отчаянии ломала руки и умоляла старика.
– Ха-ха-ха! вот забавно! Как будто я но своему распоряжению. Заплатите по векселю… не заставляйте бедного человека потерять его достояния. Что я за богач такой, чтоб дарить по тысяче… И за что, смею спросить? Разве за то… помните, госпожа переплетчица? Тогда вы и смотреть не хотели, куда как расходилась в вас добродетель… А теперь, ну, теперь моя очередь… Не вечно коту масленица… Ха! ха! ха! Право, очень приятно получать свое с процентами.
– Сжалься! – повторила Амалия…
– Право, уж теперь почти поздно, сударыня, однако ж, так и быть, в последний раз… Послушайте. Муж ваш не сегодня завтра умрет, теперь, видите, дело другое… послушайте…
Он отвел Амалию в сторону и шепотом сказал ей несколько слов.
– Никогда, никогда! – воскликнула Амалия, с ужасом отскакивая от старика. Глаза ее пылали гневом и презрением.
– Господа, исполняйте же свою должность! – сказал с досадой старик и потел вперед исполнителей к спальне Франца.
– Я не пущу вас! – воскликнула Амалия отчаянно и стала неподвижно у дверей спальни.
– Вот еще какие штуки! Предписание налицо: за неплатеж по векселю описать и опечатать все вещи, находящиеся у переплетного мастера Гинде… Пустите, сударыня.
– Господа, вы не должны его слушать, он зол на нас. Придите в другой раз. Теперь вы можете нарушить сон больного, можете повредить его исцелению.
– Ха-ха! Какая важная причина откладывать формальные предписания! Ха-ха!
– Амалия, что там за шум? Поди сюда, Амалия! – < послышался слабый голос из спальни.
– Ради бога, замолчите! – сказала Амалия и пошла к мужу.
– Что же так долго нет доктора? Вот мне теперь легче. Может быть, с его помощью я скоро бы оправился…
– Скоро будет, мой друг.
Тут показалась в дверях седая голова ростовщика, и за ним вошли исполнители. Крайний ужас и гнев обезобразил лицо Амалии. Она не знала, что делать; то она готова была броситься и растерзать их, то хотела упасть перед ними на колена…
– Здравствуйте, Иосиф Казимирович! Вы в первый раз посетили меня больного; благодарю вас.
– Посетил, и, надеюсь, посещение мое доставит вам крайнее удовольствие.
– Я всегда думал так, потому что считал вас моим другом.
– Дудки, господин переплетчикс чего вы взяли, что я ваш друг… Вы думаете, что я пришел киснуть у вашей постели и охать вместе с вами; нет, я бедный человек, мне некогда заниматься таким пустодействием. Я пришел за долом, господин переплетчик…
– Что значит такая перемена, Иосиф Казимирович?
– Ничего, так, спросите вашу жену. Знаете ли вы…
Амалия умоляющим взором взглянула на старика.
– Знаете ли вы, почтенный, – хладнокровно продолжал старик, – что я пришел присутствовать при описи вашего имения…
– Как так? – спросил больной с сильным беспокойством.
– Готовьтесь в тюрьму, господин Гинде, – продолжал ростовщик тем же убийственным тоном, насмешливо поглядывая на Амалию.
– Что вы говорите?
– Я представил ваш вексель ко взысканию.
– Но разве вы забыли, что обещали отсрочить…
– То на словах, а не на бумаге. Мне только того и нужно было, чтоб заставить вас платить, когда у вас денег нет… Ведь нет,любезная Амалия? – прибавил старик насмешливо.
– Но я надеюсь, что я еще в состоянии собрать такую сумму, если вы не шутите…
– Я шучу! Собрать сумму в тысячу рублей! Так вы богатый человек, господин переплетчик… отчего же ваши дети умирают с голоду, а вы, прекрасная Амалия, с позволения сказать, до света бегаете к бедным людям за деньгами… О, да вы притворщица, сударыня!
И старик опять навел на нее свой злобно-насмешливый взгляд. Амалия отвернулась: в эту минуту старик показался ей гнусен до отвращения…
– Амалия! правду ли он говорит? Дети мне говорили, что они по дню голодают, что ты ночи просиживаешь за работой… Правда ли? говори! – сказал Франц слабым, дрожащим голосом…
– Нет, мой друг, будь спокоен, – сказала Амалия, стараясь придать своему голосу как можно более твердости.
– Не верьте. Послушайте меня, я лучше вас знаю, что делается у вас в доме. Я вам всё расскажу; а вы, господа, – прибавил старик, обращаясь к исполнителям, – занимайтесь своим делом. Слушайте.
Старик с мучительными подробностями, с отвратительной откровенностью начал рассказывать, как его взбесила глупая добродетель Амалии, как он обманул Франца ложной доверенностью; как его жена унижалась перед ним, выпрашивая денег, как он всё открыл ой и как теперь он, наконец, поставил Франца в такое положение, что кроме петли или тюрьмы ему не на что надеяться, а его семейству нужно или умереть с голоду, или идти по миру. Корчинский говорил но обыкновению своим насмешливым тоном: ему весело было мучить Амалию, которая слушала в каком-то бесчувственном положении и только иногда с отчаянием взглядывала на мужа. Франц по мере рассказа старика становился мрачнее. Ужасную пытку переносила душа ею. Он беспредельно любил Амалию и свое семейство, готов был всем жертвовать для их счастия. И вдруг перед ним самыми черными красками нарисовалась картина страданий, нужд и лишений любимцев сердца его. Страшно возмутила эта картина его больное воображение. Мысль, что он своими требованиями увеличивал их. бедствия, заставляя отказывать себе во всем для него, ужасала его душу.
Старик, окончив свой рассказ, громко засмеялся и прибавил:
– Отец в тюрьму, семейство по миру, славный карьер! Благодарите вашу жену, господин Гинде…
– Так, так… всё правда, – произнес Франц отчаянно, – мучь меня, старик. Нет ли у тебя еще чего? Добей меня одним разом… я стою того. Но за что они страдают? О Амалия! Я недостоин тебя! Я забыл, что не приготовил ничего, что был бесполезен семейству и отнимал у него последний кусок хлеба, как будто я ему дал его… Да, я достоин всего… ужасно!.. Амалия, поддержи мою голову… мне дурно, душно.
И больной упал на подушки. Лицо его было страшно, голова горела, глаза сверкали диким огнем. С минуту был он безмолвен, потом скороговоркою начал произносить невнятные слова.
– Что вы сделали! Вы убили его! – тихо сказала Амалия.
– Ничего. Рано ли, поздно ли, надо всем умирать…
– Надо умирать! – повторил больной. Лицо старика побледнело: так страшно были сказаны эти слова. Однако ж он скоро опомнился.
– Что, господа, совсем?
– Давно кончили, – отвечали исполнители.
– Пора домой, обедать… скоро четыре… Прощайте, господин переплетчик, желаю вам поскорей перейти на новую квартиру.
– В тюрьму, в тюрьму! – вскричал больной, в ужасе подымаясь с постели.
– Успокойся, Франц, ляг, – сказала Амалия.
Час от часу больному становилось хуже.
Амалия молилась жарко, пламенно. Страдания ее были ужасны: она видела постепенно разрушающуюся жизнь мужа и не имела средств помочь ему. Дни и ночи проводила она у постели больного, без сна, без пищи, не откликаясь даже на плач детей, которые умирали от голода. Наступил пятый день после сцены со стариком. Больному сделалось еще хуже. Амалия целуй день провела в какой-то борьбе с собою у постели мужа.
Грустны были ее мысли. Может быть, это последний его день, думала она. Может быть, только скорые пособия могут возвратить его к жизни. Пройдет день и тогда уже – созови всех врачей, употреби все средства, истрать миллион золота – всё будет напрасно! «Дорог день, дорог час, дорога минута!» – почти вскричала Амалия и с какой-то отчаянной решимостью раскрыла грудь мужа, который был в совершенном беспамятстве… Она отвязала от его шеи золотой медальон… «Боже! прости меня, помоги мне!» – сказала она и быстро выбежала на улицу.
III
Было уже около восьми часов вечера, а у скупого ростовщика в обыкновенной его приемной не было еще огня. Комната была пуста, хотя по лежавшей на столе шляпе и палке можно было заключить, что хозяин дома. Из-за ширмы узким лучом проглядывал свет, но за ширмой огня не было. Послышался звонок. Вдали раздался шум; за ширмою что-то скрипнуло, раздался звук, похожий на звук запираемого замка, и в комнату явилась испуганная фигура Корчинского, со свечой в руке. Он оправился, отпер дверь и впустил Амалию, бледную и едва стоящую на ногах от усталости и душевного волнения. Случайно или неслучайно свеча в руке его пошатнулась и погасла.
– Вот, я принесла вам заклад; ради бога, дайте денег; муж при смерти – я побегу сейчас к доктору… Скорее, господин Корчинский! – сказала переплетчица скороговоркою.
– Не торопитесь, любезная гостья… Муж ваш не умрет, покуда мы с вами… Побеседуем. Ну что, не говорил ли я, что вы еще придете ко мне?
– Мне некогда, говорю вам, некогда. Скажите, дадите вы денег или нет?..
– Ха-ха! разумеется, дам. Я бедный человек: мне бы нельзя жить было, если б я отказывал… Сколько угодно, если вещь хорошая и мы сойдемся в условиях.
– Говорите же их, говорите!
Старик взял руку Амалии и крепко пожал ее.
– Пора нам помириться, сударыня. – И он снова пожал руку Амалии. Она вырвала ее и отскочила. В глазах старика засверкало пламя.
– Низкий человек! Только отчаяние привело меня к вам. Если б я знала, где скоро достать денег, я бы скорее согласилась на коленях вымаливать их, чем унижаться перед бездушным злодеем.
– Я не злодей, сударыня, – перебил Корчинский, обидясь, – я не топлю по ночам людей в проруби, не вытаскиваю платков из кармана, не делаю фальшивых депозитных билетов; я в штрафах и под судом не бывал… Если б тут был свидетель, вы бы дорого поплатились за оскорбление моей личности…
– Я пришла к вам за делом; мне дорога минута… Скажите решительно: дадите ли вы мне денег? Окончим скорее, или я уйду…
И бедная Амалия в мучительной борьбе, ломая руки, пошла к двери. Медленность старика терзала ее душу.
– Постойте, сударыня. Да, я забыл, на что вам деньги.
– Да боже мой! Разве я не сказала, что мой муж умирает без помощи…
– Признаюсь, после ваших обидных слов, мне бы не хотелось давать вам деньги. Но у меня правило: никому под верный залог не отказывать… Позвольте посмотреть вещицу… что за сокровище такое.
Старик засветил свечу. Амалия дрожащей рукою подала ему медальон…
– Ну, он того… не очень тяжел… однако ж, вещица изрядная… можно под нее дать рубликов сто, если золото настоящее, – сказал ростовщик, взвешивая медальон на руке…
– Посмотрим, – повторил он и поднес медальон к свече… Несколько минут он внимательно рассматривал его и вдруг в изумлении спросил:
– Где взяли вы этот медальон, сударыня?
– У моего мужа.
– Где взял его ваш муж?
– Он его собственность, он его драгоценность, с которой он но расставался во всю жизнь… Вы, вы довели нас до того, что я решилась похитить у него его сокровище; разлучить его на смертном одре с портретами его отца и матери…
Старик снова пристально взглянул на медальон.
– Точно ли вы знаете, что это портреты его родителей? – спросил он.
– О да. Все знают, что он не сын Гинде… Но, ради бога, господин Корчинский, скорее; пока мы здесь, он может умереть: я оставила его почти при смерти…
– Пойдем, пойдем! Я всё для него сделаю! – отрывисто вскричал ростовщик и побежал к двери… Амалия последовала за ним…
Корчинский был в сильном волнении. На лице его можно было прочесть такие чувства, каких оно, может быть, никогда еще не выражало. Быстро, почти бегом, шел он к квартире переплетчика. Амалия едва успевала за ним следовать…
– Мама, мама! что ж ты оставила папу, он всё звал тебя… стонал, а теперь он такой страшный: ничего не говорит, не двигается, даже не дышит, такой бледный, страшный, – в испуге сказал сын Франца, когда Амалия с Корчинский пришла домой…
– Он умер, умер! – произнесла Амалия с ужасом.
– Умер! – повторил Корчинский отчаянно.
Они кинулись в спальню Франца. Франц был мертв. Старик схватил стоявшую на столе свечу, поднес ее к лицу покойника и стал вглядываться в его черты…
– Он, он! – дико вскричал старик…
– Ты – его убийца! – произнесла Амалия и без чувств упала на труп мужа…
Старик взял себя за голову, страшно покачал ею и с буйным, безумным криком выбежал из дома.
IV
Через несколько дней в одном из пятиэтажных домов Васильевского острова в верхнем этаже происходила следующая сцена. Квартальный осматривал вещи и мебель, а писец по его диктовке записывал их. Опись начиналась так: «После скоропостижно случившегося сумасшествия чиновника 9 класса („Оставьте место, – заметил тут квартальный, – надо справиться об имени и отчестве рехнувшегося“) остались пожитки следующего содержания…» Квартальный, осматривая вещи, беспрестанно приходил в удивление. Он, например, распорол подушку ветхого стула, для того чтоб удостовериться, чем она набита, а оттуда посыпалось золото. Далее, он расшил истасканный тюфяк, по той же причине, и увидел, что в нем с угла пучками положены были ассигнации. Он толкнул ногой старые медвежьи галоши, – они издали металлический звук: оказалось, что и в них под кожей деньги.
– Что за оказия! – говорил Семен Семенович. – Этакого удивления на моем веку еще не было! Ба! да тут дверь… заперта… надо ее осмотреть… рехнувшийся-то всё нанимал, – раздался из-за ширмы голос квартального.
– Видно, нежилая комната, – сказал писарь.
– Однако и ее надо обозреть для порядка; сбегайте-ка за слесарем.
Дверь была отперта, и тут представилось еще более пищи удивлению Семена Семеновича. У стены стояло огромное зеркало в богатой раме; на одном столе большие бронзовые часы и подле них десятка два карманных. На другом столе в углу до самого потолка были наставлены одна на другую разные вещи. У левой стены рядом стояли шкаф и комод. В шкафе квартальный увидел несколько енотовых, собольих и куньих шуб, лисьих салопов, шинелей с бобровыми воротниками и множество других богатых одежд. В комоде – несколько дюжин ложек, столовых и чайных, несколько серебряных сервизов и, наконец, множество колец, цепочек, перстней, алмазных и бриллиантовых.
– Оказия за оказией! – сказал квартальный.
– Ведь рехнувшийся-то, говорят, был ростовщик, – сказал писец.
– Та-та-та! Вот что… пишите всё.
Когда все вещи были описаны, квартальный выдвинул ящик и нашел там бумаги…
– Пишите: формуляр, расписки, числом десять… а это что? – сказал квартальный, рассматривая какое-то письмо. – Прочтем.
И он стал читать: «Я решилась лучше умереть, чем жить с тобою. Ты, верно, этому рад, но вспомни, что ты рано или поздно должен отвечать за мои муки там, где мы снова увидимся. Прощай! Завтра меня не будет на свете… Сын наш останется на жертву сиротства и нужды, но я лучше решаюсь вверить судьбу его неизвестному человеку, чем тебе. Ты никогда об нем не узнаешь ничего: я положила на грудь его медальон с нашими портретами, чтоб он хоть чем-нибудь мог вспомнить свою бедную мать, но я скрыла происхождение его и даже имя… Повторяю, ты никогда не узнаешь ничего об нем: вот единственная месть, которою я решилась отплатить тебе за все мои мучения…»
– Опять курьез! – произнес квартальный, свертывая письмо. – Не понимаю, ничего не понимаю!
– Что же писать прикажете?
– Ну пишите: письмо, писанное рукою, неизвестно кому принадлежащею… Скорее кончайте…
Скоро опись была кончена; к вещам приложили печать, и квартальный отправился к приятелю перехватить и потолковать о том, каких чудес иногда в их звании видеть ни случается.
Капитан Кук *
Глава первая,
о том, как Кук завтракал и какая мысль посетила его перед зеркалом
Отставной армейский капитан Иван Егорович Кук сидел у стола за завтраком. Перед ним стояло несколько тарелок с закуской; посредине возвышался полуштоф с виньеткою, как нельзя более соответствующею его содержанию. Капитан уже хотел проглотить последнюю рюмку водки и встать из-за стола, как вдруг в комнату вошел молодой человек.
– Рекомендуюсь, – сказал он, – ваш покорный слуга, Андрей Чугунов…
– Ну а отчество? – перебил капитан.
– Петрович, – отвечал молодой человек.
«Сюртук на нем как сюртук, да жилет что-то подозрителен: пуговицы не все; карманы новехоньки, а перед вытерт», – говорил про себя капитан, оглядывая пришедшего.
– Ну а звание? – наконец спросил он, не зная, предложить незнакомцу стул или нет.
– Представлен к первому чину.
– Садитесь, покорнейше прошу, – произнес капитан. – Вам, конечно, угодно было познакомиться?
– Да-с, у меня есть до вас нужда, и я решился говорить с вами откровенно…
– Благодарю.
– Не стоит благодарности.
– Ну, об чем же вы решились говорить со мной откровенно… серьезное что?
– Вот видите: я хочу жениться…
– Жениться? Так вам хочется знать мое мнение… Оно конечно, я могу вам сказать…
– Я не об том хочу говорить… Вот видите… Вы так уважаемы в нашем городе, об вас известно…
– Так вы хотите, чтоб я был у вас посаженым отцом… Оно конечно; насчет этого я могу вам сказать…
– Вы не так меня поняли… Я хочу сказать, что об вас известно, что вы человек довольно богатый…
– Ну так вы хотите занять у меня денег… Оно конечно…
– Да-с, вы угадали. Мне нужно на свадьбу по крайней мере тысячу рублей, а у меня нет…
– Но беда, что нет… Есть верно, то можно дело поправить…
– То-то нет… Мне нечего продать, нечего заложить; если б на вексель, не более как на четыре месяца…
– Оно конечно, на этот счет я могу вам сказать… Нет, я ничего не могу вам сказать!
– За меня поручится наш секретарь, советник, если угодно…
– Помилуйте, что это? пустяки; разве без поруки нельзя; велика ли сумма… Тот поступил бы слишком бессовестно, кто потребовал бы этого.
Лицо молодого человека осветилось улыбкой надежды. – Вы судите, как прилично благородному человеку; не знаю, чем возблагодарить…
– И, помилуйте! за что? жаль, что у меня теперь денег нет, а то сейчас доказал бы вам, как ничтожна такая сумма и как недостойна она того, чтоб много об ней говорить…
Лицо молодого человека помрачилось, как небо перед грозой.
– Вы… так вы… не хотите мне дать денег?
– Как не хотеть… хочу – да не могу… Обратитесь к Домне Семеновне Абрикосовой…
– Я был у нее: она отказала… впрочем, как я заметил из ее поступков, она не отказала бы, если б… она показывала мне глазами…
– Двери? – перебил Кук. – Как невежливо!
– Ну, может быть, и не двери, а…
– Так извините!
Молодой человек раскланялся и ушел, очень опечаленный. Кук задумался. Долго он думал; думы его вертелись около одного неприятного сознания, что ему через неделю стукнет сорок три года. Странно создана голова человеческая! Поутру Кук был весел как нельзя более, и вдруг не прошло часа, как лицо его обезобразилось горестию. Отчего? Неужели виною тому этот молодой человек? но какое же отношение имеет его дело до лет храброго капитана? Никакого; не тут должно искать начала грустного раздумья Кука. Он просто любил, как и сам выражался, «вступать в мысленный разговор с самим собою», и вот в этом-то разговоре он случайно наткнулся на сорок лет. Лицо его становилось мрачнее и мрачнее. Наконец он подскочил к зеркалу, сложил на груди руки, как Наполеон в решительные минуты жизни, и стал пристально всматриваться в свою особу. В первый раз с ужасом подумал он, что, может быть, он уж и не молодой человек. «Где же ты, младость удалая?» – печально воскликнул он и опять задумался. Прошло пять минут немого молчания, в которые на лице капитана царствовал «гробовой» ужас к «могильный» мрак; вдруг он отскочил от зеркала, схватил фуражку и выбежал на улицу. Через минуту он проезжал уже на извозчике улицы уездного города.
Капитан Кук был известен в своем городе как человек почтенный, у которого можно «не иначе как по знакомству» занять денег, за пустячные проценты, под заклад серебра и золота; а в особенности он был известен как любитель и участник благородных спектаклей. У него был свой деревянный сарай, отделанный, как он выражался, на манер театра, куда приглашались все ревностные поклонники Мельпомены и холодного пунша. Еще недавно сам капитан играл «Отелло» и был «трикраты» вызван; после спектакля выпил до девяти стаканов пуншу и был единогласно прозван «любезным молодым человеком, с душой, созданной к великому». Вот и всё, что покуда нужно вам знать о храбром отставном капитане Иване Егоровиче Куке.
Куда он поехал? Уж не догонять ли младость удалую? Кто его знает; подслушаем, что он думал, когда стоял у зеркала.
«Я уже не в первой молодости – да! Пройдет десять лет (десять!), и я уже не буду нравиться прекрасному поду – да, да! Время летит и не возвращается… да, да, да! Что ж буду делать я в старости? Конечно, я могу иногда приятно провесть время, читая прибавления к „Губернским ведомостям“ или разыгрывая роль Отелло, могу раскладывать пасиянец, записывать приход и расход, получать проценты, петь псалмы и т. д. Могу иногда бывать у сестры Настасьи Егоровны, беседовать с ней, брать детей ее на руки… Та-та-та! А нельзя ли мне будет брать своих детей на руки?» Тут с минуту в голове капитана по было никакой мысли, наконец он продолжал так: «Сколько у меня доходу? Достанет и мне, и жене, и детям… только я не желал бы больше трех дочерей и четырех сыновей… (каково?). В каком я чине? Капитан… чин еще, так столбовой буду! Какая моя натура? Смирная и незложелательная. Создан ли я к супружеской жизни? Уж разумеется… А почему бы так? Люблю спокойствие и умеренность, читаю „Северную пчелу“ и даю в рост деньги…»
Капитан вздохнул свободно и спешил сделать формальный вывод из этого форменного рассмотрения дела.
«Из вышесказанного явствует, что я жених хоть куда, только бы не подурнеть к бракосочетанию. Женюсь, непременно женюсь! На ком? На вдове Абрикосовой… потому что и она отдает… совершенно наклонности одинаковые. Притом я давно люблю… а дом такой сухой, решительно не бывает сырости!»
Именно в тот самый момент, в который эта великая идея озарила разум капитана, он отскочил от зеркала и выбежал на улицу.
Мечты о любви, процентах, переделке дома и о подобном тому провожали капитанскую душу нашего героя до самых ворот дома Абрикосовой; он был давно знаком с нею и, следовательно, мог надеяться, что его примут, а потому бодро и весело взбежал на лестницу.








