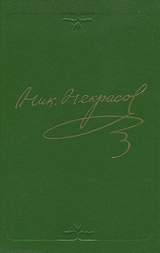
Текст книги "Том 7. Художественная проза 1840-1855"
Автор книги: Николай Некрасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 43 страниц)
Дмитрий Иванович бегал, справлялся, не оставил ли где банкир его суммы, не перевел ли на кого… увы! нет!
Страшно сжалось сердце Дмитрия Ивановича; он понял всё, понял, к чему судьба вела его, охватил в одну минуту всё прошедшее, всё будущее, и в уме его нарисовалась страшная, бесконечная таблица в две графы: в одной были вписаны по нумерам в последовательном порядке все его предприятия, в другой аршинными буквами поперек написано роковое слово неудача,длинное, как Невский проспект. И всё, что он доселе думал, что видел, на что надеялся, – слилось для него в это слово, в эти роковые звуки, которые раздирали слух его, как музыка «Роберта Дьявола», перемешанная с нестройным хором настоящего ада. Буквы этого слова скакали перед ним, плясали качучу, делали ему гримасы. О, как страшно они его дразнили, неумолимые, бессовестные! Он убит, уничтожен. Он гордо смотрит, оттого что безумен, бодро идет, оттого что не знает, куда идет; но загляните ему в душу, спросите его о здоровье ее… Что он думает даже?
– Жизнь, жизнь! За что ты так обманула меня! Жизнь – на что ты дана мне? Что ты дала мне? Когда, скажи, приласкала ты меня, отогрела у сердца? Когда ты послала мне улыбку неба без того, чтоб не помрачить ее горем? Детство мое было несчастно. В гимназии я пробыл шесть лет – и вышел ни с чем; в университет готовился два – и напрасно! В армии служил пять – и свихнулся! В палате пробыл два. Любил и испытал разочарование! Издал стихи, плоды вдохновения, порывы к небу, – и меня столкнули в грязь! Женился… ха-ха-ха! и потерял веру в самое святое, благородное чувство! Нашел друга – и друг ограбил меня! О, как горько ты посмеялась надо мной.
Вот что думал вслух Дмитрий Иванович, в беспамятстве бегая по улицам Петербурга. Душа его, постоянно располагаемая обстоятельствами к сомнению и отчаянию, наконец вполне покорилась им. Это был уже не тот Дмитрий Иванович, который, бывало, после какой-нибудь неудачи гордо поднимал голову и говорил: «Не вечно же так будет!» Нет, он теперь уверился, что иначе быть не может, что ему вечно суждено испытывать неудачи и разочарования. Он чувствовал на челе своем горячее клеймо позора, пустоту в кармане, во взорах людей презрение, в руках судьбы чашу, наполненную несчастиями, которые все приходились на его долю… и он решился… На что?
Бегая по улицам, он наконец остановился, огляделся – и дикой радостью засверкали глаза его: он был на Исакиевским мосту. Нева в вечернем тумане весело плескала своими волнами, лоно ее было тихо и величаво. Как завидно ее спокойствие! Как сладострастно-приманчивы ее волны!
– Прощай, жизнь, с своими глупыми шутками! обманывай других, расставляй другим свои сети… а я… прощай, будь здорова!
И Дмитрий Иванович бросился с Исакиевского моста в Неву. Он глотал воду полным ртом, утопал в блаженстве особенного рода, понятном только несчастливцам, которым с жизни взять уже нечего; вдруг он почувствовал, что его кто-то схватил за волосы. «А! это, видно, какая-нибудь большая рыба. Тем лучше… Приятней попасть на зубы рыбе, чем быть слугою этой коварной индейки, судьбы!» Думая это, Дмитрий Иванович приготовился целиком вскочить в желудок воображаемой рыбы. Но он ошибся: чья-то сильная рука вытащила его вверх и плыла с ним к берегу.
– Опять неудача! – закричал Дмитрий Иванович, задыхаясь от злости и почти со слезами, когда какой-то незнакомец вытащил его на берег. Незнакомец сейчас скрылся, а к Заедину подошел будочник с толпою народа. Видя порядочную одежду его, он не посмел пригласить его в полицию, а сказал только: «Вот как опасно неосторожно ходить по мосту!»
Злость душила поэта. Он крокодильствовал сам против себя. Женатая физиономия его изумительно оживилась; он побежал опять. Везде свет, шум экипажей, бесчувственная толпа, и всё так богато, так чинно – досадно смотреть! Никому нет и дела до того, что Дмитрию Ивановичу душно на свете, что судьба даже в смерти отказала ему! Бог знает с каким намерением прибежал он домой, пробежал мимо лакея, которого не мог разбудить шум его мокрого платья, и прямо вошел в свой кабинет. Он схватил со стены пистолет, всыпал пороху и, вероятно намереваясь застрелиться по новооткрытому способу, вставил дуло его в рот и спустил курок…
Пистолет три раза осекся. В соседней комнате послышался шум. Рассудок на минуту возвратился к Дмитрию Ивановичу: он понял, как удивился бы тот, кто бы увидел его одежду, испугался сам своего положения; притом во всю жизнь он любил аккуратность. Итак, он с отчаянием спрятал пистолет, запер дверь и начал переодеваться. В кабинете, кроме парадного костюма, ничего не было, и он оделся франтовски… Когда вдали шаги смолкли, поэт опять схватился за пистолет. Он опять осекся!
– Опять неудача! Что ж это! Где я найду смерть? Душно, душно! – И Дмитрий Иванович опять выбежал на улицу, бегал, бегал, думал… Всё так велико, так торжественно… только жизнь нехороша, глупа, опротивела. А другим она так нравится. Есть разные чины и отличия, есть горы, в которых золото, моря, в которых перлы, женщины, через которых можно сделаться сиятельным; есть люди, которые всем пользуются, люди, которые точат горы, пишут ябеды, режут врагов, любят для протекции, вырывают клады, берут взятки… Да, им всё удается, им всё с рук сходит, пусть же они живут, хлопочут, обирают друг друга… пусть их режут и режутся, получают чины и отличия, издают стихотворения… пусть их живут себе… а кому ничто не удается, кто всем обманут, над кем смеется судьба… ему нужна смерть, ему нечего жить, нечего небо коптить. Правда, Дмитрий Иванович, правда. Но успокой свои мысли, приведи их в порядок, – ты как растерялся… грешно искать смерти. Ты спохватился, что грешно умирать в мокром платье, а не догадаешься, что грешней умирать в дурном, бессознательном расположении духа.
Не прежде как обегав все закоулки Петербурга, успокоился Дмитрий Иванович, но по-прежнему не переставал желать смерти. Однако ж он перестал искать ее. Уверенность, что ничто в жизни не удастся ему, остановила его покушения. Он решился жить, потому что видел невозможность умереть. Теперь он надеялся, что жизнь его будет сноснее, потому что, зная наперед результат своих действий, он ужене мог подвергнуться этим нечаянным ударам судьбы, которые так гибельно действуют на человека. Решимость его была разумна и глубоко обдуманна, он принял ее, взвесив все обстоятельства своей жизни, важные и мелкие, которые ясно говорили: ничто тебе не удается, а потому лучше не предпринимай ничего.
Было около одиннадцати часов; Дмитрий Иванович шел по Литейной; внимание его обратил дом, второй этаж которого был освещен великолепно. Он вздохнул и задумался. То был дом его школьного товарища Зрелова, того самого, у которого он в первый раз встретил банкира. Зрелов некогда был беднее его, ходил в оборванном вицмундире, кланялся в пояс повытчикам; вдруг счастье приласкало его, отличило в толпе, причесало, умыло и вывело в люди. Он теперь статский советник, имеет Анну на шее, занимает выгодное место, купил дом и женился на купчихе с миллионом приданого. И вот он живет себе припеваючи и не думает бросаться в Неву, не приставляет пистолета ко лбу… а ты всё такой же бесчинный бедняк, Дмитрий Иванович, тебе никто не поклонится. Однако ж Зрелов добр и любит старых товарищей; зайди к нему… у него бал… отведи душу роскошью бала, мелодией музыки. Там ничто не напомнит тебе твоего положения: там радость, там улыбка весны, аромат неба, очарование рая Магометова. Войди… вмешайся в резвую толпу женщин… ударься в вальс; ты можешь с помощью хромой ноги свихнуть в нем голову, которой тебе так носить не хочется, можешь вывихрить из души хоть на минуту думу о страшном завтра… Войди… там еще не знают, что ты вытерпел бурю…
Дмитрий Иванович вошел. Зрелов принял его с радушием. Бал был великолепен и разнообразен. Купцы, по обыкновению, занимали в нем главную роль, но было много птиц и высшего полета. Во всем замечалась необыкновенная роскошь и особенныйвкус. В двух комнатах танцевали; в третьей играли в вист; в четвертой, на огромном столе, любители, большею частию купцы и богатые чиновники, в числе которых был и сам хозяин, играли в ланскнехт. Груды золота лежали на столе и переходили от одного к другому. Дмитрий Иванович раскланялся, поговорил с знакомыми дамами и хозяйкой и подошел к большому столу.
– Не хочешь ли присоединиться к нам? – сказал хозяин.
– Помилуй, разве ты не знаешь моего счастья? – отвечал Дмитрий Иванович.
– И, полно, вечно на счастье жалуешься; боишься проиграть.
– Не боюсь, а уверен.
– Поставь хоть карточку, братец; что за упрямство!
– Не хочу даром отдавать.
– Э, какой чудной! Ведь не много требуют; ну поставь что-нибудь… ну дай хоть пятьдесят рублей…
– Ах, братец, да если б тебе сказали: брось пятьдесят рублей в реку! бросил ли бы ты?
– Нет, разумеется. Да не об этом дело. Мне хочется, чтоб ты поставил. Ну дай что-нибудь… хоть двадцать пять…. я за тебя промечу на твое счастье.
Дмитрий Иванович с усмешкой подал Зрелову 25 рублей.
– Я наперед знаю, что с ними будет, хочется только тебя потешить, – сказал он и пошел в соседнюю комнату к дамам.
– Что вы сделали в карты? – спросила одна.
– Проиграл. Отдал двадцать пять рублей. Со мной всегда так. Я во всем проигрываю, оттого и привык. – И он пустился жаловаться на судьбу, довольный случаем вылить из души хоть часть желчи, накопившейся в продолжение дня.
– Дмитрий Иванович, у тебя уж шесть тысяч: забастовать или продолжать? Лучше продолжать советую, – тебе везет! – закричал через несколько минут хозяин.
– И, полно, братец, что тебе шутить вздумалось! Я уж знаю, в чем другом, а тут меня не обманешь, – отвечал Дмитрий Иванович и продолжал разговор с дамой.
– Не написали ли вы чего новенького? – спросила она.
– Нет, почти ничего целого. Да в наше время совсем писать нельзя, особенно стихами. Критики ставят их ниже всех других родов литературы. Пристрастие, личности, страх за себя, зависть, мелочные интриги врагов руководят их суждениями, а публика смотрит их глазами. Что же после того остается делать человеку, не имеющему и не желающему иметь с ними связей?
– Вы так хорошо владеете пером; что вам смотреть на них!
– Конечно, их бояться не стоит. Но не стоит также и давать пищу их мелкой злости… их…
– Дмитрий Иванович, у тебя уж пятнадцать тысяч; идет дальше? – закричал из соседней комнаты хозяин.
– Полно шутить, делай свое и не мешай мне.
– Да я не шучу, братец, право, не шучу!
– Не шутишь? Вот еще! В чем другом, а в этом меня не обманешь… Не стоит давать пищу их пристрастью, – продолжал он, обращаясь к даме, – а начни писать наперекор им, продолжай издавать книги – они замучат бранью, насмешками и совершенно уничтожат человека в нравственном отношении…
– Дмитрий Иванович, – сказал хозяин, подходя к нему, – у тебя уж двадцать пять тысяч… советую тебе не идти дальше: счастье может перемениться… возьми, вот деньги… пригодятся… куш хоть куда… Счастье удивительное!.. У нас еще никогда не было такой большой игры… тут из любопытства мой тесть с Кадушкиным держали все, – продолжал он, обращаясь к дамам. – Что ж ты не берешь, Дмитрий Иванович?
Он посмотрел на Дмитрия Ивановича, и деньги выпали из его рук. В глазах поэта изображалось чрезвычайное изумление и какой-то беспредельный испуг; лицо было бледно и безжизненно. Он пошатнулся назад, потом вперед – и упал.
Хозяин кинулся к нему, расстегнул ему жилет, взял его за руку, приложил руку к губам… ничто не обличало и признака жизни. Послали за доктором… терли виски спиртом… делали то, другое… ничто не помогло… Дмитрий Иванович был мертв.
– Удар, удар! – закричали гости, – Какой странный случай!
Ростовщик *
I
Было около семи часов утра. Петербург просыпался. По одной из улиц Васильевского острова скорыми, неровными шагами шла молодая женщина. Боязливые взгляды ее и желание скрыть в меховой воротник салона лицо показывали, что она не привыкла к таким ранним прогулкам и что только необходимость заставила ее выйти в такое время. Черты лица ее выражали страшное волнение; одежда была в беспорядке, волосы беспрестанно выбивались из-под шляпки и играли с ветром, что придавало ей какой-то странный и вместе привлекательный вид. Несмотря на беспокойство и тревогу душевную, проглядывавшие из каждой черты незнакомки, нельзя было не обратить внимания на красоту ее… Пройдя несколько улиц, она наконец вошла в ворота огромного пятиэтажного дома и быстро взбежала по крутой лестнице на самый верх.
– Боже! подкрепи меня, помоги мне! – прошептала она и дрожащей рукой прикоснулась к колокольчику.
– Ах, кого я вижу! Я никак не думал… так рано… – сказал седенький старичок, отворяя дверь и низко кланяясь.
Из довольно неопрятной прихожей, которая, по-видимому, служила и кухней, незнакомка вошла за хозяином в другую комнату, в которой с первого взгляда поражала необычайная бедность. Треть комнаты была отгорожена плохими ширмами, склеенными из прошлогодних нумеров газет, за которыми была постель хозяина. По стенам стояло несколько стульев, кожаные подушки которых были во многих местах прорваны; на стене висели закопченные часы с железными гирями. На единственном столике первое месте занимали счеты, далее книга о переложении ассигнаций на серебро и две копеечные сигары. На одном из стульев лежало парадное одеяние хозяина, прикрытое шинелью горохового цвета, с множеством маленьких воротничков.
Войдя в свою приемную, седенький человечек снова раскланялся. Он был в худом халате и медных очках; лицо его было желто и морщинисто, в глазах решительно не было никакого выражения, нижняя губа качалась, как старая ставня, полусорванная ветром с крючков. Что-то низков, что-то невыразимо отвратительное было в его лице, так что, взглянув на него однажды, трудно, кажется, решиться взглянуть в другой раз. На ногах старика были старые медвежьи галоши, на которые падала верхняя часть грязных носков и которые застучали каким-то странным образом, когда он подошел к незнакомке.
– Какому счастливому случаю обязан я вашим посещением? – сказал он, стараясь улыбнуться как можно приятнее.
– Ах, господин Корчинский! не счастливому, а несчастному… Мужу моему всё хуже и хуже… Дела наши в расстройстве… работы нет… да и работники ушли… Мы напрасно содержим такую большую квартиру…
– Перемените.
– Денег у нас нет. Мне не хотелось бы, чтоб больной муж догадался о нашем горестном положении… Помощи просить не у кого… На вас я могла надеяться, вы прежде так много для нас делали. Но вы что-то охладели к нам, как муж захворал…
– Но позвольте вам заметить, прекрасная Амалия, что я и теперь для вас много, очень много делаю. Конечно, я прежде давал вам деньги по векселю, потом даже без векселя, но потом, прошу не прогневаться… хоть мы и короткие знакомые, а когда я увидел, что дела ваши в расстройстве, я счел нужным не давать вам денег иначе как под верный залог. У меня такое правило, да и для вас лучше.
– Я переносила к вам во время болезни мужа все вещи, какие только были лишние…
– И, верно, помните, что я за всякую давал вам деньги?
– Но теперь наконец мне нечего дать вам под заклад…
– Очень жаль.
– И я пришла попросить у вас несколько денег на честное слово…
– Но могу-с.
– Муж мой при смерти; ему нужны скорые пособия; дети плачут и просят хлеба, а у нас нет его… Боже мой! Что, если их вопли дойдут до слуха моего бедного Франца… о, это убьет его!
– Ничего-с. Не убьет.
– Дайте же, ради бога, мне хоть немного денег, чтоб я могла купить лекарства мужу и накормить детей… Ваше не пропадет: вещи, которые я у вас заложила, стоят гораздо больше.
– Но они и без того принадлежат мне. Осмелюсь напомнить вам, сударыня, что срок выкупа давно прошел…
– Итак, вы решительно отказываете?
– Как можно! Принесите заклад – и возьмите сколько угодно…
– Можно ли поступать так безжалостно! А мы еще считали вас своим благодетелем.
– Гм! благодетелем! Да разве я дурак какой… последний, кровный грош отдавать. Я сам бедный человек, сударыня… чуть с голоду не умираю… Ох, деньги, деньги! Кто их выдумал? Если б бог сжалился над моим нищенским положением да послал мне наследство… А то – откуда мне взять? Того и гляди с квартиры сгонят, а вы еще денег просите, сударыня, да без залога… Я теперь сам в бедственном положении и, извините меня, сударыня, осмелюсь вам напомнить, что срок векселю, тово… прошел… а мне ждать нельзя.
Телодвижения и выражение лица Корчинского во время этого монолога были в высшей степени занимательны. Он то вздыхал, то взглядывал на небо, то потирал руки и улыбался; наконец, произнося последние слова, он с каким-то торжественным смирением, из которого проглядывала тайная злость, взглянул на переплетчицу.
– Денег я зам не дам; мало того, я сделаю с вами то, чего вы не ожидаете… векселю срок кончился… понимаете?
Последние слова его сильно поразили бедную женщину, и она воскликнула с изумлением:
– Что это значит, господин Корчинский?.. По крайней мере, этого я не могла ожидать от вас. За что же вы вдруг сделались из нашего друга злейшим врагом нашим?
– Пора вам всё объяснить, сударыня. Я никогда не был вашим другом; я не такой дурак, чтоб рисковать деньгами для дружбы… я всегда желал вам зла, я даже старался и… успел сделать вам зло.
– За что же, за что?
– А вот за что. Помните ли вы тот вечер, когда в первый раз я зашел в ваш дом и сделал вам предложение…
– Но вы сами после сказали, что это была шутка.
– Нет, то была не шутка. Я вас любил, очень любил, сударыня. Я вам скажу, я тогда ночей не спал… хлеба в экономии по фунту в день оставалось, а однажды… о, этого я никогда вам не прощу, сударыня… я обчелся в процентах… может быть, я бы теперь не принужден был один хлеб есть…
– Полноте, у вас много денег.
– Много денег? Кто вам это сказал? – воскликнул Корчинский, изменившись в лице. – Много денег! Господи боже мой! Вот живи, мучься, трудись, а другие еще говорят, что ты богатый человек… Богатый! Да кабы я был богатый человек, сударыня, я бы нанял себе квартиру в четвертом этаже… я бы взял служанку, а не стал бы сам ходить в лавочку за корюшкой… она бы мне принесла… Богатый! Кто вам это сказал? Скажите тому, что он лжет, выдумывает! Кабы я был богат, может быть, и вы бы не отказали, сударыня…
– Ошибаетесь…
– А то вы, сказать просто, переплетчица, больше ничего… а что вы со мной сделали?
– Но вы тогда всё простили и сделались нашим другом…
– Нет, я не простил; я только спрятал мою обиду, как залог мести, для того чтобы после получить с процентами! Меня обидеть – но кого другого; пришло время теперь… и я, во-первых, начну с того, что подам ко взысканию вексель, имущество ваше продадут в мою пользу с аукциона, а вашего мужа засадят в тюрьму… уж я постараюсь…
– Боже мой! какую змею грели мы у сердца! Жестокий, бесчеловечный злодеи!
– Не бранитесь, сударыня, я еще вам понадоблюсь…
– О, что мне делать? Как я покажусь домой… Какое ужасное положение!..
– Не отчаивайтесь, сударыня, всё может поправиться… Согласитесь только… вы знаете, я еще люблю вас; я разорву вексель, возвращу вещи, дам денег, последнее имущество иродам…
– Никогда, никогда! – воскликнула женщина и побежала к двери.
– Ждите, я скоро буду! скоро придут описывать ваше имение, а муженька поведут в тюрьму… радуйтесь там на него! – говорил старик вслед уходящей женщине. – «Какой глупый народ! – думал он про себя. – Я и так для нее делаю то, чего бы ни для кого не сделал… Шутка ли разорвать вексель в тысячу рублей, отдать вещи… дать денег… и она смеет упрямиться!..» Тут снова послышался звонок. Вошел человек со свертком под мышкой.
– Что вам угодно?
– Вы изволите давать деньги под ручные залоги?
– Ох, времена нынче круты. Всё дорого, денег ни у кого нет. Ох, куда их доставать трудно!
– Потрудитесь сказать, сколько вы можете дать под залог этих вещей?
Корчинский стал рассматривать вещи, подносил их к свету, взвешивал на руке, осматривал со всех сторон и мысленно делал им оценку.
– Вещи стоят не более трехсот рублей… Сто рублей можно дать. Вам на сколько времени?..
– На три месяца.
– На три… но двадцати процентов в месяц… со ста – шестьдесят рублей… проценты вперед, а сорок рублей чистыми деньгами получите. Угодно?
– Помилуйте, как можно!
– Ну так прибавьте еще что-нибудь, если вам больше денег требуется. За деньгами дело не станет; я сейчас добуду, а вы мне дадите записочку, что если в продолжение срока вещей не выкупите, то они делаются моею собственностию. Понимаете?
И у них начался продолжительный разговор. Послышался снова звонок, вошел другой посетитель за такой же нуждой, потом третий, и в несколько минут комната наполнилась посетителями. Корчинский давал деньги, принимал заклады и был совершенно в своей сфере. Пока он занят такими важными делами, я расскажу вам, что он за человек.
В молодости он служил в статской службе и дошел силою своего гения до чина титулярного советника. Дальше он не ходил и вышел в отставку, потому что не был честолюбив. Силы души его сосредоточивались на другой точке, на стремлении к благоприобретению. Весь свой век он кланялся и пресмыкался перед этим обманчивым кумиром, который люди, неизвестно почему, называют золотом.Рано понял он цену денег и то, как без них плохо на земле человеку. Зная очень хорошо пословицу, что перед смертью не наживешься,он смолоду начал копить денежку всеми возможными средствами. Средства были часто низкие и непозволительные, но Иосифу Казимировичу как-то всё удачно с рук сходило. Только однажды он ужасно ошибся в расчете. Чтоб разом разбогатеть, он считал женитьбу самой выгодной спекуляцией. Долго искал он по себе невесты, но богатых за него не отдавали. Наконец он вздумал подняться на самую отчаянную штуку. В губернском городе, где он служил, был богатый помещик с хорошенькой племянницей. Приняв в соображение то, что у помещика, кроме племянницы, родственников близких нет и что, следовательно, всё его имение должно достаться ей, Корчинский стал тайно ухаживать за племянницей и разыгрывать роль пламенного обожателя. План его был такой: «Дядя не согласится отдать ее за меня, так его согласия мне и не нужно: я увезу ее и обвенчаюсь тайно. Дядя посердится, но делать будет нечего, он простит, и тогда – я сам себе пан!» Всё так и случилось. Корчинский ошибся только в последнем пункте: дядя не пустил к себе и на глаза новобрачных. Корчинский уехал в Петербург от огласки, всё еще надеясь на прощение дяди. Тут он беспрестанно заставлял жену писать письма к дяде, но на них не было никакого ответа. Грустно было бедной жене видеть, как много ее муж хлопочет о ее наследстве, но пока положение ее было всё еще сносно. Вдруг она получила от управляющего известие, что дядя ее умер, не простив ее, и отказал всё имение своим дальним родственникам. Корчинского это известие привело почти в безумие; сначала он плакал, потом, в пылу отчаяния, бросился изливать гнев свой на несчастную жену. С того дня жизнь ее стала мучительною. Не проходило часа, в который бы обманутое корыстолюбие мужа не поражало бедной жертвы. Он попрекал ее каждым куском хлеба; он говорил, что если б не она, он был бы теперь богатым человеком. Наконец он просто стал ее гнать из дому. Мучения бедной женщины час от часу возрастали. Она бы охотно ушла от мужа, но ее связывал сын, которого она любила как первенца всею силою души. С христианским смирением решилась она сносить все оскорбления корыстолюбца, но их сносить не было возможности. Неистовство его дошло до последней крайности: он уже не довольствовался упреками и бранию, он не раз заносил свою нечистую руку на бедную страдалицу. Она предложила ему добровольно оставить его дом, если он отдаст ей сына или по крайней мере изредка позволит навещать его. Но злодей отказал и только удвоил мучения, какими терзал бедную жертву… Тогда, полубольная, убитая горем и отчаянием, в одну ночь она взяла на руки бедного малютку и с молитвою на устах тихонько ушла и:) дому злодея. Ее бегству Корчинский был рад, но ему жаль стало сына, на котором основывал он много надежд в будущем. Однако ж он скоро утешился и только изредка с горестью вспоминал о сыне. Страсть к деньгам беспрестанно в нем возрастала, по мере того как уничтожались последние остатки благородства душевного. Скоро душа его совершенно зачерствела; ни одного человеческого чувства не осталось в ней: ее можно было смело назвать приходо-расходной книгой, так ясно, четко и отчетисто хранила она то, что составляло беспрестанную мечту ее хозяина. Корчинский вскоре приобрел известность человека, у которого можно во всякое время достать денег, а где такие люди не нужны? Вот уж тридцать лет пользуется он этою известностию, но доставляет ли она ему выгоду – то один он знает. Бедная жизнь его, беспрестанные жалобы на нищету, жадность, с которой он смотрит на золото, – всё это располагает более к мысли, что он несчастлив на своем поприще, которое проходит со славою. Что касается до внутренней его жизни, то тут встречается та же картина. Темно, черно, холодно. Душа закалилась, замерзла, зачерствела, ничем невозможно было разбудить ее. Она спала себе, сердечная, сном мертвых… Страсти тоже спали, но наконец случилось что-то похожее на их пробуждение. Не с большим за год до начала нашего рассказа случайно встретил он переплетчицу Амалию Гинде, которую мы видели в первой сцене, и любовь, которой он не чувствовал ни к чему, кроме золота, вдруг ущипнула сердце почтенного старца. Он, может быть, в первый раз в жизни решился чем-нибудь пожертвовать для своей прихоти и с самоуверенностью богатого человека, избрав благоприятное время, отправился к Амалии. Каково было его удивление, какова была его злость, когда, вместо ответа на его учтивые и откровенные предложения, он увидел, что переплетчица замахнулась и готова была дать ему пощечину. Первым делом его было отвратить удар, вторым – обратить всё в шутку. Душа у него, несмотря на ее ничтожность, была мстительная и злая в высшей степени, кроме того, ему не хотелось отказаться от мысли когда-нибудь владеть переплетчицей, и потому он сейчас составил план, которым надеялся всего достигнуть. Он свел знакомство с ее мужем, был к нему и к его семейству чрезвычайно ласков к заставил их совершенно себе довериться. Франц жил бедно; рабочая его была очень мала и в отдаленной части города, отчего работы было мало. Корчинский, под видом истинного участия, предложил ему тысячу рублей на год без процентов, для того чтоб он мог хорошенько устроить свои дела. Переплетчик принял деньги с благодарностию, нанял обширную мастерскую, набрал учеников и работников, но дела его шли по-прежнему плохо, работы почти не прибавилось; ростовщик втайне этому радовался. К концу года Франц довольно опасно захворал, и тогда положение дел его становилось час от часу затруднительней. Мастеровые разошлись за недостатком работы, Францу всё было хуже и хуже. Амалия, которая всей душой любила мужа, старалась предупреждать все его желания, скрывала от него их возрастающую бедность. Ночи не спала она за работой, чтобы прокормить себя, мужа и двух детей. Сначала Корчинский помогал ей деньгами, без всякого обеспечения. Потом, руководствуясь первоначальным тайным планом, стал требовать залога. Он хотел довести бедное семейство до крайней степени нищеты и тогда уже начать действовать. Он успел в том; мы видели, как он обошелся в последний раз с несчастной Амалией и каково ее положение. Окончив дела с посетителями, Корчинский надел фрак, положил в карман какие-то бумаги, взял трость и шляпу и вышел на улицу. «Надо предъявить вексель переплетчика, – думал он про себя, – пора всё кончить чем-нибудь; если она не… так, но крайней мере, я получу обратно деньги, пока она не распродала еще всего своего заведения»,
II
Спустя два дни после сцены, описанной в начале рассказа, Амалия с глазами красными от слез и притворно веселой улыбкой сидело у постели своего мужа. Франц был бледен как полотно и худ как скелет. По временам он бросал на жену дикие взгляды, выражающие болезненное состояние тела и расстройство сил души.
– Что же так редко ездит доктор, вот уж пить дней он не был. Ты бы послала ему денег, Амалия.
– Послала, мой друг, ужо будет.
– Ах, боже мой! как мне вдруг душно сделалось; расстегни воротник, Амалия.
– Он расстегнут, мой друг…
– Ах, это медальон меня давит, он как-то неловко лежит.
– Да ты бы снял его покуда; он довольно велик; тебе неловко…
– Нет, не сниму; он дорог моему сердцу, пусть же всегда хранится у сердца.. – Франц дрожащей рукой взял бывший у него на груди золотой медальон, поднес его к губам и снова положил на грудь…
– Что это дети там плачут, ты бы купила им чего полакомиться, – продолжал он, прислушиваясь к шуму в соседней комнате.
– Ах, как меня вдруг сдавило; душно, душно… пошли за лекарем, Амалия.
– Сейчас, мой друг. – Амалия отвернулась и отерла слезы. Душа ее невыразимо страдала. Тут муж, больной, умирающий, которому нечем помочь, который живет еще только потому, что не знает всей глубины своего несчастия, там дети, которые ждут хлеба… Кроме того, ужасные слова Корчинского: «Ждите, я скоро буду!» – не выходят из головы ее…
– Мама, мама! что ж ты обещала мне беленького хлебца… я очень есть хочу, – сказала маленькая девочка, вбегая в комнату…
– Тише, тише, – отвечала мать, – пойдем, я дам. – Она взглянула на мужа, который несколько забылся, и вышла.
– Погоди, душенька, ради бога; скоро будет, погоди, милочка…
– Ах, мама, да долго ли ждать?
Тут вошел мальчик немного постарше с той же просьбой…
– Я пойду к папа просить хлеба, ты, мама, нынче такая скупая, – сказал он.
– И я с тобой.
– Не ходите, молчать! Если вы это сделаете, я вас за книгу на целый день… я вам еще два дни ничего не дам! – быстро произнесла несчастная мать в испуге…
– Маменька, милочка, ведь нам еще сегодня ничего есть не давали, а мы хорошо знаем уроки, хоть сейчас спросите, – говорили дети со слезами. Амалия горько зарыдала.
– Побудьте здесь, дети, сидите смирно и не шалите, я зато дам вам ужо обедать, – сказала Амалия и пошла к мужу.
Она удивилась спокойному выражению его лица. Казалось, сон, которым он теперь наслаждался, укрепляет его. Амалия вздохнула свободнее и мысленно просила бога сжалиться над их положением. Прошло около часа, больной спал. Амалия задумчиво смотрела на его лицо и тихо плакала.
– Мама, мама! к нам пришли какие-то двое, такие сердитые, спрашивают папу, – сказал вбежавший мальчик.
Амалия изменилась в лицо. С отчаянием взглянула она на спящего мужа и вышла.
Люди, о которых говорил мальчик, были исполнители закона. Они объявили, что так как переплетчик Гинде не платит по векселю долга, то им поручено описать и запечатать всё имущество, которое назначено к продаже с публичного торга.








