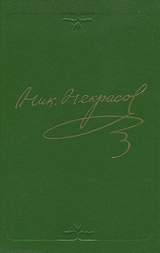
Текст книги "Том 7. Художественная проза 1840-1855"
Автор книги: Николай Некрасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 43 страниц)
VII
Заключение
Сорильо был позван к суду. Его смущение, его нечаянный трепет при виде перстня, который он потерял, зарывая труп рыбака, и, наконец, сбивчивость и неясность речей его – всё это скоро обличило в нем убийцу рыбака и обольстителя сестры его. Сорильо наконец сам признался во всем, надеясь объяснением событий, предшествовавших преступлению, смягчить своих судей. Но они были неумолимы. Сорильо был приговорен к смертной казни. Один король мог смягчить строгость закона; дело было представлено на его рассмотрение. Между тем весть о преступлении внука долетела до ушей старого гранда; он заболел. Отчаяние его не имело границ; все надежды его разрушены, честь Варрадосов помрачена, и нет наследника его имени, нет того, кто б продолжил древнейшую в миро фамилию.
– Вместе с ним, – рыдая говорил старик, – будет казнен весь род Варрадосов! Сбылся мой сон! предки мои с посмеянием выбросят меня из своего круга. И никто ни на земле, ни на небе не вспомнит обо мне с участием. Там забудут меня, как недостойного, здесь… кто здесь напомнит обо мне? Где мой наследник, где представитель Варрадосов? Его нет, нет! – И старый гранд в исступлении бил себя в грудь и рвал клочками свои седые волосы…
– О богородица Карнеская! помоги ему! Укрепи мою душу! – шептала донья Инезилья, не отходившая от постели больного деда…
Вскоре после осуждения Сорильо к дому гранда Нуньеза прискакал курьер и требовал, чтоб об нем немедленно доложили.
– Бумага от его величества, – сказал он, подавая запечатанный конверт гранду…
– Не все еще забыли меня! Сам король вспомнил о своем несчастном подданном; он хочет утешать меня! – воскликнул тронутый старик. – Я слаб, я худо вижу… Прочти, Инезилья, что пишет наш добрый государь!
Король писал, что хотя по законам Сардинии Сорильо осужден на казнь как убийца, но во уважение его молодости и неопытности, бывших причиною его поступка, а также во уважение заслуг его деда и того, что он единственная отрасль дома Варрадосов, смертный приговор можно заменить заключением или ссылкою на некоторое время…
– Он будет спасен! – воскликнула донья Инезилья, прочитав письмо. – О великодушный король! Дедушка, дедушка! он будет спасен!
Инезилья в восторге упала на грудь старого гранда. Он долго не мог говорить, пораженный великодушием монарха…
– О добрый король! – наконец сказал он со слезами. – Ты жалеешь меня, слабого старика, ты жалеешь нашего рода, который должен уничтожиться… Благодарю, благодарю тебя… Но… я помню, что предки мои, что сам я – мы всегда были верными поборниками закона и правды… Дай мне перо, Инезилья, дай мне перо!
– Что вы хотите делать? – с ужасом спросила она…
– Что велит мне долг! Дай перо.
И старик твердой рукою написал смертный приговор своему внуку и вместе с ним всему своему роду. «Государь! Я люблю моего внука, люблю мой род; целью всей моей жизни было оставить по себе наследника, который бы со славою продолжил род Варрадосов. Но если ты велишь мне выбирать между любовью и справедливостью – явыбираю последнюю…»
И Сорильо был казнен.
1843
Помещик двадцати трех душ *
Записки молодого человека, который называет себя «злополучнейшим из людей»
29 сентября
…утешится и отрет слезы. О, без меня она, верно, плакала! Мы, мужчины, гораздо хуже женщин. Наши чувства, привязанности, страсти, стремления слишком разделены: мы хотим всё обнять и потому не обнимаем ничего. Мы ни к чему не можем привязаться постоянно, глубоко, беспредельно: десять идей в голове, двадцать привязанностей в сердце, дюжина фантастических образов в воображении – и всё в одно время, в один час, в одну минуту! Женщина… о, женщина совсем другое дело! Женщина может вся предаться одному чувству, вылить все страсти свои, все помышления, все порывы в одну форму, – женщина может любить сильно, глубоко, беспредельно. Она плакала… о, верно, плакала!.. А я… Не может, – я в том уверен, – не может ни в одной груди человеческой поместиться столько любви, сколько кипит в груди моей, не любил так Тассо свою Элеонору, не любил так Петрарка Лауру свою и не будет так любить ни один будущий поэт, ни один романтик, как люблю я мою Зенаиду… и между тем – когда мы расстались – день я вздыхал, день зевал, три дня скучал… и только! На пятый день я уже метал банк… сердце мое сильнее билось при взгляде на семерку пик, которая была виною моего проигрыша, чем при воспоминании о ней… И я еще хвастал моею любовию!
Как я приду к ней?.. Мне будет стыдно, я покраснею за себя, за свои чувства, моя любовь побледнеет пред ее любовию, как бледнеют звезды ночи пред пышным, ослепительным блеском восходящего солнца! Женщины лучше мужчин вдвое, втрое, в тысячу раз!..
30 сентября
Я проснулся. Девять часов утра. Боже мой! как мне дождаться урочного часа, когда, не нарушая условий света, я могу наконец увидеть ее?.. Зачем эти условия?.. Безрассуден человек: сам себя оковал он цепями и не может ступить шагу, чтоб не наткнуться на какое-нибудь препятствие, им самим изобретенное. Я приехал поздно… Был двенадцатый час ночи… Что нужды? Я полетел бы к ней тотчас, и радость наша озарила бы для нас темноту ночи, вывела бы солнце краше весеннего пред наши глаза… Целые двенадцать часов тяжкого, томительного, беспокойного ожидания… двенадцать часов муки вместо двенадцати часов счастия… ужасно! Стану читать книгу… А… часы начинают бить… Каждый удар их отзывается в моем сердце… семь, восемь… девять… десять… еще удар, еще… ради Брегета!.. Я не выдержу… я разобью часы… я расшибу себе голову… Вот я у стены… Слава богу, я впору опомнился! Я не разбил ни головы, ни часов: часы стоят денег; голова ничего не стоит, но она мне нужна, нужна, потому что без головы я не могу идти к ней: неприлично!.. Буду ждать… Вот на потолке нарисован китаец: какая глупая, довольная, добрая физиономия! Как завидую я его спокойствию!.. Что такое? он, кажется, надо мной смеется?.. Дурак! ему непонятно мое волнение! он никогда не чувствовал любви и не будет ее чувствовать: он китаец! Смотрите: он язвительно улыбнулся, он, бездельник, так странно вытянул губы, как будто хочет плюнуть мне в лицо… Вот я же его… Что я делаю? Вообразите, я схватил «Маяк» и хотел швырнуть им в китайца, – любовь лишает меня рассудка! Буду опять читать книгу…
* * *
Чрез несколько часов [16]16
Здесь рукопись молодого человека писана так неразборчиво, что решительно нельзя понять, о чем идет дело. Ав<тор>.
[Закрыть]
…ая…..читать. кровь. ад. рога. кладбище. развалины. человечья… коварная… труп… пистолет…
1 октября
Я убедился на опыте… я готов присягнуть – женщины хуже мужчин во сто, в тысячу, в миллион раз!..
У мужчины есть душа пылкая и впечатлительная; мужчина может чувствовать глубоко и благородно, любить сильно и бескорыстно. Женщина! О, не ждите от женщины ни истинной любви, ни постоянной привязанности: ветер в голове, ветер в сердце, ветер в воображении! Существа пустые и мелкие, великолепные при тусклом бальном освещении, бледные при дневном божием свете, красивые снаружи, отвратительные внутри, всегда занятые собою, всегда кокетки, всегда сплетницы, всегда изменницы – вот женщины!.. Страшно, когда подумаешь, сколько черных пороков, дурных наклонностей, непростительных помыслов, сколько безрассудства и легкомыслия скрыто иногда под самою очаровательною, магнетическою наружностию! Больно за человечество: скольким еще суждено обмануться, упасть с неба на землю – в грязную, нечистую, зловонную лужу разочарования! О, да померкнут очи у лицемерной красавицы, когда она с любовью наведет их на пылкого, доверчивого юношу, – да онемеют уста ее, когда трепетным, проникающим в душу голосом залепечет она ему слова любви, которой не чувствует, – да превратится в камень рука ее прежде, чем она донесет ее до раскаленных уст безрассудного… О, не верьте, не верьте, – если вы не хотите быть обманутыми, – когда женщина говорит вам: «Я люблю тебя»; переводите слова ее: «Я тебя обманываю», – и клянусь вам небом, клянусь опытом, который дорого достался мне, клянусь жизнью и всей китайской империей, – вы не ошибетесь…
* * *
2 октября
…Ночь. Спит небо, спит земля,
спит город, спит каждое здание огромного города, а я не сплю! Спят люди честные и низкие, великие и малые, бедные и богатые, спят графы и булочники, кондитеры и чиновники, журналисты и шарманщики, воры и книгопродавцы, спят, может быть, даже нищие и убийцы, – а я не сплю!
Не сплю!.. Когда земля повернется другою своею стороною к солнцу – а ту, на которой живу я, оставит во мраке – и вся жизнь органическая, лишенная теплоты и света, измученная заботами, страстями и недугами дня, повергнется в оцепенение – увы! столь непродолжительное! – мне становится легче… Строгая, девственная тишина ночи согласнее гармонирует с унылым, однообразным ропотом души моей, чем разнохарактерный, скрыпучий шум буйного дня. Огромные массы мрака, черные складки мантии, в которую ночь одевает природу, плотно прячут меня от глаз ненавистного света, а солнце?.. солнце предательски выдает меня: оно каждый день выставляет напоказ мою тоску, мои муки, мои раны сердечные!..
…Изменить!.. Да, она мне изменила. Напрасно стал бы я уверять себя в противном: факт слишком очевиден!..
* * *
5 октября
Не говорите мне, отчего так скучно, тяжело и страшно – человеку на белом свете. Я сам знаю причины. Я их вам расскажу по порядку… Оттого, друзья мои, что свет черен и неблагороден, что не уверен человек даже в том, – тверда ли земля, на которой он стоит, чист ли воздух, которым он дышит, безвредна ли пища, которую он употребляет; оттого, что на каждом шагу рискует человек сломить себе шею, сделать глупость, прослыть философом, быть укушенным бешеною собакою или обманутым коварною женщиною!
Мне тяжело, скучно и страшно на свете… случись со мной лет десять назад такая история, я непременно бы застрелился или повесился. Теперь, когда самоубийство всякого рода сделалось самою пошлою спекуляцией) на внимание почтеннейшей публики – из всех спекуляций, какие я знаю, – мне ничего более не остается, как писать свои записки…
Итак, буду писать записки.
Мы росли вместе. Под одним градусом долготы и широты бились наши сердца в продолжение восьми лет, одним воздухом дышали мы, одни и те же картины природы окружали нас с детства, под влиянием одинаковых обстоятельств развились в нас первые понятия о природе, о праве, о человеке; одну землю топтали мы; одно небо было над нами; по одному букварю учились мы русской грамоте. Наша юность была тождественна во всех отношениях… И между тем какая разница, какая ужасная разница!..
Некто, надворный советник и кавалер, человек сметливый и почтенный, который в семь лет схватил пять чинов и двести тысяч наличных денег, выстроил на имя жены дом в Петербурге и купил деревню в *** ской губернии, человек стойкий, прямой, доброкачественный, – дал жизнь существу, которому суждено было впоследствии обмануть меня. Его звали Супонев. Отец мой был бедный помещик, живший в селе, где ему принадлежало 23 ревижеских души, ветряная мельница и восемьдесят десятин строевого и дровяного леса, о которых, впрочем, доныне производится тяжба. Отец мой любил страстно охоту: у него было ружье, которое било на сто двадцать шагов, и собака – удивительная собака! – которая, по словам отца моего, была полезнее, умнее и расторопнее всякого «человека». Если взять в расчет, что шестеро лакеев, составлявших дворню моего отца, были все негодяи, лентяи и пьяницы, – то тут и нечему удивляться… О собаке моего отца ходили по всему околодку удивительные анекдоты, которые вскоре составили колоссальную репутацию не только самой собаке, но даже и моему отцу: так лучезарный ореол славы, окружающий чело всякого человека, бросает приятный блеск и на его приближенных; так гений великого актера, певца и музыканта заставляет видеть что-то необыкновенное и в дюжинных талантиках посредственностей, пользующихся его покровительством.
В сторону сравнения. На сцену является собака. Ее достоинства неисчислимы, ее добродетели изумительны. Она узнает, отыщет и принесет вещь своего хозяина, где бы вы ее ни потеряли, куда бы ни спрятали; она по первому указанию сорвет шляпу с прохожего, будь он хоть статский советник; ее можно посылать в лавочку за чем угодно: она не украдет ни копейки, ничего не съест и не испортит. Она будет лежать, ползать, ходить на задних лапах, делать всё, что прикажет хозяин. Она достанет дичь со дна моря. Она даже знает русскую азбуку.
Последнее обстоятельство особенно поразительно. Оно не шутка: я сам был не раз ему свидетелем. Я также не солгал, сказав, что собака составила репутацию моему отцу: все соседи любили и уважали его по собаке. Они почти каждый месяц наезжали к нему в значительном количестве, привозя с собой в подарок – кто муки, кто гусей, кто шампанского, кто повара и так далее. Зачем?.. Неужели их честолюбию могла льстить короткость с бедным помещиком двадцати трех душ мужеска и тридцати шести женска пола?.. Очевидно, что магнитом была собака. Каждое посещение соседей было истинным торжеством для моего отца. С самого раннего утра и до поздней ночи под непосредственным надзором и руководством моего отца собака выделывала свои гениальные фокусы, и хохот был гомерический. Когда наконец запас фокусов истощался, энтузиазм зрителей готов был погаснуть и самая собака, изнуренная продолжительной деятельностию и голодом, готова была протянуть ноги, – отец мой приказывал ей стать на задние лапы, брал кусок говядины, бережно клал на нос собаки и быстрым мановением рук и бровей давал знать зрителям, чтобы они ждали чего-то необыкновенного. Тотчас воцарялось глубокое молчание. Отец мой, поводя указательным пальцем от своего носа до собачьего и обратно, произносил с расстановкою:
Аз,
Буки,
Веди,
Глагол,
Добро,
Есть…
При последнем слове, произнесенном значительно усиленным голосом, собака делала быстрое движение, кусок летел кверху, она на лету подхватывала его и пожирала…
Если б я писал историю собаки моего отца, то должен бы был посвятить описанию ее подвигов весь мой досуг, но я пишу собственно свою историю и потому в коротких словах доскажу о собаке то, что собственно нужно для моей истории…
Супонев был также страстный охотник; ружей у него была целая дюжина, собак еще больше; но ни одна из них не могла сравняться с собакою моего отца. Как ни вкусны были обеды надворного советника и кавалера, однако ж соседи охотнее посещали моего отца или, правильнее сказать, собаку моего отца. Тайная зависть раздирала сердце надворного советника; он пожелал приобресть собаку покупкою. Сумма, которую он решился пожертвовать, возвышаясь по мере отказов моего отца, сделалась наконец так значительна, что на нее можно бы купить человека, но родитель мой, при всей своей бедности, выдержал свой характер. Он не отдал собаки! Не могу без сердечного трепета вспомнить о борьбе, которая происходила в душе и отражалась на лице его, когда он делал свое торжественное отречение… Налив собственноручно стакан водки «дворецкому», который приезжал к нему с письмом и деньгами за собакой, отец мой сказал:
– Не могу… Желал бы, душевно желал бы угодить Андрею Никифоровичу, – но, видит бог, не могу! Без Кастора я – как без головы; мне, старику, не привыкать жить на свете без него, когда привык жить с ним издавна. Всё готов сделать для Андрея Никифоровича: Кулебяку [17]17
Имя лошади.
[Закрыть]отдам; стану ездить на Васькиной Соломониде. [18]18
То же.
[Закрыть]Пусть кого хочет из людей возьмет, хоть Сидора: он малый непьющий, проворный, и дичь ли какая летит, заяц ли притаился в меже – прежде всех заподозрит… И жена у него такая бойкая: мастерица рубашки шить и всякое женское рукоделье для мужчин… А Кастора отдать не могу. Так и скажи своему барину. Пусть не сердится.
– Не отдавайте, не отдавайте, папуся! – подхватил я умоляющим голосом. – Я заплачу!
Отец мой поцеловал меня, назвал «своим карапузиком» и сказал: «Не бойся».
Я сел верхом на Кастора и закричал: «Ну, ну, ну, Кулебяка», подражая моему отцу, который обыкновенно понукал так свою лошадку, выезжая на охоту… Знай я тогда, что подражание дело нехорошее, я бы непременно придумал какое-нибудь свое восклицание: я был мальчишка преостроумный!
Увы! отец мой! зачем ты не сдержал своего слова? Зачем нежность твоя к единственной отрасли твоего рода победила в тебе привязанность к собаке? Если б ты до конца жизни своей был верен себе, я не испытал бы тех несчастий, которые теперь обрушились на мою голову, я не узнал бы ее, не привязался бы к ней (вы понимаете, что не о собаке здесь идет дело) всеми силами души моей и не был бы ею обманут!.. И зачем мне, наследнику твоего имени и твоих двадцати трех душ, твоей Кулебяки и Соломониды, – было дано то воспитание, на которое ты пожертвовал счастием последних дней твоей жизни и которое, увы! конечно не по твоей вине, сделалось для меня пагубным!
Не стану подробно описывать, какие средства в течение нескольких лет употреблял Супонев для того, чтоб завладеть нашею собакою. Доскажу коротко.
У Супонева была дочь. Когда ей минуло восемь лет, Супонев нанял француза, французенку и отставного старшего учителя какого-то училища для ее воспитания. Когда наконец все меры и кроткие и некроткие истощились и не повлекли за собою никакого успеха, – Супонев сделал отцу моему предложение, против которого отец мой не мог устоять…
Супонев писал:
«Павлуше вашему уже, кажется, тринадцатый год: нынче дворянин не может остаться без воспитания, его даже в службу не примут. Я нанял учителей и гувернантку для моей дочери, пусть же, думаю, учится у них и ваш Павлуша: всё равно едят мой хлеб и жалованье получают; по крайней мере сделаю добро соседу: он человек небогатый, поведения, как мне известно, хорошего и никаких дурных поступков за ним я не замечал. Павлуша будет у меня жить и учиться всему, чему будут учить дочь мою: француз – по-французски, на скрыпке, светскому обращению и танцевать, немка – по-немецки, на фортепьяне и вышивать по канве, шить бисером и по тюлю, Поношенский – русской грамоте и письму и всему, чему он там учил; закону божию – священник. Не упущено ничего, чтоб дочь моя была воспитана прилично рангу и состоянию. Павлуше вашему не мешает. Присылайте-ка его; никаких расходов вам не будет. Да уж присылайте с Павлушей и Касторку. Мальчик привык к собаке и, верно, расставшись с вами, будет скучать об вас: собака его утешит. Вы также очень меня обяжете, если будете навещать… и проч….»
Отец мой сразу понял, в чем дело. Слезы брызнули ручьями из глаз старика. Страшная борьба заметна была на лице его; видно было, что он на что-то решался.
– Павлуша, – сказал он после продолжительного молчания, – ты поедешь сегодня к Андрею Никифоровичу и там останешься. Кастора отправ…
Слезы помешали ему кончить. Он обвел глазами комнату: Кастор был тут. Он лежал середи комнаты в самом живописном положении, – в каком изображают львов перед подъездами богатых домов, – глаза его сверкали умом и довольством; мускулы двигались, баранью кость он грыз и весело визжал…
По временам умное животное взглядывало на своего хозяина и приветно вертело хвостом. Лицо моего родителя было мрачно. Он шептал про себя несвязные слова, из которых я мог только расслышать: «Отец всем должен жертвовать… счастие сына… не примут на службу… да будет воля господня!»…
Я не понимал ничего, но сам готов был заплакать: такова была горесть старика…
Сцену, происшедшую при прощании, по справедливости можно назвать раздирательною: Кастор разодрал мешок, в который принуждены были запрятать его, выскочил из повозки и бросился к моему отцу… Его поймали и опять посадили в повозку, со связанными ногами…
Жалобный вой Кастора и громкое рыдание моего отца долго оглашали окрестности… Я не плакал… Жаль, что те, которые в стихах и прозе сожалеют о «прекрасных днях невозвратного детства» и называют его лучшим возрастом жизни, не берут в расчет подобных обстоятельств!
Собака выла. Я с жадностью пожирал пирог с печенкой, который испекла мне на дорогу няня Тарасьевна. Я дал кусок собаке: она жалобно посмотрела мне в глаза, понюхала пирог и опять завыла пронзительно; кусок остался нетронут. Позже, вечером, я общипал поверхность его, которой касались губы собаки, а остальное съел с большим аппетитом.
Когда я доедал последнюю крошку, вдали показалась церковь и вскоре начали являться домы села ***…
Лягу спать…
* * *
15 октября
Целые десять дней я не брал пера в руки: мне было не до пера! Ужасная весть об ее измене не выходила у меня из головы: я бесился как исступленный, я плакал как ребенок, я проклинал, как Байрон… Меня звали к ней… Зачем я пойду к ней? Чтоб довершить муки своего сердца, чтоб увидеть ее счастливою с другим… О, никогда! никогда!
Я сумасшедший, я дурак первой руки: целые десять дней я думал о том, что можно было решить в одну минуту.
«Быть или не быть», «идти или не идти» – не выходило у меня из головы… «Незачем!» – ясно как день – «незачем!»
Не пойду к ней. Стану продолжать свои записки.
Благодаря собаке, которой в доме Супонева ждали все с необыкновенным нетерпением, я был принят прекрасно. Мне дали на завтрак одного кушанья с нею. Супонев обласкал меня и сказал, что будет моим вторым отцом; я поцеловал ему ручку… глупый поступок!.. Г-жа Супонева сказала, что я «жантиль», и дала мне ватрушку с вареньем; я поцеловал ей обе ручки, и мне сделалось тошно: от «ручек» пахло свиным салом и огуречным рассолом. С тех пор я получил чрезвычайное отвращение от целования чьих бы то ни было рук, – за что много терпел как в доме моего «второго отца», так впоследствии и во всем белом свете… Все кучера и бабы из кухни, все девки из девичьей, целая стая борзовщиков, доезжачих, подъезжих из псарни, – словом, всё, что было в доме живого, сбежалось в прихожую и смотрело сквозь полурастворенные двери на новоприезжих: со всех сторон раздавалось мое имя, сопровождаемое громкими похвалами собаке. Я был на седьмом небе. Вдобавок ко всему – я увидел Зизи!
Забуду я сладость первой конфетки, забуду тот нелепый восторг, который заставлял меня бегать высуня язык, когда я увидел в «Сыне отечества» первое мое стихотворение, с примечанием, которым я был очень доволен, забуду вас, расстегаи и танцовщицы, вас, устрицы и шампанское, тебя, душеоживительный, мятежный банк, где человек живет полно и совершенно, где все нервы напряжены, все страсти возведены в квадрат и душа ежеминутно просится на карту вместе с последним рублем, забуду вас, балы Американского клуба, вас, громкие, славу и торжество знаменующие вызовы Александрийского театра, вас, буйные ночные прогулки по Невскому проспекту, —
И вас, красотки молодые,
Которых позднею порой
Уносят дрожки удалые
По петербургской мостовой, —
забуду всё, – но не забуду, никогда не забуду той минуты, когда в первый раз увидел ее! То была минута великая и решительная, которая имела влияние на всю мою жизнь…
Я красноречив, когда говорю о собаке, но бледно слово мое, когда я заговорю о себе. Как будто на язык сядет типун, как будто сверхъестественная сила скует мысль свободную и готовую плавно излиться, как будто заяц перебежит дорогу слову резкому и выразительному. Лучше не говорить о себе…
К обеду пришли француз Бранказ, маркиз (по словам хозяина), немка Шпирх, баронесса (тож), и русский учитель Поношенский. Француз был настоящий француз: вертелся на одной ножке, пел куплеты, присвистывал, льстил хозяину, любезничал с хозяйкой и болтал за семерых, болтал живо, умно, занимательно. Немка, – в когда-то голубом, а теперь сине-сером капоте, в зеленой шляпке, бледная, сухая, стройная и длинная, как дреколье, – с первого взгляда напомнила мне кабак: серый шест, примкнутый к углу полуразрушенного дома, и наверху зеленая елка – девиз заведений такого рода – мог бы безбоязненно отлучиться с своего поста на какое угодно время, если б за него согласилась постоять баронесса: никто бы и не заподозрил подлога! Поношенский был в длинном темно-зеленом сюртуке и рожу имел чрезвычайно рябую; мало сказать, что на ней черт в свайку играл, нужно бы выдумать что-нибудь посильнее. Он говорил протяжно, нараспев, как драматические актеры теперь уже не существующей школы, почти при каждом слове описывал около себя рукою полукруг и слегка наклонял голову, причем француз, если он тут случался, обыкновенно делал то же, сардонически улыбаясь и выразительно поглядывая на хозяина, который, как увидим ниже, был большой пересмешник.
Все они, француз, немка и русский словесник, вошли в комнату почти в одно время, таща огромную корзину грибов, за которыми имели привычку ежедневно отправляться после уроков. Француз был впереди и пятился задом в комнату, передразнивая голосом рябого словесника, который сильно кряхтел, а глазами и губами – немку, которая с умилением смотрела в корзинку, выбирая грибок поменьше и покрасивее для поднесения своей маленькой ученице. Но план ее не удался: как скоро корзинка была внесена и поставлена, француз схватил из нее гриб наудачу и поднес Зизи, говоря, что он во всем лесу нарочно выбирал лучший для нее и насилу выбрал. Немка сделала кислую рожу, и замечание Андрея Никифоровича, что баронесса «съела гриб», было очень кстати.
Хозяин отрекомендовал меня моим будущим наставникам, и я был принят ими дружелюбно. Собака приняла их различно. По тайному знаку хозяина, она во мгновение ока сорвала зеленый бант с головы немки Шпирх и свихнула, в припадке сильного усердия, самую гребенку Анны Ивановны с ее надлежащего места; две пряди рыжих волос спустились вниз и скрыли от очей наших гневное чело гувернантки. Потом собака, без всякого знака с чьей-либо стороны, так ловко схватила за левую ногу профессора словесных наук, что крик ужаса, вылетевший из груди его, напугал самого хозяина. Все стали его успокоивать, и благодарный словесник, желая в свою очередь успокоить всех, сказал с улыбкою и со вздохом: «Ничего, я еще благодарен собаке; боль невелика, а между тем она возобновила в моей памяти одно из приятнейших воспоминаний: мне пришли на мысль те счастливые времена невозвратной юности, когда, бывало, меня сек учитель в школе». После того словесник опять вздохнул; целый день он был в самом романическом расположении духа и рассуждал с французом о том, как бы сделать, чтобы ему опять было лет восемь и он бы прошел бы все курсы – риторику, философию и проч.,– взял бы жену, завелся бы детьми и дослужился до пенсиона. Француз отвечал, что он давно из Парижа и потому хорошенько не знает, а там его соотечественники уж верно выдумали какой-нибудь способ или скоро выдумают… С одним только французом у собаки не вышло никакой истории: он очень скоро подружился с нею и своею угодливою любезностию разогнал даже несколько ее уныние…
Но что я делаю?.. Я взял перо с тем, чтобы сбросить на бумагу горе, раздирающее мою душу, перелить в звуки стоны и жалобы, ежеминутно исторгаемые из моего сердца мыслью об измене Зизи, заклеймить ее печатно позорным клеймом изменницы, а между тем наполняю страницы моих записок историею людей почти посторонних в моем рассказе. Конечно, предлог весьма благовидный. Пользуясь им, я мог бы написать четыре тома, где обрисовал бы широко и подробно всех, о ком только придется упомянуть; надел бы шутовской колпак на француза, размалевал бы румянами и белилами физиономию немки и заставил бы ее пылать огнем любви к профессору словесных наук, а профессора обожать втайне не имеющую привычки мыть руки хозяйку, а хозяйку сгорать от любви к французу, словом, я мог бы заварить страшную кашу, – но великодушию моему нет предела: те, которые будут читать мои записки, ничего такого в них не найдут. Я кончу очень скоро. Я только познакомлю их с моим вторым отцом, с которым необходимо им познакомиться, и перейду к себе…
Подробное описание носа и добродетелей моего второго отца в сторону: предмет слишком сложный, требующий большого описательного таланта, которого я не имею. Скажу лучше несколько слов об его характере. Характер Андрея Никифоровича во второй половине его жизни нечаянно получил направление сатирическое. В первую половину жизни благодетель мой служил и был занят тем, что разумеют под словом «благоприобретать»; ему было не до сатиры: он сам тогда мог бы служить предметом сатиры. Но перед самою покупкою деревни и отъездом туда, бывши на обеде у Андрея Никифоровича, один сочинитель, журналист – травленый волк, по поводу какой-то неумышленной остроты моего второго отца сказал с громким хохотом: «Браво, Андрей Никифорович! Да вы там, в деревне, всех засмеете, первым человеком будете не только по богатству, и по уму! Вы и здесь не последним бы сочинителем были: направление такое благонамеренное, нравственно-сатирическое, и слог даже в разговоре виден, ей-богу, право, клянусь женой, детьми! В сотрудники бы взял: тысячу рублей в месяц, вот хоть сейчас деньги, да знаю, что не пойдете!» С той минуты цель остальной жизни моего второго отца была определена. Целый вечер он острил без умолку, кстати и некстати; все хохотали, потому что угощение было отличное, журналист – травленый волк хохотал громче всех. Уезжая поздно ночью домой, он снова повторил предположение, что Андрей Никифорович засмеет в провинции наповал всех соседей, и попросил взаймы тысячу рублей денег, но получил только семьсот, но причинам, которые мне неизвестны.
Андрей Никифорович острил бесчеловечно; если б я имел охоту припоминать его остроты, то мог бы надоесть самому терпеливому читателю. Каждому в доме и в околодке была у него своя особенная кличка; он изобрел титул маркиза – французу, баронессы – немке и не называл иначе наставников своей дочери, как маркизом, баронессою. Почти ежедневно он придумывал и приводил в исполнение какой-нибудь замысловатый фокус-покус; у него были тысячи поговорок, прибауток и остроумных изречений, которые он сыпал за собою как бисер. Словом, остроумие Андрея Никифоровича после собаки моего отца составляло один из главных предметов удивления всего нашего околодка. Француз тотчас понял слабую сторону моего отца и прекрасно ею пользовался; словесник, на которого преимущественно направлялись стрелы остроумия хозяина, каждый раз, как бы шутка ни была груба, замечал очень серьезно, что кому бог дал остроумие, так на то и дал, чтобы острить, – и сердиться тут так же неприлично, как сердиться на бритву за то, что она хорошо бреет. Немка, при беспрестанных намеках на свои рыжие волосы, нередко выпрашивала, в виде прибавки к жалованью, денег на парик, но парика не покупала. Всё обстояло благополучно…
Настал час обеда. Профессор словесных наук, обязавшийся контрактом развивать, между прочим, в своей ученице поэтическое направление и носивший в груди своей поэтические начала, поставил себе за правило ежедневно отпускать по экспромту. На сей раз он взглянул в окно и, улучив удобную минуту, произнес торжественно:








