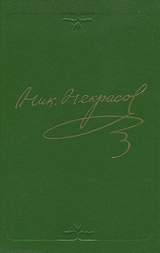
Текст книги "Том 7. Художественная проза 1840-1855"
Автор книги: Николай Некрасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 43 страниц)
Психологическая задача *
Давняя быль
В прошлом столетии в одном малороссийском селе жил мужик по имени Никита, крепкий, здоровый, ростом в косую сажень, нрава крутого и неуступчивого, но человек добрый и правдивый. Он любил старину, строго держался патриархальных обычаев и был в полном смысле главой своего семейства: ни жена, ни дети не ступали шагу без его ведома и спросу. Кроме участка земли, которую, обрабатывали пять его сыновей, у него был хутор с мельницей и пчелами; ими он занимался сам, а сыновья соберут хлеб, свезут на ярмарку, продадут и честно принесут выручку отцу, и всякая копейка, какую ни достанут в семействе, поступала к нему. А он как получит деньги, тотчас обделит всех: тому на свитку, тому на обувь, а жене на хозяйство выдаст. И потом, когда нужны деньги, – идут к нему: он выдавал – не морщился. Так они жили много лет согласно и зажиточно… Стукнуло ему пятьдесят лет. Поехал он в город и пробыл там два дня. Случилась ли там с ним какая история, или ничего особенного не случилось, только воротился он совсем другим человеком. Стал он жене говорить, что жена много денег изводит, стал детей корить, что мало зарабатывают, стал жаловаться на крутые времена и черные дни. Вот побывали сыновья на ярмарке, продали хлеб, воротились и, в пояс поклонившись отцу, счетом сдали ему выручку…
Отец поворчал на них, зачем дешево продали, деньги три раза пересчитал, чего прежде за ним не водилось, да и притих с ними.
День, два, неделя проходит – старик молчит; а деньги нужны, да сказать ему не смеют. Наконец попросили денег. Старик поморщился, однако ж выдал, только так мало, что через месяц опять пришлось просить.
– Нема грошей, – грозно отвечал старик, велел сыну запрячь лошадь и уехал на свой хутор.
– Коли батька говорит нет, значит, нет, – решили сыновья и стали с горем перебиваться до новой выручки за хлеб.
Только как отдали они старику новую выручку, так он выбранил их вдвое крепче, зачем дешево сбыли хлеб, а денег дал вдвое меньше, чем в прошлом году. На третий год еще меньше, на четвертый еще меньше, а отговорка всё одна: «Времена тяжкие, нема грошей». Дети уж и плохо верили такому ответу, да против отца не пойдешь: повесят головы и замолчат, а на следующий год опять несут отцу выручку. Вот жена так и пыталась не раз спрашивать: «Да куда же они деваются у тебя? ведь и прежде было не больше, а, слава богу, хватало на всё?»; пыталась она и упрашивать его и усовещивать, старик закричит, застучит костылем в пол, выбранит старуху и уедет на свой хутор. Прошло еще несколько лет, и старик вовсе перестал давать денег своему семейству; как только попадет к нему какая копейка – поминай как звали: словно в воду канула! И уж ничем не выпросишь! Раз поехали сыновья в город и воротились без меньшого брата. Парень и от природы был простоват, да тут еще на беду выпил, так и сам не помнит, каким образом впутался в уголовное дело; его задержали с двумя какими-то бродягами; пошло следствие… Бухнулись сыновья старику в ноги, рассказали, в чем дело, и стали просить денег на выручку брата. Старик долго расспрашивал подробности, долго думал, осведомился, сколько нужно денег, и наконец отвечал: «Нема грошей». Бухнулась и старуха-мать ему в ноги, да напрасно: «Нема грошей». Так и погиб его меньшой сын… Изба у них обвалилась, одежда доносилась, иногда приходилось голодать по суткам: старик будто не замечал ничего. Нечего делать! Чтоб как-нибудь жить, сыновья стали обманывать его: выручат тысячу, а отдадут ему половину, остальные идут на расход… Так жили они лет тридцать. Старику приближалось к осьмидесяти годам; как ни был он крепок, однако ж силы начали ему изменять. Он редко выходил из хаты, только время от времени съездит на свой хутор верст за семь, а наконец он и совсем свалился. С каждым днем становилось ему хуже, и он сам, кряхтя и охая, не раз говорил, что смертный час его пришел. С часу на час ждут сыновья, что вот позовет их батька, благословит и скажет, где у него спрятаны деньги, которых, по их расчету, в тридцать лет накопилось у него много… Того же ждала и старуха. Но старик молчал, только жаловался на боль в груди да на то, что сила совсем пропала: ни рукой, ни ногой пошевелить не может… Прошел еще день, и старику стало совсем плохо: сам он уж подняться не мог. Благословил он детей, простился и с старухой своей, а про деньги ни слова… Наконец старуха решилась сама спросить, где у него деньги… «Нема у меня грошей, какие у меня гроши», – сердито закричал старик и замолчал… К вечеру стало ему еще хуже, и старуха опять решилась повторить вопрос. Ответ был тот же. И как ни уговаривала его жена, он всё стоял на своем. Многие родные и соседи, которых он уважал, тоже пробовали уговаривать его, доказывая, как невероятно, чтоб у него не было денег, говорили, что не в могилу же он их унесет с собой, пугали гневом и наказанием божиим, – старик сердито просил отстать от него и упрямо повторял: «Нема у меня грошей»… Между тем он видимо гас; он уже же мог сам пошевелиться, сыновья переваливали его с боку на бок… Оставалась одна надежда – на священника. И священник, исповедуя его, представил ему тяжкий грех, который он возьмет на душу свою, утаив от родных детей сокровище свое, оставив их в нищете, тогда как может наделить их достатком. Долго запирался старик; наконец, тронутый увещаньями священника, он признался, что у него точно есть деньги, и обещал сказать жене, где спрятано его сокровище. Священник ушел, обрадовав семейство этим известием. Но проходит час, другой и третий – старик молчит; напрасно старуха сидит подле него и смотрит умильно и ободрительно в его впалые угрюмые глава, – старик молчит. Наконец она опять решается заговорить первая.
– Касатик ты мой! – говорит она. – Скажи, чем прогневили мы тебя, грешные, что ты хочешь лишить наследства родных детей своих, а меня, жену свою, на старости лет пустить по миру? Никогда-то мы не выходили из твоего повиновения. Сыновья твои во всем тебя слушались, как следует по закону, да и я никогда тебе не поперечила… Вдруг ты скупенек стал, начал денежки приберегать, мало на прожиток давал… Разве мы жаловались, шли против воли твоей… Никогда! На то ты всему дому глава: курицу яйца не учат! Ну а теперь, коли ты сам говоришь, что последний, час твой пришел, так не лишай же свою вдову горемычную милости своей, не обидь сыновей своих кровных…
– Нем ау меня грошей, – угрюмо и нерешительно отвечал старик.
– Побойся бога! – восклицает испуганная старуха. – Да ведь же ты сам сказал отцу Прохору, что есть у тебя деньги… Ты только скажи, касатик мой, – продолжала она со всею нежностью, какая только могла выразиться в ее дряблом, разбитом голосе, – ты только скажи мне, сожительнице твоей верной и послушной, где схоронил их, чтобы не попали они в чужие, недобрые руки, не пропали даром?.. Или ты не веришь мне, старухе, или боишься, что сыновья размотают твое добро?.. Я, старуха, как жила, так и буду жить – где уж мне на старости роскошничать? Сыновья твои парии честные, трезвые, да уж и в летах: ведь уж старшему-то пятидесятый годок пошел… Не размотаем мы, не прображничаем добро твое, а будем мы жить смирно да помнить тебя добром да свечи за тебя ставить.
– Ну скажу, скажу, – глухим голосом проговорил старик, который, казалось, был тронут. – Получите свои деньги! – прибавил он с сердцем.
– Ну, где же они у тебя, касатик? – спрашивает старуха.
Старик молчит!
Проходит опять несколько часов глубокого и мучительного молчания. Только тяжелые громкие вздохи и болезненные вскрикиванья старика по временам нарушают его.
Испуганная выражением лица своего мужа, которое постепенно приняло совершенно земляной цвет, какой бывает у покойников, старуха решается возобновить свою речь.
Но старик молчит, погруженный в свои думы.
Иногда, будто выведенный из терпенья ее унылым упрашиваньем, он пробормочет злым, раздражительным голосом: «Скажу, скажу», но ничего больше не скажет, а разве застонет, заохает, попросит пить и потом плотно стиснет зубы, перекрестив рот худыми, длинными пальцами…
По временам сыновья входили и выходили, смотрели на больного отца, перешептывались, вызывали старуху, расспрашивали ее, по мать не могла сообщить ничего утешительного сыновьям своим.
Так ночь прошла.
Наутро всё семейство обступило старика. Никто не говорил, но все смотрели на него умоляющим и вопрошающим взором…
– Запречь сивку! – вдруг среди глубокого молчания звонко раздался повелительный голос старика.
Старший сын вышел и через полчаса пришел сказать, что лошадь готова, и спрашивал, куда и кому велит он ехать.
– Сам поеду! – отрывисто и строго отвечал старик.
Все невольно вздрогнули, когда он, поднявшись на своей кровати и поставив на пол босые ноги, вдруг выпрямился во всю длину своего огромного роста, который, при страшной худобе его тела, казался теперь еще значительнее.
– Чоботы и кожух! – закричал он.
Ему помогли одеться, и он без чужой помощи вышел на двор и сел в телегу… Старший сын хотел сесть рядом с ним, но он вырвал у него вожжи, толкнул его вон из телеги и поехал по направлению к хутору.
– Никого не надо! – сказал он повелительно, сделав знак рукой, чтоб за ним не следовали…
Прошло несколько часов в тяжелом ожидании; старик не возвращался. Наконец, опасаясь за него, сыновья с дядей Кузьмой решились поехать на хутор. Подъезжая к хутору, они увидели его лошадь, привязанную у пасеки; но самого старика видно не было. Они вошли в пасеку – и все разом вскрикнули, объятые удивленьем и ужасом: старик висел на перекладине, медленно качаясь; ноги его, по временам, задевали за корень дерева, который он, вероятно, подставил, чтоб удобнее повеситься!
Старик повесился, повесился, может быть, за один час до естественной смерти! Неизвестно, полюбовался ли он в последний раз своим сокровищем, простился ли с ним, – или, как приехал, так поскорей и надел веревку на свою шею, мучимый страхом, чтоб не выманили у него признания, где хранится оно? Спустя пятнадцать лет нашлось сокровище старика. Сыновья его понемногу перевели пчел и пасеку уничтожили. Когда стали они пахать ту землю, где прежде была пасека, вдруг наткнулись на что-то жесткое – глядь: камень в земле; им стало подозрительно; приняли камень – яма; вот они копать, копать да и докопались до чугунчика, а в чугунчике-то всё золото да серебро… слишком двадцать тысяч накопил старик. Только не впрок пошло добро, скопленное стариком: сыновья при дележе так передрались, что один тут же богу душу отдал, а другой недолго его пережил.
Происшествие, рассказанное здесь, не выдумано. Вы услышите его в Малороссии от любого старожила. Оно рассказано автору известным артистом московской сцены М. С. Щепкиным, урожденцем Малороссии.
Новоизобретенная привилегированная краска братьев Дирлинг и К о *
Неправдоподобный рассказ
I
Среди огорченных, озабоченных и расплаканных пассажиров, отправлявшихся однажды летом из Петербурга в Москву в почтовой карете, герой настоящей повести поражал необыкновенным спокойствием. Может быть, оно происходило оттого, что он ехал в сопровождении красивой собаки из породы водолазов, в страшной силе и отважности которой не допускали ни малейшего сомнения огромный рост и громогласная кличка. Хозяин звал ее Прометеем. Самого хозяина находившийся при нем человек, дюжий малый лет двадцати, называл Леонардом Лукичом, а провожавший его приятель – Хлыщовым. Господин Хлыщов принадлежал к породе мужчин крупных и видных; многие даже называли его красавцем, исключая, однако ж, нас: мы всегда были такого мнения, что лучше иметь щеки не столь полные и румяные, но без того подозрительного лоску, который поверхностные наблюдатели принимают часто за признак глупости, не умеющей скрыть восторга, ощущаемого при постоянном сознании и созерцании собственных достоинств. Был ли действительно герой наш глуп или обладал уважительными причинами к невозмутимому самодовольствию – обстоятельства раскроют впоследствии. Кроме красных, выпуклых щек, господин Хлыщов имел усы, о настоящем цвете которых читатель получит точное понятие также впоследствии – во второй или третий день его путешествия, – и пару больших совершенно синих глаз, напоминавших большую рыбу, например белугу, только что вытащенную на берег… да! они были мало выразительны, зато нежная, спокойная, ничем не возмутимая прозрачность их повергала в истинное умиление! Господину Хлыщову было за тридцать лет. Касательно сердечных свойств и привязанностей его покуда ничего не можем сказать. Известно только, что он сильно любил свою собаку, чему доказательством служит и место внутри кареты, которое он взял ей рядом с собой. Надо сказать правду, что никогда, может быть, привязанность к Прометею не возвысилась бы в сердце его до забвения собственных интересов, если б тут не примешивалось особенное обстоятельство: как ни глубоко чувствовал, как ни высоко ценил господин Хлыщов свои личные достоинства, которым и мы в течение рассказа отдадим полную справедливость, он, однако ж, не мог не заметить, что в одиноких прогулках своих по Невскому проспекту не производил и половины того эффекта, каким пользовался, появляясь в сопровождении своей огромной собаки. Таким образом мы видим, что похвальное чувство благодарности к бессловесному существу сделало то, чего не могли сделать красноречивейшие убеждения господина Турманова, который, проигравшись в пух (а известно, что красноречие проигравшегося человека почта неотразимо), в самый день отъезда пристал к своему другу, а нашему герою, с просьбою ссудить его незначительной суммой.
– Не могу, – отвечал ему Хлыщов, – самому деньги нужны на дорогу.
– Но ведь я в таком положении, что хоть продавай последний сюртук!
– Не могу, не могу, не могу! – повторил Хлыщов решительно. – Вот поеду в Москву, женюсь, возьму хорошее приданое, и тогда изволь, сколько хочешь!
Итак, Хлыщов ехал в Москву жениться. Факт не лишенный важности! Приняв его к сведению, скажем, что господин Турманов был именно тот приятель, который провожал теперь нашего героя. Находясь в положении еще более ужасном, чем решился открыть своему другу (мы положительно знаем, что продажа одного сюртука далеко не могла его выручить), он, однако ж, не упал духом перед решительным отказом.
Он остался у Хлыщова весь день, ходил с ним делать закупки, принял деятельное участие в закуске, помогал Хлыщову закрыть плотно набитый чемодан и между тем по временам, улучив минуту, совершенно неожиданно повторял свою просьбу, увы! всё так же безуспешно. Наконец пришло время отправляться в отделение карет… Давно сказано, что надежда такой прелестный цветок, который никогда не вянет: Турманов последовал и туда за Хлыщовым, и таким образом ничему другому, как всё той же вечно живущей в человеческом сердце надежде, Хлыщов был обязан тем, что уезжал напутствуемый, подобно другим пассажирам, искренними пожеланиями…
Но только пожелания господина Турманова были такого свойства, что едва ли можно порадоваться им. Когда, облобызав в последний раз нашего героя, забравшегося уже в карету, Турманов тихим и робким голосом повторил свою просьбу, а Хлыщов громким и решительным свой отказ, – надежда наконец покинула несчастного, он взбесился и громко воскликнул:
– Ну, жадная душа! чтоб тебе в Москве ни жены, ни приданого… а случись там с тобой…
Резко раздавшийся рог кондуктора, смешанный с шумом тронувшихся кареты и брика, заглушил последние слова раздраженного приятеля, квеличайшему сожалению переднего пассажира, – породою немца, который немало удивился такому оригинальному способу прощанья и поспешил сообщить свое удивление соседу.
– Што он сказаль? вы слышаль?
– Слышал, – сквозь зубы пробормотал сосед.
– Браниль?
– Не бранил, а так: видно, поссорились, – мрачно отвечал сосед, в котором рекомендуется читателю Мартын, камердинер нашего героя.
– Поссорились?
– Наш барин не такой – браниться никому не позволит, сам сдачи даст!
– Барин?
– А то кто же? Разумеется, барин!
– Ваш барии? Вы его камердин?
– Да, камердин, – отвечал Мартын, передразнивая немца.
– Богатый барин?
– А то как же!
– Служит?
– Нет.
– А что не делает?
– Что? Известно: поутру встанет, чаю выпьет, велит трубку подать, курит; господа придут; ну, известно: закуска; либо книжку лежит читает; у нас книжки всё новые; как месяц прошел – старая не годится, – ступай, неси новую, и билет такой есть: придешь покажешь его – и выдадут – слона ко скажут! И я тоже читал. А вечером в театр либо к приятелям, а не то к нему соберутся: столы поставлю, играют. А бывает, коли вздумается, и с утра играют…
Пока Мартын описывал любопытному немцу образ жизни своего барина, карета быстро катилась по торцовой мостовой и наконец повернула в другую улицу. Проводив глазами ненавистный экипаж, умчавший лучшие его надежды, господин Турманов медленно стал переходить пешеходный мостик, против отделения почтовых карет. Лицо его было мрачно. «И за что потерял я целый день? – шептал он уныло. – Шатался с ним по магазинам, чуть но надорвался, зашнуровывая проклятый чемодан? Да обойди я лучше тем временем приятелей, достал бы, непременно дослал бы… мне и Чухломин бы дал, и Саврасов бы дал… а теперь поди застань кого-нибудь: все по дачам, на островах, в Павловске… А славное сегодня гулянье в Павловске, с музыкой…» Он вздохнул… «Хоть бы музыки послушать… всего и проезд-то пустяков стоит…» С надеждой, внезапно мелькнувшей в лице, он обшарил свои карманы и опять вздохнул глубоко-глубоко.
Солнце усердно пекло прощальными своими лучами. Воздух был душен, тротуары раскалены, пыль лезла в горло и производила сухой кашель. То был час, в который летом оставаться в городе сущее горе.
Господин Турманов, продолжая машинально свой путь, очутился у церкви Николы Морского и остановился. В ограде на зеленой траве играли дети. Он засмотрелся. О, как бы желал он теперь сам превратиться в дитя, чуждое житейских треволнений… стать с своим мячиком посреди розовых малюток, беспечно бегающих с обручиками, мячиками, картонными лошадками и всякими игрушками! Неведомая сила тянула его туда. Слезы сверкнули у него в глазах, грусть, сожаление, злость давили ему грудь, и тоска его разрешилась наконец в долгое, энергическое проклятие, посланное господину Хлыщову…
Оно было так искренно, так энергично, почерпнуто в таких сокровенных тайниках злобы и ненависти, что нет ничего мудреного, если оно отзовется нашему герою!
II
Занятия, которым предавался Хлыщов в дороге, всего лучше могут определить состояние духа, в котором он находился. Нередко всматривался он в блестящие дощечки жестяного фонаря, отражавшие его полное, краснощекое лицо; по как отражение было не довольно ясно, то он по временам открывал дорожный мешок, доставал небольшое зеркало и с помощию его дополнял сведения о состоянии своей физиономии, почерпнутые при посредстве фонаря. Глядясь в зеркало, он щурился, подмигивал, лукаво улыбался, покручивал и подергивал свои усы и вообще делал всё, что иногда делают перед зеркалом люди, знающие, что никто за ними не подглядывает. «Граф, граф, решительно граф, – говорил он, трепля свою полную щеку. – И осанка такая – и взгляд графский!» Когда эти занятия начинали ему надоедать, что случалось, впрочем, не слишком скоро, он обращался к молчаливому свидетелю своих наблюдений и вступал с ним в дружеский разговор. – Что ты видел во сне? что во сне видел, а? Ну, пошел зевать, пошел… Неженка! Вишь, развалился! а вот выгоню тебя, так и будешь бежать за каретой, – тогда увидим. Неизвестно, что думал в то время Прометей и вообще до какой степени развиты были его мыслительные способности, но с достоверностию можно сказать, что обоняние его было развито довольно сильно: он беспрестанно обнюхивал тот угол кареты, где находились копченые колбасы и другие дорожные запасы господина Хлыщова, составлявшие, по-видимому, постоянный предмет размышлений его верного пса. Случалось, что Прометей обнаруживал даже явное покушение полакомиться ими, но герой нага довольно неучтиво отталкивал его, пока наконец голод не пробирал его самого. Тогда в карете мгновенно всё оживлялось.
Каким бы глубоким сном ни спала собака, Хлыщову стоило крякнуть и прищелкнуть языком, чтоб поднять ее: ибо многочисленные наблюдения убедили сметливого Прометея, что герой наш издавал вышеупомянутые звуки только в таких случаях, когда, выпив водки, приступал к закуске. И действительно, испустив их, он тотчас доставал складной нож и развертывал припасы. Собака не спускала с него глаз, провожая в его рот каждый кусок, и жадностью своей подавала господину Хлыщову неистощимый повод к остроумию и наставительным замечаниям касательно терпения и других добрых свойств, необходимых хорошей собаке.
Иногда вдруг охватывало его поэтическое настроение. Он пел куплеты из любимых своих водевилей, и тогда целый рой милых сердцу театральных воспоминаний возникал в его голове. Мысленно переносился он в Александрынский театр, и перед ним стройно проходили любимые артистки, с своими очаровательными улыбками; знал он также много романсов и громким, проникающим душу голосом пел:
На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит,
Утро дышит у ней на груди,
Ярко блещет на розах ланит…
То был его любимый романс; он пел его беспрестанно, вытягивая с особенным одушевлением стих:
У-тррро дыыыыы-шит у ней на грррру-ддддди… —
причем его собственная могучая грудь высоко подымалась, и он вздыхал сладко-сладко и мысленно рассчитывал версты.
Поэтическое настроение его оканчивалось обыкновенно тем, что он начинал сам складывать стихи, – участь всех одиноких путешественников, сколько-нибудь наклонных к мечтательности и отвлеченностям. До какой степени удачны поэтические опыты Хлыщова, читатель может судить по следующему отрывку:
Ассан сидел, нахмуря брови.
Кальян дымился, ветер выл.
И, грозно молвив: «Крови! крови!»,
Он встал и на коня вскочил.
«Зюлейка! нет, твою измену
Врагу я даром не прощу!
Его как мяч на шашку вздену,
Иль сам паду, иль отомщу!»
Что было ночью в поле ратном,
О том расскажет лишь луна…
Наутро конь путем обратным
Скакал… Несчастная жена!
Мешок о лук седельный бился,
Горела под конем трава.
Но не чурек в мешке таился:
Была в нем вражья голова!
Стихотворение называлось «Месть горца». Автор думал посвятить его трем буквам со звездочками, значение которых мы скоро узнаем; к слову чурек сделана была выноска: чурек – черкесское кушанье.
Читатель теперь видит, что имеет дело с человеком не совсем обыкновенным, и если, может быть, до сей поры он недоумевал и даже обижался, почему автор с таким усердием описывает мельчайшую черту своего героя, то теперь, надо надеяться, подобное недоумение уже не может иметь места. Почему Хлыщов, при всех условиях счастия, которым, по-видимому, наслаждался, выбирал такие мрачные картины? Потому, всего верное, что мелкие чувства и страсти, обыкновенные происшествия, обыкновенных людей он считал решительно недостойными описания и всегда удивлялся, как у авторов достает терпения возиться с таким к предметами. Любимым его чтением был «Кавказский пленник», после которого всего выше ставил он «Хаджи-Абрека», мало видя хорошего в остальных произведениях Лермонтова. Он думал, что изображения достойны только чувства громадные, предметы поразительные, люди со страстями могучими и душой возвышенной. И, надо признаться, мы совершенно с ним согласны, а потому именно выбрали нашим героем его, господина Хлыщова, а не кого-нибудь другого…
Однако ж к делу.
Нет никакого сомнения, что самыми торжественными минутами в путешествии Хлыщова были те, когда карета, с шумом подкатывалась к станции и останавливалась. Дверцы растворялись; вслед за своим хозяином собака бойко выскакивала, расправляла свои могучие члены, картинно выгибаясь, лаяла, визжала и бросалась ко всем с признаками живейшей радости. Но прочие пассажиры, не поняв ее дружеского расположения, приходили в смущение и пятились; дамы кричали: «Ах!»
Тогда Хлыщов, с любезностью приложив руку к фуражке и грациозно принагнув голову, произносил самым нежным голосом:
– Не извольте пугаться, сударыни. Собака моя, только страшна с виду и сила у ней ужасная, но, пока я при ней, она не сделает никому ни малейшего вреда… особенно прекрасному полу.
Вслед за тем кроткое выражение лица его сменялось повелительным и чрезвычайно свирепым с такой быстротой, как будто вдруг поставили ему сзади на плечи другую голову; голос из нежного тона мгновенно переходил в густой, настойчивый бас, и герой наш кричал:
– Прометей, сюда!
И собака тотчас послушно опускала уши и смиренно садилась на задние лапы у ног своего хозяина.
– Вот как у нас! – гордо замечал тогда Мартын своему соседу, с любовью оглядывая собаку. – Ведь уж как же мы ее и учили. Сколько битья приняла сердечная! А то прежде на людей бросалась – разорвет… Соседи хотели жаловаться в полицию, а кучер генеральский просто грозился извести: я, говорит, подсыплю ей яду…
– Мартын, трубку! – раздавался вдруг голос господина Хлыщова, и Мартын, не кончив речи, опрометью бросался с своего высокого седалища, с готовой уже трубкой, которую, ради скуки, набивал всю дорогу.
Нужно заметить, Хлыщов в карете курил папироски, а на станциях трубку с длиннейшим чубуком. Герой наш не любил коротеньких чубуков.
Когда человек хорошо настроен, каждая безделка доставляет ему повод к наслаждению. Разные дорожные встречи и случайности, ссоры ямщиков, привязчивые продавцы выборгских кренделей и баранков, называющие каждого проезжающего золотцем, – всё развлекало нашего путешественника; он острил, хохотал, пугал баб своей собакой и вообще обнаруживал признаки счастливейшего смертного.
И точно, он был счастлив. Не говоря уже о том, что он, как мы узнали, ехал жениться, и о том, что мог есть безнаказанно, как мы тоже видели, копченую колбасу в дороге, – вся вообще обстановка его жизни была такова, что печалиться было нечему: он был молод, хорош собой, по крайней мере по собственному убеждению, далеко не беден и наслаждался полной независимостью. Разбогател он, впрочем, недавно; в прошлую поездку свою в Москву он влюбился в одну очень образованную, примерной нравственности девицу, с хорошим приданым, но тогда еще, как он сам говаривал, делишки его хромали: бабушка его была еще жива. Благоразумие предписывало подождать. И вот теперь бабушка его умерла, оставив ему хорошее наследство, – и он ехал к предмету своей страсти, твердо уверенный в полной победе…
Таким образом, желание произвесть блистательнейшее впечатление на невесту было единственной заботой его в дороге. Надлежало, следовательно, принять меры, чтобы дорога не попортила лица. И герой наш принял их: во всю дорогу он ни разу не умывался, хотя карета страшно пылила и по природе был он весьма чистоплотен. Усы его через сутки начали терять свой черный цвет, наконец покраснели как кирпич, и скоро не осталось ни малейшего сомнения, что природный цвет их был рыжий; но с усами справиться легко! Иное дело нос. Так как нос Хлыщова имел несчастную привычку краснеть вследствие малейшего трения, то герой наш в последнюю ночь решился даже не спать, рассчитывая, что и приобретенная таким образом бледность придаст лицу его интересное, поэтическое выражение… Но натура взяла свое: как ни крепился Хлыщов, к утру сон одолел его, и он проснулся с краснейшим носом, благодаря суконному обшлагу шинели, в течение нескольких часов усердно делавшему свое дело. Обстоятельство ничтожное, и мы не упомянули бы о нем, если б оно значительно не омрачило веселости нашего героя. Проезжая последние станции, он ни разу не поговорил с своей собакой, не любезничал с дамами, но тотчас, как отворялись дверцы, бежал к трактирному зеркалу, подозревая собственное в предательстве. Но и трактирные зеркала показывали то же, с прибавлением иногда небывалого раскоса в глазах, чем Хлыщов, видимо, оскорблялся, отскакивая с негодованием и бросая кругом свирепые взгляды.
Думая, нет ли чего тлетворного в дыхании собаки, Хлыщов целые две станции проехал, высунув голову в окно, причем изрядно наглотался пыли; но что нужды! пыль шла в желудок, в котором у него всё обстояло благополучно… беда та, что гибельная краснота нисколько не уменьшалась. Оставалась одна надежда на разные косметические средства, которых находился при нем изрядный запас, – и Хлыщов с нетерпением ждал минуты прибытия в Москву.
И вот она наконец наступила, к величайшей его радости. Приказав Мартыну везти чемоданы в гостиницу Шора, а с собой захватив только дорожный мешок, Хлыщов нанял лучшего извозчика и полетел к Охотному ряду.
«Придется, может быть, – думал он дорогой, – принимать у себя родственников невесты: надо, чтоб квартира была хорошая. Пусть видят, что в родню к ним вступает не какой-нибудь забулдыга!»
К счастию, два лучшие нумера в гостинице Шора были порожние. Поторговавшись порядочно и назвав всех трактирщиков обиралами, Хлыщов взял их.
– Воды, скорей воды! – кричал он человеку, входя в комнату.
Человек пошел, а Хлыщов подскочил к зеркалу…
III
Когда Хлыщов разложил свой несессер и дорожный меток, нельзя было не подивиться необыкновенному обилию косметических средств, находившихся при нем; особенно мыла, в тисненых коробочках, в красивых жестянках, в цветных бумажках, имелось такое огромное количество, что невольно возникал вопрос: не был ли герой наш просто мыльным торговцем и не приехал ли в Москву с образчиками своего товара, которому не находил достаточного сбыта в столице? Но такое обидное предположение скоро рассеивалось тем, что каждый сорт имел свое особенное назначение и по мере надобности поступал в дело. Составов для крашенья усов было также немало; выгружая их, Хлыщов вскрикнул: любимый его фуляр, с китайскими мандаринами по краям и с чувствительной сценой в середине, был залит черной жидкостью, которая успела уже засохнуть и отставала местами, как кора с дерева.
«Надо будет его перекрасить», – подумал Хлыщов.
Пока герой наш умывался, Мартын призвал парикмахера, и через два часа Хлыщова нельзя было узнать – причина, обязывающая нас как можно подробнее описать его превращение.
Нежная кожа налима может дать далеко но полное понятие о том, до какой степени выбритая борода его, натертая благовонным мылом, синелась и лоснилась; усы были черные как смоль и расположены эффектнейшим образом: представляя в основании почти сплошную массу, постепенно шли они тоньше и тоньше и оканчивались с каждой стороны одним длинным волоском, закрученным в колечко; симметрия была соблюдена с удивительной точностью. Волосы были завиты мельчайшими колечками. На нем был черный сюртук с иголочки; брюки цвета вареной лососины, с черными лампасами, жилет черный с красным снурком по бортам. Руки его украшены были кольцами и дорогими перстнями. Туго накрахмаленные воротнички рубашки красиво облегали его полные щеки, а подбритый затылок тонул в складках синего шарфа, приколотого спереди огромной булавкой, в виде серпа, с маленькими брильянтами. Здесь необходимо отступление. Хлыщов принадлежал к числу немногих избранных, у которых волосы растут не спросясь, где нужно, где нет, с изумительной силою; в одиночку или попарно сюрпризом выбегали они на его щеки где попало; греческий нос его (он любил называть свой горбатый нос греческим) постоянно был украшен небольшим, но тесным семейством маленьких волосков необычайной белизны и тонкости; Хлыщов боялся их трогать, чтоб не наделать хуже, и благодарил судьбу, что они еще белые; не так милостиво поступал он с черными, коренастыми волосами, лезшими из самого носа такими пучками, что, не тронь он их ножницами, из них в короткое время вышло бы престранное дополнение к усам; уши его, по выражению одного остряка, зарастали так, что он по временам лишался всякой способности ценить оперу, отчего и предпочитал ей цыган. Голова в незавитом состоянии напоминала сноп, скомканный и перевернутый шаловливыми ребятишками, и волосы на ней, особенно сзади, росли так низко, что Хлыщов пришел к необходимости подбривать свой затылок, подобно кучерам, делающим то же из франтовства. Объяснив, почему затылок нашего героя был подбрит, приступаем к окончанию обстоятельной описи его наряда. Оно будет коротко: не упомянуто выше только о сапогах, которые были новы и немножко поскрипывали, – обстоятельство, глубоко огорчавшее нашего героя. Он был но чужд прогресса, и с того самого дня, как прочел в модах одного журнала, что сапоги со скрыпом перешли в достояние франтов дурного тона, Хлыщов возненавидел скрып, которым в течение одиннадцати лет самодовольно оглашал гостиные своих знакомых, следуя мнимой моде. И теперь каждый раз, как сапоги его, до крайней степени ссохшиеся в дороге, издавали звук, наполнявший некогда сердце его гордым удовольствием, герой наш содрогался!








