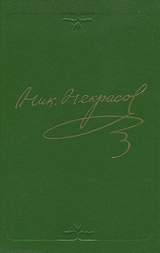
Текст книги "Том 7. Художественная проза 1840-1855"
Автор книги: Николай Некрасов
сообщить о нарушении
Текущая страница: 29 (всего у книги 43 страниц)
«Впрочем, здесь не Петербург; может быть, оно даже и лучше», – наконец подумал он с полным убеждением, привыкнув, подобно всем счастливцам, толковать в свою пользу хорошую сторону предмета мимо десяти дурных, и, подумав так, он протянул руку к духам.
Надушился он так, что Прометей, как ни любил своего хозяина, не мог оставаться в одной с ним комнате и, расчихавшись, убежал в прихожую.
– Не твоему собачьему носу нюхать такие духи! – рассмеявшись прокричал вслед его Хлыщов и подошел к зеркалу.
Он был уже совершенно готов, даже перчатки, чистейшего лимонного цвета, были надеты, и подходил он теперь к зеркалу с таким же чувством, как художник, окончив любимую картину, выбирает лучшую точку, чтоб обнять эффект целого.
– Еще подумают, что пьянствовал в дорого, – пробормотал Хлыщов, с неприятным чувством всматриваясь в красноту своего носа (увы! никакие старания не могли уничтожить его), и вздохнул. – Но я сделал всё, что мог… не отрезать же мне его?.. видно, уж такая судьба!
Всего более бесило его то, что у Мартына, подвергнувшегося тем же самым влияниям, нос был нисколько но красен.
«А еще ехал, шут, впереди!» – думал Хлыщов, вздергивая плечами в горьком недоумении.
– Мартын! Ты пил дорогой? – спросил он вдруг.
– Как же-с! Да вот еще на той станции… как бишь ее? вот и забыл! квас такой важный!
– Да нет… не квас! вино пил?
Мартын подумал и произнес:
– Виноват-с.
– Не в том дело. И много пил?
– Как можно-с!
– Ну а как?
– Пил-с.
– Да много ли! Каждый день?
– Каждый… Нельзя-с: ночи такие холодные…
– Как! и по ночам пил? – воскликнул Хлыщов и снова пожал плечами, сделав гримасу, которую вместе с движением плеч можно было перевесть так: «Вот поди и спрашивай справедливости у судьбы!»
Объяснив обидную шутку судьбы особенной нежностью своей благородной кожи (чем значительно утешилась его щекотливая гордость), Хлыщов величественно облекся в синий плащ с бархатными отворотами, изобретенный исключительно для таких гигантов, и вышел.
Был час четвертый. Насидевшись вдоволь дорогой, герой наш чувствовал сильную потребность пройтись, и как времени до обеда оставалось еще довольно, то он и отверг решительно многочисленные предложения извозчиков, величавших его графским сиятельством. Конечно, такая грубая и пошлая лесть не могла ему нравиться; но как она служила новым доказательством некоторых собственных его заключений, сделанных перед зеркалом в почтовой карете, то и не осталась вовсе без его внимания: «Ведь не всех же и они величают графами! – думал он, драпируясь своим плащом. – Иной хоть тысячу прокатай им, а больше вашего благородия не дождется!»
В самом веселом расположении проходил он но узким кирпичным тротуарам, попирая их с особенной силой, в надежде, что сапоги авось выскрыпятся и будут вести себя в гостиной будущего тестя прилично.
Нет сомнения, что веселость его, говоря цветистым слогом, была бы еще безоблачнее, если б не зеркальные стекла некоторых магазинов, заглянув в которые он тотчас отворачивался с неприятной гримасой и даже иногда испускал глубокий вздох.
Ничто не могло равняться презрению, с которым осматривал он проходящих, особенно тех, в которых замечал претензию на щегольство.
«В Москве еще носят бирюзовые запонки, – думал он, преследуя сатирическим взором предмет своих наблюдений, – а вот… ха! ха! ха! белые перчатки, шляпа, фрак и – фуражка! в столичном городе в фуражке!.. А вот… ну, отличился, отличился! пальто с иголочки, сапоги лакированные – и сережка в ухе… ха! ха! ха!.. Эх, Москва, Москва! матушка Москва, золотые маковки! Далеко тебе до Петербурга… Тише, ты, ротозей! не видишь!!!» – Последнее восклицание, произнесенное весьма резко и грозно, относилось к дюжему парию, тащившему на голове лоток вареных груш и чуть не окатившему их сыропом нашего героя.
– А ты сторонись, не видишь – с лотком иду! – прокричал разносчик.
– Ах ты, ах ты… – сердито возразил Хлыщов, и голоса у него не хватило. Честь его была глубоко оскорблена, он хотел догнать дерзкого и спросить, знает ли он, кому осмеливается грубить, как всегда делывал в подобных случаях; но вдруг рука его коснулась плаща, и он побледнел. Струи грязной жидкости бежали по бархатным отворотам и некоторые обнаруживали дерзкое намерение пробраться под плащ. Пока Хлыщов предупреждал их порывы, разносчик исчез. В то же время над головой Хлыщова послышался бойкий и довольно приятный женский смех.
Сдержав резкие выражения, которые готов был послать разносчику, Хлыщов поднял голову. Он находился против весьма длинного и грязного двухэтажного дома, во всю длину которого тянулась вывеска такого содержания: «Дирлинг и К о, красильщиков и пятновыводчиков из Парижа». В растворенном окно над вывеской виднелась женская головка замечательной красоты; рот незнакомки был полураскрыт, причем во всем блеске выказывался ряд ровных и беленьких зубов; живые глаза с детским любопытством у участием, даже больше – с любовью, устремлены были на Хлыщова. Хлыщов улыбнулся, показывая тем, что сам готов смеяться своему несчастию, и тотчас же убедился, что его высокий рост, важная осанка, блестящий наряд обворожили незнакомку… Нет никакого сомнения: победа совершена!
«Уж не зайти ли? – подумал он. – Тут, кажется, красильня. Будто что-нибудь выкрасить. Да ведь зачем пойдешь? Не такое время! А ну хоть бы затем, чтобы посмотреть ее вблизи да самому показаться… испытать, как, например… нос? не поразит ли ее вблизи? Может быть, я только так напрасно тревожусь».
И он уж решился было зайти; но мысль опоздать к обеду остановила его. Он ускорил шаги, повернул в соседний переулок и, взглянув на часы, взял извозчика. Через десять минут он уже всходил по лестнице, которая вела и квартиру его будущего тестя.
IV
Отрывок из письма Хлыщова к петербургскому приятелю
«…Скажу тебе, дружище, что семейство, в которое скоро должен я вступить, поистине образцовое. Отец, Степан Матвеич Раструбин, человек не слишком большой образованности, и манеры самые обыкновенные; но что и манеры, когда нет души! А у него, я тебе скажу, душа самая благородная: вообрази, за дочерью дает полтораста тысяч чистогану, да еще по смерти достанется нам до ста тысяч. Он, я тебе скажу, нажил все состояние сам – и чем же, как думаешь? пиявками! В молодости случилось ему быть в Персии; там он и высмотри, что пиявки вещь недурная. Вышел в отставку, откупил в Персии какое-то болото и завел торг, да вот теперь у него два дома и до полумиллиона чистыми! Он уже давно, разумеется, оставил эту торговлю; понимаешь, наживши такое состояние, оно как-то неловко, а говорит: продолжай торг, добил бы до миллиона. Конечно, он хорошо сделал, что перестал, а всё жаль: пиявки, пиявки, а деньги такие же! Престранный старик! Если б ты знал, как он любит пиявки! Всякую вещь ими называет. Дочь у него пиявочка, жена пиявушка, лакей Пиявкин; побранить ли кого вздумает, кричит: пиявица! От всех болезней у него одно лекарство – пиявки, и вообрази: сам ничем в жизни не лечился, кроме пиявок, – а ведь как здоров! Толстяк такой, а лицо – кровь с молоком! И к семейству своему и к знакомым беспрестанно пристает, не поставить ли пиявок; лошадям пиявки ставит, а маленькую Фифи совсем погубил: проклятые всю кровь высосали у бедной собачонки; делались, видишь ли, с ней престранные припадки: вдруг завертится, начнет бегать вокруг комнаты, кружится, кружится да наконец и упадет, ну биться; он ей и приставь сорок четыре пиявки, всю ее так улепили, что смешно было смотреть, стала вся мохнатая, точно новой шерстью обросла! Была толстая, жирная, как всегда мопсы. А как отвалились, так совсем не узнать: точно кот стала, с неделю не кормленный, и шатается. Я, признаться, сначала и порадовался: терпеть не могу никаких маленьких собачонок, особенно мопсов, – ножки короткие, ходит – переваливается, морда тупая, а шерсть так лоснится, – тьфу, противно вспомнить! Да моя бедная Варюша расплакалась: „Вы, – говорит, – папенька, ее погубили своими пиявками!“ А он только смеется. Вообрази: и меня вздумал было лечить пиявками: сделалось у меня с дороги небольшое красное пятно на носу – так, пустяки! Он и пристал: приставь да приставь я к носу пиявку, я отнекиваюсь… Только что же? Заснул я после обеда: с дороги устал (понимаешь, я у них по-домашнему), слышу шорох, и нос так страшно холодит… открыл глаза, а он тут! и пиявка в руке, уж пробовал, да счастие, не вдруг пристала! Я как вскрикну. Он, уж нечего делать, – стал извиняться; я, говорит, вам же добра желал, а впрочем, как хотите – обиделся! И чего вы боитесь, говорит, вот смотрите: взял и приставил к своему носу: каков? Беда при нем заикнуться, что нездоровится, болит что-нибудь. Умора! а, впрочем, хорошо, что он так привязан к тому, чем, можно сказать, судьбу свою упрочил, – редкая в наш век черта! И, вообрази, даже дети у него… их четверо маленьких, кроме моей Вареты. Женился он, видишь, в Персии, взял персиянку: ну, известно, черная, нос такой крупный, брови, как лес, теперь толстовата голубушка, а хороша, должно быть, была!.. Всё говорит про Персию… Даже дети такие черные, толстенькие, лоснятся, ну точно насосавшиеся пиявки; право! мне, по край ней мере, всегда так кажется. Странная игра природы! А впрочем, семейство прекрасное! Приняли они меня, братец, чудесно: старик послал шампанского. И моя Варенька чудо красоты, любит меня ужасно. Глаз с меня не спускала, да я скоро ушел: спать с дороги хотелось смертельно…; Да что! Она ли одна? Скажу тебе, братец, мне здесь тай повезло, так повезло, что не будь такое время… да жаль, не до жуировки! время не такое. А с другой стороны, ведь я в некотором смысле образ жизни готовлюсь переменить, с молодостью прощаюсь… думаю, думаю, и сам но знаю, как распорядиться. Ну, да утро вечера мудренее. Прощай, хочется спать…»
V
– Мартын! нет ли у нас чего перекрасить? – спросил на другое утро Хлыщов, просыпаясь в самом приятнейшем расположении духа и потягиваясь.
– А как же, сударь! сами ещеизволили говорить: желтый фуляр весь фаброй выпачкался…
– Ба! ба! ба! – воскликнул Хлыщов. – В самом деле! Так ты приготовь его…
Он не колебался долее. Желтый фуляр решил дело.
Часу в двенадцатом, одевшись по-вчерашнему, герой наш тем же путем отправился к невесте и скоро очутился перед домом с вывеской братьев Дирлинг и К о. Белокурая головка была тут, совершенно в том же положении, как будто она всю ночь провела у окна.
– Я к вам иду, – сказал он самым нежным и вкрадчивым полушепотом.
– Пожалуйте, – отвечала она спокойно и приветливо.
Хлыщов поднялся по лестнице. Не успел он подойти к двери с маленькой вывеской «Дирлинг и К®», как уже дверь отворилась. Хлыщов поспешил войти и заметил, что отворила ему сама хозяйка.
Он вошел в комнату довольно просторную, по стенам которой помещались высокие шкапы. Поперек тянулся прилавок, захватывавший крайнее окно, у которого, как сообразил Хлыщов, показывалась ему интересная красильщица. У другого окна стояла огромная вешалка, заваленная распоротыми платьями, салопами, сюртуками и другими принадлежностями мужской и женской одежды разных цветов и размеров; к каждой вещи приколот был булавкой ярлык с нумером. Хлыщов был поражен таким разнообразным смешением одежд и думал, что если б собрать в одну кучу их владельцев, то вышло бы не менее разнообразное и занимательное смешение лиц. Два шкапа были полураскрыты: в них висели, также каждый с своим нумером, разноцветные лоскутья сукна, ситцу, шелковых и шерстяных материй, намекавшие своей формой иногда довольно ясно, какого рода одеяния были распороты и подвергнуты перекраске и каких размеров были люди, носившие их в первоначальном виде.
– Славно у вас красят, – сказал Хлыщов, рассматривая перекрашенные лоскутья, – только долго ли держится краска?
– Как долго? – сказала хозяйка не совсем чистым русским языком, которому мы не будем подражать. – Всегда!
– Уж будто? – возразил с приятной улыбкой Хлыщов.
– Попробуйте! – отвечала хозяйка. – Что вам угодно?
– Что? – сказал Хлыщов. – Вы изволите спрашивать, что мне угодно?
Молчание.
– А вы не ждали, чтоб я к вам вошел? – продолжал он. – И если б я вошел так, без всякой причины, небось рассердились бы?
Молчание.
– Вы довольны, что я зашел? или вам всё равно?
– Всё равно, – отвечала немка.
При таком неожиданном ответе герой наш решительно подумал, что немка глупа.
– Нет! как всё равно? – поправилась она с испугом, медленно одумываясь и видимо недовольная своей оплошностью. – Мне очень приятно!
– А! – значительно произнес обрадованный Хлыщов.
– Муж бранит, что нынче совсем мало работы, – дополнила немка, – вы, верно, пришли…
– Муж? так у вас есть муж?
– Да, муж!
– А где он?
– Там, – отвечала немка, указывая пальцем в пол.
– Внизу?
– Да.
– А что он делает внизу?
– Красит.
– Так у вас там красильня?
– Мастерская, – отвечала красильщица,
– А там что? – спросил Хлыщов, указывая на дверь в соседнюю комнату.
– Там… столовая.
– А там, дальше столовой?
– Спальня, – отвечала немка.
– Н-да. Ну а там, после спальни?
– Там кухня.
– А после кухни?
– Там ничего… там лестница вниз…
– В красильню? – подхватил Хлыщов.
Ему нравились простодушные ответы и особенно замешательство красильщицы, при котором она раскрывала рот шире обыкновенного и устремляла к потолку синие большие глаза, чрезвычайно схожие с глазами самого Хлыщова, напоминавшими, как уже сказано выше, глаза большой рыбы, вытащенной на берег.
– Так у вас мало работы? – спросил он.
– Теперь мало.
– И мул? сердится?
– Очень.
– Вот я вам принес работы и принесу еще…
– Вам выкрасить или перекрасить? – с живостью перебила хозяйка.
– Перекрасить… Не то чтобы перекрасить, – поправился Хлыщов, – я перекрашенных вещей до ношу, к счастию, не имею в том нужды, а если что вымарается, отдаю человеку… А тут особенное обстоятельство: вымарался в дороге мой любимый фуляр… мне его подарили – дорога память…
Довольный последней фразой, слетевшей с языка совершенно экспромтом, по как нельзя более кстати, Хлыщов достал фуляр и показал его хозяйке.
– Можно, – сказала она. – В какую краску?
– В какую хотите.
Я предоставляю вашему вкусу и вполне уверен…
Он грациозно принагнул голову.
– Нет, уж лучше вы сами назначьте, – сказала хозяйка, – а то после…
– Ха-ха-ха! Что вы думаете?.. Разве вам случалось?.. Нет, я вам скажу… я…
– Нет, нет, нет! – возразила немка, неожиданно оживляясь. – Вот подавно тоже господин, как и вы, богатый, принес перекрасить… одну вещь… одну (она, очевидно, затруднялась в выражении)… принес и оставил перекрасить в дикую краску. Перекрасили, а он посмотрел и рассердился. Я, говорит, велел в дикую, а вы перекрасили в серую… Я серый цвет не люблю и никогда но ношу. Рассердился так! Отдайте, говорит, мне… мою вещь такую, как была… А где нам взять её, такую? Муж так сердился, бранил… всё ты, говорит: по расспросила хорошенько!
– Удивляюсь, – воскликнул Хлыщов с неподдельным негодованием, – удивляюсь, как находятся такие люди! Кажется, один пол должен бы обезоружить… Будьте спокойны, сударыня, если уж вы сами не хотите назначить, так пожалуй… Да вот чего лучше? О какой там краске у вас расписано? – заключил он, увидав пачку объявлений у конторки.
Хозяйка подала ему объявление. Хлыщов прочел:
БРАТЬЕВ ДИРЛИНГ и К о
НОВОИЗОБРЕТЕННАЯ ПРИВИЛЕГИРОВАННАЯ КРАСКА,
НЕ ЛИНЯЮЩАЯ НИ ОТ ВОДЫ, НИ ОТ СОЛНЦА
И НАВСЕГДА
СОХРАНЯЮЩАЯ СВОЙ
ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ГУСТО-ЗЕЛЕНЫЙ ЦВЕТ
С БРОНЗОВЫМ ОТЛИВОМ
– Уж будто никогда не линяет? – спросил он шутливо.
– Никогда.
– Знаю я, знаю ваши объявления! Написать всё можно – бумага терпит. А посмотришь: через недолго удивительная зеленая краска порыжеет, как вохра… Ха-ха-ха!
– Ни-ни-ни… никогда! – воскликнула немка, начиная сердиться. – Ее теперь все хвалят; каждый день котел выходит. Попробуйте, так увидите!
– Верю, верю, сударыня, – вежливо отвечал Хлыщов, – и, чтоб доказать вам, прошу выкрасить мой фуляр в вашу зеленую краску… оно хоть и не совсем идет к фуляру, но вы хвалите, и я…
Он опять грациозно принагнул голову.
Немка приняла фуляр и выдала ему нумер. Принимая его, Хлыщов осторожно пожал маленький пальчик красильщицы. Она быстро отдернула руку.
– А когда будет готов? – спросил он.
– В пятницу.
– А нельзя ли завтра?
– Нет… очень скоро.
– Хоть к вечеру?
– Погодите… я спрошу мужа.
И она хотела идти. Хлыщов остановил ее.
– Нет, зачем же? – сказал он. – Я лучше завтра наведаюсь, мне по дороге; если готов будет, так хорошо, а нет, так всё равно… Зайти?
– Пожалуйста, – отвечала она.
– Теперь прощайте. Не смет дольше утруждать вас моим, может быть, неприятным присутствием; будьте уверены, что, как бы вы ни распорядились с моим фуляром, хоть бы совсем испортили его… я… вежливость к прекрасному полу, по-моему, первый долг… Надеюсь, что вы будете смотреть на меня не как на докучного посетителя но делу, а как на доброго знакомого… так? – прибавил он тихо, устремляя на нее нежный взгляд, – так?
– Так, – отвечала она неопределенно.
– А в доказательство… позвольте пожать вашу ручку… Тут нет ничего, так делается.
И он взял ее руку и поцеловал.
– Ай! зачем? – сказала она, быстро вырывая руку.
– Ну, не сердитесь. Вы не сердитесь?
Красильщица молчала.
– Прощайте, прощайте! не смею более утруждать вас…
Он расшаркался и вышел.
«Начало недурно!» – думал он, спускаясь с лестницы.
– Прощайте! – сказал он, поравнявшись с окном, в котором уже опять появилась красильщица.
– Прощайте! приносите же еще!
– О, непременно!
И счастливый герой наш отправился к невесте.
– Вот, – думал он, – есть пословица: за двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь… Ну, не всегда!
VI
Дела Хлыщова во всех отношениях шли превосходно. Будущий тесть его, кроме пиявок, страстно любил еще делать всякого рода сюрпризы и через три дня после первого свидания совершенно неожиданно объявил Хлыщову, что дает за своею дочерью не полтораста тысяч, как пошутил сначала, а двести. «Вот шутник так шутник!» – подумал Хлыщов, радостно выслушав старика и заключая его в объятия. «Дай бог, чтоб он всегда так шутил», – и в голову Хлыщова серьезно забралась мысль, но пошутит ли старик через неделю еще тысяч хоть на двадцать пять. «Тогда, пожалуй, можно будет согласиться и пиявки поставить, отчего не потешить добряка», – думал он. Хлыщов каждый день обедал у Раструбиных, приходя часу в первом и просиживая до обеда с невестой своей и с молчаливой Поликсеной Ираклиевной (так называлась госпожа Раструбина). Его красноречивые, остроумные рассказы о Фреццолини, о Бореи (Гризи и Марио тогда еще не было в Петербурге), о Фанни Эльслер, которую он называл просто Фанни,видимо интересовали молодую девушку. Варюша спала и видела тот вожделенный день, когда, сделавшись госпожою Хлыщовой и приехав в Петербург, она появится в опере. Надо заметить, что Хлыщов в Москве прикидывался страстным меломаном итальянской музыки и с пренебрежением отзывался о цыганах. Называя себя борсистом (он действительно принадлежал к тем, которые отдавали предпочтение Бореи перед Фреццолини), яркими красками описывал он мнимые победы борсистов над фреццолинистами, к одержанию которых значительно сам содействовал (чему нетрудно было поверить, приняв в соображение массивные руки и вообще атлетическое его сложение). Все были от него в восторге, не исключая и дородной Поликсены Ираклиевны, которая вмешивалась в разговор единственно в таких случаях, где можно было ввернуть словечко касательно того, как то или другое делается, растет, приготовляется или употребляется «у нас в Персии». Хлыщов, не лишенный юмористического взгляда на людей и людские деяния, скоро подметил слабую сторону доброй старушки и в приличных случаях скромно подмигивал старику Раструбину, который открыто смеялся над своею женою, называя ее не иначе как «у-нас-в-Персии». «А что „у-нас-в-Персии“ так присмирела? – говорил он, попивая кофе. – Что ни говори, а „у-нас-в-Персии“ прекрасная женщина. Какого плову сегодня подала нам; жаль только, изюму и коринки слишком много положила». «У нас в Персии всегда так кладут», – отзывалась Поликсена Ираклиевна, начинавшая уже дремать. «Ха! ха! ха! опять – у-нас-в-Персии!» Старик добродушно смеялся. В таких разговорах и шутках, до которых старик был большой охотник, не много заботясь, как все разжившиеся веселые старики, о их достоинстве и пополняя недостаток качества количеством, – проходило незаметно два-три часа после обеда.
Часу в осьмом Хлыщов обыкновенно уходил, обещая завернуть еще попозднее.
Куда шел он? – читатель догадывается.
– А что, Мартын, нет ли у нас чего перекрасить? – почти каждый день, отправляясь со двора, спрашивал он у своего человека.
И, спустя несколько дней, значительная часть его шейных платков, косынок, шелковых рубашек (Хлыщов в дороге носил шелковые рубашки) и некоторых других вещей была перекрашена. Принимая обратно вещи, которые перекрашивались обыкновенно в темно-зеленый цвет, Мартын не мог надивиться странному направлению вкуса своего барина.
«Что, нынче мода, что ли, на зеленый цвет?» – думал он и, как человек начитанный, любивший обстоятельно обсуживать каждый предмет, погружался по поводу прихоти Хлыщова в самые отвлеченные глубокие соображения, пользуясь долгими часами одиночества. Не раз даже обращался он с разными вопросами по поводу зеленой краски к своему единственному товарищу Прометею, с которым вообще имел привычку разговаривать. Остановившись наконец на мысли, что, видно, такая мода (а он любил следовать моде, и каждая новость в костюме барина так или иначе отражалась в его собственном), он однажды на обычный вопрос барина: «Нет ли чего перекрасить?» – запинаясь отвечал:
– Нет-с, вашего уже ничего нет… а вот-с, если прикажете, моего…
– Давай, давай! – сказал Хлыщов.
– Куда прикажете-с?.. я отнесу.
– Н сам возьму.
– Много-с; куда вам!
– Ничего, ты вон поди позови извозчика и положи ему… я уж сам отдам… да много?
– Довольно-с… я в узелок связал…
– А пальто, что я намедни подарил, положил?
– Нет-с.
– Что же?
– Да будет и так. Много доволен.
– Положи и пальто. Оно всё в пятнах, лучше и его перекрасить.
– Точно, уж как же не лучше? Покорно благодарю-с.
Не слыша ног под собой, Мартын связал в узел почти всё свое платье и сдал извозчику.
«Ну, будет моей немочке радость! – подумал Хлыщов, увидав у извозчика огромный узел и садясь в дрожки. – Всё жалуется, бедненькая, что мало работы!»
Узел был сдан красильщице с приличной оговоркой, что платье принадлежит не ему, Хлыщову, а его человеку, – Хлыщов же взялся сам передать только потому, чтоб иметь предлог увидеть ее. И через несколько дней Мартын ходил весь зеленый с ног до головы, словно попугай, и был очень доволен своим модным нарядом. Надо заметить, что зеленый цвет с некоторого времени начал преобладать п в костюме самого Хлыщова, который, желая угодить своей немочке, надевал иногда перекрашенный жилет или шарф.
Как, однако ж, шли его дела? Принося вещи красильщице, он довольно долго оставался у нее, шутил, говорил любезности, и она терпеливо выносила его присутствие: скука ли летней поры, в которую редко приходили посетители, ветреность ли характера, или, наконец, действительная склонность к Хлыщову, как он думал, – только она не слишком сердилась даже тогда, когда Хлыщов целовал у ней ручку… Несколько раз приступал он уже и к решительному объяснению, не всегда так случалось, что в самую критическую минуту раздавался звонок и входил посетитель или являлась (оттуда, где, по словам красильщицы, была столовая) высокая, сухопарая фигура в полосатом халате.
– Каролина Францевна! – говорил главный подмастерье господ Дирлииг и К о, мрачно оглядывая нашего героя. – Хозяин приказал попросить рубль двадцать копеек!
Хлыщов выжидал, но подмастерье принимался перебирать вновь принесенные в краску вещи, искоса оглядывая нашего героя, пока наконец Хлыщов не убеждался, что его скоро не выживешь. Он уходил с твердым намерением в следующий раз тотчас же приступить к объяснению, не теряя времени в околичностях.
И невозможно было медлить. Шитье приданого Варюши кончено. Через два дня, именно 25 августа, назначена свадьба. В доме Раструбиных всё оживилось. Старик острит более обыкновенного, и по некоторым его таинственным намекам и отлучкам Хлыщов ясно видит, что он готовит новый сюрприз.
– Ну, «у-нас-в-Персии», – говорит Раструбин жене, – пошевеливайся! Пришла пора и тебе проснуться! А вот погоди, свадьбу сыграем, будет еще больше хлопот. Очень уж ты обсиделась… повозишься еще и с мебелью, и с сундуками своими… да! деньги деньгами, а надо им тоже и кроме денег… а нам что, старикам, всё равно.
«Уж не дом ли хочет предоставить нам? Но купчую ли проворит?» – думает Хлыщов, и сердце его наполняется сладостнейшим ощущением. И с новым жаром смеется он шуткам старика, говорит в его тоне, придумывает ему каламбуры и клянется, что сроду не встречал такого остроумного человека, что шутки Степана Матвеича всегда так оригинальны, тонки, поразительны…
– И существенны…главное – существенны, – самодовольно прибавляет старик. – Ха-ха-ха!
– О да, папенька!.. – говорит тронутым голосом Хлыщов, вспомнив неожиданную подбавку пятидесяти тысяч, и, нагибаясь, целует руку будущего своего тестя.
(Не худо заметить, что Хлыщов с самого дня помолвки называл господина Раструбина папенькой и целовал его руку.)
Далее неподвижная Поликсена Ираклиевна оживилась. Целый день она в хлопотах: то примеряет приданое дочери, то показывает его многочисленным гостьям, хлопочет, чтоб всё в доме было прибрано, вымыто, вычищено и приготовлено. Маленькие Раструбины, удачно прозванные Хлыщовым за свою толстоту и черноту насосавшимися пиявками, тоже в хлопотах. С утра до вечера прыгают и бегают они, радуясь, что старшая сестрица выходит замуж, что будет свадьба, будет музыка, будут танцы, будут конфекты…
Так как Хлыщов в глубине своего сердца более питал склонности к двумстам тысячам, чем к самой Варюше, то и неудивительно, что посреди свадебных приготовлений он не упускал и других преходящих, менее существенных, но успевших пробудить его интерес целей.
«Надо, надо проститься с молодостью!» – думал он, приближаясь утром 23 августа к красильному заведению господ Дирлинг и К®.
И он вошел в приемную красильщика. Красильщица, как всегда, была одна. Пожав ей руку, – право, которым уже давно пользовался, – он спросил:
– Что, мой кашне готов?
– Нет еще.
– Отчего же? Ведь вы обещали сегодня?.. А, а! Попались! Уж теперь не отделаетесь.
– Муж сказал, что не успел просохнуть.
– Ну, уж как хотите, я сказал, что, если не сдержите слова, я вас поцелую, и уж теперь прошу не гневаться…
И он хотел исполнить свое намерение, но она увернулась. Успев ухватить ее руку, он с жаром целовал ее.
– А когда же будет готов?
– Вечером.
– Рано ли?
– В семь часов.
– Мне нельзя: я так рано не могу быть.
– Ну так в восемь.
– И то нельзя. Можно в девять?
– Можно, приходите.
– Ну а если я приду в десять? – понизив голос, сказал он. – Мне давно хотелось с вами поговорить, – прибавил он еще тише.
– Приходите, – отвечала она тем же равнодушным голосом.
– И вы будете одни?
– Да.
– А муж?
– Он там, – указывая в пол, отвечала красильщица.
– А, там! – успокоенным тоном повторил Хлыщов. – Так можно?
– Непременно будет готов, – отвечала она.
В то же время в соседней комнате послышались шаги. Явился полосатый подмастерье с своей мрачной физиономией.
– Хозяин просит нумер семьдесят девятый, – сердито проговорил он.
– Прощайте, – переменив тон, сказал Хлыщов. – Я зайду за моею вещью или пришлю к назначенному вами времени.
Последние слова произнес он с особенным ударенном в вышел.
Отыскав вещь под нумером семьдесят девятым, красильщица молча подала ее мрачному подмастерью.
– Хоть бы ручку позволили поцеловать, – плачущим голосом проговорил он, потупляя глаза.
– Ни-ни! взял, что надо, и ступай, марш!
Но подмастерье не трогался с места.
– Больше ничего от вас не будет? – наконец спросил он уныло.
– Ничего не будет, – тем же строгим и резким тоном отвечала она.
– Небось другим позволяете…
– Что?.. иди… а то скажу… иди!..
– Каролина Францевна!.. я всё вижу… чем я такой несчастный…
– Иди, иди! – гневно перебила красильщица, топнув ложной и покраснев.
– Так вы так-то, Каролина Францевна!
– Идить, – нетерпеливо повторила красильщица. – Я не хочу слышать… я позову… И она пошла к двери.
– Уйду, уйду!.. сам уйду!.. – злобно воскликнул подмастерье. – Вижу, что нечего больше ждать, нечего! Вот вы теперь меня не жалеете, а я вас жалел, долго жалел…
– Идить! – прокричала опять немка.
– Ну уж теперь всё кончено, не пеняйте! сами не хотели выслушать… Увидите… я всё знаю…
Злоба душила его, и он ушел, произнося несвязные угрозы…
VII
Пообедав и просидев у Раструбиных до десяти часов, Хлыщов пробирался в знакомую улицу.
«Сегодня прощусь с молодостью, завтра пообделаю делишки, приготовлюсь, а там и за солидную жизнь!» – думал он, довольный и судьбою, и проведенным днем, и предстоящим свиданьем.
Было уже темно. Однако ж, подходя к заведению господ Дирлинг и К®, он тотчас узнал силуэт русой головки, рисовавшийся в крайнем окне.
«Она ждет!» – подумал он, и сердце его забилось.
– Можно? – спросил он тихо, поравнявшись с окном.
– Можно, – громко отвечала ему красильщица.
– У вас никого нет? – спросил он тихо.
– Никого, – отвечала она громко.
– Я войду.
– Пожалуйте, пожалуйте. Я нарочно ждала, готово!
Он вошел.
– А ваш муж нескоро придет? – был первый вопрос его.
– Нет, он всегда там до двенадцати часов.
Хлыщов посмотрел на часы, было половина одиннадцатого. «Медлить нечего», – подумал он.
– Вот, – сказала хозяйка, показывая ему кашне, который лоснился как новый, благодаря превосходным качествам зеленой краски господ Дирлинг и К о.
– Что кашне! – сказал Хлыщов. – Бросьте его. Когда я носил к вам всю эту дрянь, вы понимаете, что не привилегированная нелиняющая краска ваша влекла меня сюда, а ваши чудесные глазки… Уж как хотите, а вы сегодня должны поцеловать меня, – заключил он, приближаясь к ней.
– Ах, как можно!.. что вы? муж есть… Идите! уж поздно.
– Нет, уж полноте… ну к чему?
И он хотел поцеловать ее. Она вырвалась и побежала в другую комнату. Там он догнал ее, она опять вырвалась и побежала в третью комнату, он туда…
Но здесь мы должны остановиться, чтоб выразить глубокое сожаление, пробуждаемое в нас неслыханным бедствием, которое постигло нашего героя. Бедствие, так неожиданно разразившееся над его головою, как по своей страшной оригинальности, так и по своим ужасным последствиям, заслуживает самого строгого описания.
Едва герой наш успел пасть на колени перед своей красавицей и начать то красноречивое признание, которое уже давно доставляло ему постоянную умственную работу, – как вдруг откуда ни возьмись (вернее всего, из кухни, смежной с красильной) появились два человека, два гиганта – оба они были чрезвычайно высокого роста, – и стремительно кинулись к нему…








