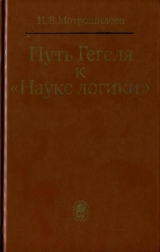
Текст книги "Путь Гегеля к «Науке логики» (Формирование принципов системности и историзма)"
Автор книги: Неля Мотрошилова
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 29 страниц)
Гегель здесь использует сопоставления с прежними структурными элементами системы «Феноменологии духа». Так, отношения мужа и жены коррелируются с отношением «признавания». И более того, они проникаются «благоговением». Правда, к бочке их медового благоговения примешивается капля дегтя: ведь их благорасположение «смешано с природным взаимоотношением и с чувством…» 6. Не лучше и «благоговение родителей перед детьми»: тут «чистоту» дела портит одно: у родителей «есть сознание о своей действительности в „ином“», проще говоря, они видят (ну не ужас ли?), что сами произвели отпрыска на свет. А вот отношения брата и сестры повергают Гегеля в умиление: они, как выражается автор «Феноменологии…», «беспримесны» 7.
Гегель не забыл об общественном предназначении семьи: «Мужчина высылается духом семьи в общественность…» 8. А женщина? Ее начало «связано с пенатами», в которых она должна «созерцать свою субстанцию», не забывая, однако, о своей «единичности» 9. Опять-таки исторически сложившиеся формы причастности мужчины и женщины к общественной деятельности возводятся во всеобщую структуру нравственного духа.
Бесспорно, что в плане задуманного Гегелем исследования нравственности и ячейка семейственности, и роль женщины в хранении пенат (роль живучая и почетная), и «высылка духом семьи» мужчины (а в последующем историческом развитии также и женщины) «в общественность» – все эти и другие темы могли быть глубоко и интересно разобраны. Они, в самом деле, образуют как в становлении человеческого рода и отдельного индивида, так и в «феноменологическом» движении сознания, важные ячейки: они способствуют созданию нравов и обычаев, благодаря которым совершается взаимообмен между «духом семьи» и «духом общественности». Но Гегель так и не сумел органично включить материал этого рода в феноменологическое исследование: он не справился ни с деталями, ни с сутью проблемы, в чем проявилась та же непродуманность общего системного начала, что в дальнейшем, как мы увидим, сказалось в отсутствии системного стержня исследования духа. В каждом подразделе или группе подразделов стержень обретается как бы вновь, и поэтому целое распадается на ряд фрагментов. Гегель поспешно переходит от семейной нравственности к следующему гештальту нравственного сознания. Видно, что семейные мужчина и женщина со всем их благоговением друг к другу так и не помогли Гегелю решить, чем же заняться дальше. Тему нравственности, которая ведь объявлена, надо продолжать, точнее, начинать, и Гегель ищет на новую роль какую-либо «пару противоположностей».
Автор даже посвящает читателя-зрителя в свое замешательство. Ему в общей форме ясно, что надо говорить о нравственности как всеобщем, как долге. Но в какой костюм ее одеть? И что нравственному (долгу) противопоставить? Страсть? Слишком заезженная тема: «Нет такой [даже] плохой драмы» 10, в которой не было бы этой коллизии. Между долгом и долгом? Такая коллизия, говорит Гегель, была бы «комична» 11. Так где же партнеры? После некоторого колебания они автором найдены. «Нравственное сознание, так как оно твердо решает в пользу одного из этих законов, есть по существу характер; существенность того и другого закона (божественного и человеческого. – Н.М.) для него не одинакова; противоположность выступает поэтому в виде несчастной коллизии долга только с бесправной действительностью» 12. По сути дела, тема предполагает рассмотрение конфликта индивида, который по каким-либо причинам не желает подчиниться «общественности», т.е. нравственности, и противостоит ей. Ну что же, тема сама по себе достойная, пусть ее стык с проблемой семьи и прошит Гегелем наскоро, что называется белыми нитками. Автор намечает в данном подразделе некоторые условия рассмотрения «отклоняющегося поведения» индивидов, причем условия существенные и реальные.
Индивиды, которым дано название «характеры», уже «самосознают», что их действие не игра, не развлечение. Ведь их сознание «потопило… в водах Стикса всякую собственную существенность и самостоятельное значение предметной действительности» 13. Независимо от того, по каким мотивам действует «характер», он должен ощутить «абсолютную сущность и абсолютную мощь» нравственности, общественности, которая так просто не даст извратить свое содержание. Но «характер» решительно идет против такой мощи. Отсюда и возникают формообразования сознания, которым суждено стать поистине бытийственными структурами: вина, преступление и т.д. Гегель во многом прав. Он с основанием связывает вину и преступление с «раздвоением» самосознания, ощущающего вину. Правда, суть раздвоения формулируется им как колебание между «божественными» и «человеческими» законами. Применительно к определенным этапам истории это верно, почему уместны тут ссылки на «Антигону» Софокла. Гегель трактует античный сюжет в том ключе, который позволяет ему сделать Антигону одним из «характеров», одним из гештальтов, поясняемых следующим образом: «Бывает, что право, которое скрывается в засаде, имеется налицо для совершающего поступки сознания не в свойственном ему облике, а лишь в себе, во внутренней вине решения и совершения поступков. Но нравственное сознание – полнее, его вина – чище, когда оно заранее знает закон и силу, против которой оно выступает, считая ее насилием и несправедливостью, нравственной случайностью, и, как Антигона, совершает преступление сознательно» 14.
В данном контексте Гегель снова пользуется сценическими образами, например для очерчивания облика гештальта нравственного самосознания: на этой стадии оно, по Гегелю, как бы подстерегается некоторой силой, которая боится света рампы, «и выступает на сцену лишь тогда, когда действие совершено, и тогда застигает это самосознание на месте действия; ибо совершенное действие есть снятая противоположность знающей самости и противостоящей ей действительности» 15. Довольно глубоко и интересно разбираются различные возможные ипостаси «несчастного конфликта» между характером и «бесправной действительностью». Одна из них – с участием правительства: последнее рассматривается как «простая душа и самость народного духа», которая зорко следит, чтобы в индивидуальности не происходило подобное раздвоение. Но основные полюсы, между которыми совершается раздвоение и которые в какой-то исторической ситуации были своего рода реальностями для индивидов, – человеческий и божественный закон, – у Гегеля целенаправленно изображаются некоторыми всеобщими абстракциями, структурами всякого самосознания. Непосредственная универсализация конкретно-исторического не проходит даром. Немедленно является и спутник этой методологической ошибки – вычурная искусственность анализа.
Поскольку речь зашла о жизненных ипостасях всеобщего конфликта, приходится говорить о каких-то реальных деталях. Почему, например, «общественность» нельзя признать правой стороной в разбираемом конфликте, нельзя счесть некоторым наместником всеобщего как истинного? Оказывается, вмешалось женское начало, эта «вечная ирония общественности»; она, «пользуясь интригой, изменяет общую цель правительства в частную…» 16. Тогда не правительство как таковое действует, а преследует свои цели «этот» индивид, стяжающий все, что можно, конечно же, на благо семьи. Короче говоря, chercher la femme… А человеческий закон, за который цепляется «характер» в своем бунте против интриганской женской общественности, – это, разумеется, мужское начало.
Рассуждения автора «Феноменологии…» здесь можно было бы принять за стилистическую игру, за чистое свидетельство его чувства юмора и принять соответственно с чувством юмора. Но нет, Гегель не шутит. У него просто нет ни другого средства объяснения выведенного им на сцену и ярко обрисованного конфликта, ни другого способа перехода к следующему ряду гештальтов. Пожаловавшись, что интригующая «женственная общественность» вообще почему-то предпочитает «силу молодости, незрелую мужественность», что всюду, особенно в военное время, чтится «храбрый юноша, к которому женственность питает чувственное влечение» 17 (какая добыча для фрейдистов!), Гегель поспешно задергивает занавес, приговаривая: «Нравственная форма духа исчезла, и на ее место вступает некоторая другая форма» 18. Догадаться, какой именно гештальт вот-вот выйдет на сцену, в общем можно, раз речь идет об общественной оценке поступков. Это будет «правовое состояние». О нем говорится наспех, причем совершается «кружение» вокруг прежних, как будто бы поднятых на новую ступень структур: стоицизма, скептицизма. Но чувствуется, что Гегель торопится перейти к тому, что и составляет для него скрытый интерес всего раздела.
И в самом деле читателя-зрителя далее ожидают едва ли не самые блестящие страницы «Феноменологии…», едва ли не самые яркие сцены феноменологического действия. Здесь системный стержень дают именно исторические ассоциации, благодаря которым типологические гештальты духа приобретают легко узнаваемые черты. Гегель осмысливает одновременно и духовные перипетии, и определенную типологию общественного сознания, поскольку оно было активным участником процесса подготовки, проведения, а отчасти и подведения первых итогов французской революции. Надо, однако, помнить, что Гегель по-прежнему ведет исследование так, чтобы исторические ассоциации присутствовали, но чтобы они не мешали пониманию структурной всеобщности рисуемых гештальтов. Короче говоря, он очень надеется, что за надетыми на гештальты французскими костюмами в стиле конца XVIII в. читатель-зритель разглядит «саму суть дела». Итак, объявлены два больших акта, условные названия которых: «Отчужденный от себя дух, образованность» и «Просвещение».
2. Конфликты разорванного общества и противоречия гегелевского историзмаПролог действия – общая констатация распада на два мира: «Первый есть мир действительности или мир самого отчуждения духа, а второй мир есть мир, который дух, поднимаясь над первым, сооружает себе в эфире чистого сознания» 19.
Скоро мы убеждаемся, что понимать эти по видимости абстрактные характеристики надо вполне конкретно. Так, в первом мире будет властвовать не какое-то примитивное вожделеющее сознание, а сознание, которое будет «вожделеть» изящно, по-французски; оно само сразу распадется на два гештальта: государственную власть и богатство, а государственная власть, в свою очередь, «составится» из «верховной власти», в роли которой выступят обобщенно вылепленные французские короли (с их самыми близкими родственниками и доверенными лицами), и «благородного сознания», в котором не представит никакого труда узнать французское дворянство, и прежде всего придворную клику. «Богатство», понятно, выступит в костюме буржуа-толстосумов. О «втором мире» пока говорить подождем – ему свое место и время. Гегель подготавливает сцену при помощи различений, где абстрактные «в себе», «для себя» и т.д. как бы уже переплетаются с толстой сумой буржуа или со шпагами дворян. Пример: «Хотя богатство есть то, что пассивно или ничтожно, оно есть равным образом всеобщая духовная сущность, столь же постоянно получающийся результат труда и действования всех, как он снова растворяется в потреблении всех. В потреблении, правда, индивидуальность становится для себя или единичной индивидуальностью, но само это потребление есть результат всеобщего действования, точно так же это богатство со своей стороны порождает всеобщий труд и потребление всех» 20.
Подобные ремарки будут иметь немалое значение в канве феноменологического действия: с их помощью автор будет разъяснять, что именно «по сути» происходит, что стоит за внешними конфликтами обрисованных гештальтов-персонажей. Так вот: само по себе «ничтожное и пассивное» богатство сильно тем, что оно связано с трудом (зависимость господского сознания от рабского, от труда раба получает тут удачную конкретизацию). Но у Гегеля богатство – правда, потому, что оно «опосредует» потребление приведением в движение труда – определяется как формообразование, стоящее на стороне «всеобщей духовной сущности». Этого не следует забывать тем, кто хочет сделать из Гегеля безусловного критика капиталистического отчуждения. Ибо автор «Феноменологии…», объявив буржуа-толстосума пассивным и ничтожным, совсем иначе оценил его роль, когда тот стал «порождать» «всеобщий труд и потребление всех». Далее разбираются своеобразные идеологии, спорящие вокруг проблемы богатства: одна утверждает, что богатство есть нечто «хорошее», есть благо, поскольку оно «стремится к всеобщему потреблению», а вторая провозглашает богатство «дурным», считает его злом, поскольку оно несет угнетение, неравенство. Гегель переходит от этих дискутирующих моралистических гештальтов к другой идеологии, при помощи которой «благородное сознание» начинает осознавать свое положение в системе государственной власти – и, конечно, оправдывает, приукрашивает свое положение.
На сцене в первый раз блеснуло золотым шитьем своего костюма «благородное сознание». Главное, однако, в том, о чем думает, что утверждает это сознание. А оно поначалу утверждает свое «равенство», свое равное право по отношению к общественной власти и богатству. Тут все просто и прозрачно: ведь в государственной власти благородное сознание имеет «свою простую сущность» (читай: это и есть власть, защищающая интересы дворян и ими порожденная), да и служит оно ей с повиновением и уважением. Богатство? Его благородное сознание признает тем, что дозволяет себе служить, и тем «поднимает до себя», уравнивает с собой. Иначе ощущает себя «низменное сознание»: оно проникнуто мыслью о своем неравенстве с «обеими существенностями» (читай: с королевско-дворянским и буржуазным сословиями), видит в верховной власти «оковы и подавление для-себя-бытия, а потому ненавидит властителя, повинуется с затаенной злобой и всегда готово к мятежу…» 21. В нескольких словах метко передана психология некоего обобщенного «третьего сословия» 22.
И снова выход благородного сознания. На этот раз появляется оно как частный гештальт беззаветного служения верховной власти, в чем оно само видит и героизм, и доблесть; у Гегеля все получается прямо-таки зрительно, объемно: «…оно есть лицо, которое отказывается от владения и наслаждения собой и совершает поступки и действительно в пользу существующей власти» 23. Нельзя, учит Гегель, недооценивать побуждений и действий столь ревностного, самозабвенного служения, благодаря ему государственная власть и является «действительной» властью. Есть и другие типы, например «гордый вассал», который действует в интересах государственной власти, но не опускается до заведомой сервильности, тем более что ему есть что сказать против власть придержащих: «Его язык, если бы дело касалось собственной воли государственной власти, воли, которая еще не возникла, представлял бы собой совет, который он давал бы для общего блага» 24.
Поставленная в ситуацию принятия решения, государственная власть, которая ненадолго выводится Гегелем на сцену, пока, как оказывается, колеблется между различными «советами», а сцена снова уступается благородному сознанию – тому, что с такой готовностью отказалось от себя вплоть до уже типичного феноменологического приема, а именно жертвования своей жизнью. Оказывается, что сознание преданных королю дворян, этих мушкетеров XVIII в., испытывает уже некоторую внутреннюю неуверенность, хотя не перестает служить согласно своему пониманию долга и чести. Оно сохраняет «собственное мнение и особую волю по отношению к государственной власти» 25. Поскольку в сервильности всегда есть ощущение неравенства по отношению к власти, Гегель, пока оставляя «благородных слуг» где-то в стороне от главного действия, предупреждает читателя, чтобы он потом ничему не удивлялся: сервильный слой «подпадает под определение низменного сознания – всегда быть готовым к бунту» 26. Уже назревает внутреннее неповиновение, уже и верные слуги готовы обратиться против господина, но на его стороне есть мощное оружие. Таким оружием Гегель объявляет… язык! Последнему далее уделяется особое внимание. На сцене феноменологии он становится как бы самостоятельным действующим лицом, своего рода маленьким божеством, которому другие действующие лица драмы приносят свои жертвы, что делает анализ интересным, глубоким, оригинальным. Это, по определению Гегеля, язык особый: на нем уже говорит отчуждение. «Будучи в мире нравственности законом и повелением, в мире действительности лишь советом, отчуждение имеет содержанием сущность и есть форма; здесь же оно получает в качестве содержания самое форму, каковая оно и есть, и приобретает значение языка: именно сила языкового выражения как такового осуществляет то, что должно быть осуществлено» 27.
Немного поиграв абстрактными терминами, поясняющими, по его мнению, эту сложную грань между «подлинным отчуждением», где форма связана с содержанием, но все-таки отличается от него, и особым, «этим» отчуждением, Гегель переходит к характеристике последнего, конкретизируя смысл своего замечания о том, что содержание становится формой, притом формой языковой. Своеобразным пояснением служит гештальт «лести». «Героизм безмолвного служения превращается в героизм лести… Вследствие этого возникает дух этой власти: быть неограниченным монархом; – неограниченным, ибо язык лести возводит власть в ее возвышенную всеобщность; этот момент как порождение языка, т.е. наличного бытия, возвышенного до духа, есть некоторое очищенное равенство себе самому; – монархом, ибо язык лести возводит точно так же единичность на ее вершину… Единичность, которая иначе есть нечто такое, что только мнится, еще определеннее возводится языком в ее налично сущую чистоту благодаря тому, что он дает монарху собственное имя, ибо только в имени отличие данного лица от всех других не мнится, а действительно всеми проводится; в имени отдельная личность считается целиком отдельной личностью уже не только в своем сознании, но и в сознании всех. Благодаря имени, следовательно, монарх решительно от всех обособлен, выделен и уединен…» 28
За завесой, которую воздвигает как бы действующий «язык лести», однако, разворачивается, согласно Гегелю, самое настоящее действие; благородное сознание, которое еще недавно в мыслях приравнивало себя государственной власти, от мыслей перешло к делу: «власть государства перешла к благородному сознанию. Только в нем государственная власть подлинно претворяется в действие…» 29. Благородное сознание перестает с завистью смотреть на денежный мешок, украшающий костюм буржуа: в складках дворянского костюма благородное сознание уже прячет тугие мешочки с золотыми экю: «оно существует как богатство» 30. Так что же, получается, что благородное сознание уравняло себя со всеми главными «сущностями» (читай: классами и социальными группами), которые вызывали у дворянина постоянную зависть – со скипетром короля и денежным мешком буржуа? В том-то и дело, что позиция и «чувства» благородного сознания глубоко противоречивы: хотя, с одной стороны, оно сохраняет «свою волю» «в своем почете», с другой стороны, и мощь своей воли, и то, что оно «обогащено благодаря государственной власти» – все это приходится прятать от «общественности» 31.
А что в это время поделывает богатство? Как ему и полагается, обогащается и находит «клиентов», чтобы обогащаться дальше. Отношение этой «пары противоположностей» Гегель считает весьма важным «рассмотреть особо», ибо они хорошо демонстрируют дух «абсолютной разорванности», охвативший «общественную совокупность». Связь богатства и его клиентуры отмечена глубокой конфликтностью: толстосумы охвачены «заносчивостью», смешанной с чувством неполноценности (нельзя упускать из виду, что в данном обществе они так же «отвержены», как и их клиенты), в то время как клиенты, вынужденные прибегать к языку лести в отношениях с богатством, таят, а порой высказывают огромнейшую к нему ненависть. Неплохо очерчена психология целого слоя – под видом типологии гештальта: «Богатство стоит прямо перед этой глубочайшей пропастью, перед этой бездонной глубиной, в которой исчезла всякая опора и субстанция; и в этой глубине оно видит только некоторую тривиальную вещь, игру своего каприза, случайность своего произвола; его дух есть полностью лишенное сущности мнение о том, что оно есть покинутая духом поверхность» 32. Вот какая психологическая атмосфера сопровождает выход на сцену феноменологии, а также одно из первых значительных самостоятельных появлений на исторической сцене – «богатства» (читай: буржуазного класса). Это потом богатство обретет самоуверенность, а пока его наглость перемешана с неуверенностью, сознанием своей отверженности, «несубстанциональности».
Показав основные маски нового акта феноменологической драмы, автор позволяет себе сделать заключение относительно характера всего действия, которое – нельзя забывать – есть пьеса о движении, развитии и о злоключениях нравственности, общественности. Снова организует исследование в систему общий стержень раздела; снова нащупана ариаднина нить, не позволяющая потеряться в лабиринте прямых исторических реминисценций. Все, что произошло и происходит с поочередно действовавшими парами противоположностей, склоняет к такому выводу: «…язык разорванности есть совершенный язык и истинный существующий дух этого мира образованности в целом» 33. Ничто не лишено значения – ни конфликты, ни язык лести, ибо все становится индикатором разорванности, свидетельством глубокого отчуждения, приобретающего множество конкретных обликов. И еще одно существенно: теряют прочный, устойчивый смысл нравственные понятия хорошего и дурного, высокого и низкого, которые традиционно связывались с делами, положением основных актеров драмы. «Сознание каждого из этих моментов, расцениваемое как сознание благородное и низменное, в своей истине точно так же составляет скорее обратное тому, чем должны быть эти определения, – благородное сознание в такой же мере низменно и отверженно, в какой отверженность превращается в благородство самой развитой свободы самосознания» 34. Итак, с точки зрения «нравственности», «общественности» царят разорванность, отчуждение. Все вроде бы безнадежно, но Гегель успокаивает читателя великой правдой некоей подспудной «истинности», которая, как ни парадоксально, пробивается из единства и борьбы всех этих «в себе» прогнивших сил. «Истинный же дух есть именно это единство абсолютно отделенных друг от друга [моментов], и при этом он достигает существования в качестве среднего термина этих лишенных самости крайних терминов именно благодаря их свободной действительности» 35.
Здесь наиболее четко, пожалуй, проступает смысл того понятия, которое играет важную конструктивную роль не только в системе феноменологии, но также во всех других будущих конкретных системных и метасистемных построениях гегелевской философии – понятие среднего термина. В нем кристаллизуются достоинства и ограниченности системной мысли Гегеля. Достоинства в том, что она глубоко диалектична, проникнута идеей сверхсубъективной закономерности. Наложенное на канву истории французской революции исследование формообразований духа предстает как целостное, упорядоченное уже тем, что объект анализа не некое хаотическое движение, а закономерная борьба противоположных социальных сил. Все проявления противоположностей – и те, где налицо резкий антагонизм, и те, где рознь затушевывается на фоне существенной общности между крайностями, – с равной мерой тщательности учитываются, фиксируются Гегелем. Но каким образом стороны, крайности, противоположности приводятся друг к другу, как различные противоречия, составленные из крайностей, но в себе образующие некоторые целостные гештальты, соотносятся друг с другом?
Для Гегеля ответ на подобные вопросы и дается введением понятия «средний термин», который оказывается незримым для самих противоположностей действием «истинного духа». Он сводит крайности, заставляет вступать их в великую борьбу, но и «следит» за тем, чтобы противоположности напрочь не истребили друг друга, чтобы не исчезли целостные, пусть и внутри разорванные образования. В соответствии с замыслами и разъяснениями самого Гегеля «средний термин» есть некая стоящая над противоположностями объективная духовная сила, сила истинного, дух развивающейся далее целостности, некоторый гарант развития, посланец субстанции, абсолютного духа. «Средний термин» Гегель, следовательно, отождествляет с некоторым всегда бодрствующим и всегда правым духом, что, разумеется, есть плод идеалистической мистификации, но за ней скрывается здравая идея: необходимо расшифровывать применительно к различным историческим эпохам переплетение линий объективного закономерного развития, обусловливающих различные формы единства и борьбы противоположностей. С гегелевской абстракцией среднего термина мы в дальнейшем еще встретимся. А пока средний термин помог Гегелю констатировать, что разорванное сообщество все еще сообщество.
В его дальнейшем развитии и целостном самосознании играет немалую роль «частное сознание» – так впервые появляется «рефлектикующий дух» (читай: сознание критически настроенных слоев французской интеллигенции, которое выражало себя по-разному, но наиболее ярко через философию и литературу). Оно не упивалось ни властью, ни богатством, но у него – этого «второго мира», образованного именно духом и созданного в собственно духовной форме, – было тоже свое упоение. Дух (Geist), богатый (reich) многими формами «честности», отстоящими друг от друга, становится прежде всего «остроумным» (geistreich – опять игра слов) и упивается своим остроумием. «Содержание речей духа о себе самом и по поводу себя есть, таким образом, извращение всех понятий и реальностей, всеобщий обман самого себя и других; и бесстыдство, с каким высказывается этот обман, именно поэтому есть величайшая истина» 36.
Эти одновременно бесстыдные и истинные (!) речи уподобляются сумасшествию музыканта, для характеристики помешательства которого – оно выражается в безумном смешении мелодий всех национальностей и всех жанров – Гегель пользуется цитатами из «Племянника Рамо», еще одного замечательного произведения, помогающего автору феноменологии создать собственную галерею портретов духа. С помощью превосходных характеристик Дидро и выводит Гегель на сцену критическое остроумие французской культуры предреволюционного периода – гештальт, по отношению к которому автор сам выступает критически и остроумно. Он припечатывает его яркой характеристикой, своего рода подписью под портретом: «Этот отдающий себе отчет хаос»… Его противоположностью Гегель делает ту совокупность гештальтов (читай: сознание той социальной силы), к которой и обращено «остроумие» хаоса – «простое сознание истины добра и зла», т.е. сознание людей, глубоко почувствовавших превращенность и извращенность других социальных сил и уже не желающих жить противонравственной нравственностью, противообщественной общественностью. Что могло предложить такому сознанию упоенное собой остроумие? Вопрос глубокий и существенный.
Гегель не скрывает противоречий и трудностей, с которыми должен был столкнуться погруженный в действительность, а не в призрачный мир остроумия индивид, носитель простого духа нравственности. Если выдвигается обоснованное как будто бы требование «уничтожения всего этого мира извращения» 37, то ведь от индивида никак нельзя требовать (потому что это неосуществимо), чтобы он удалился из мира. Не может же удаление из мира извращения означать, что «разум должен отказаться от духовного образованного сознания, которого он достиг, что он должен разросшееся богатство своих новых моментов погрузить обратно в простоту естественного чувства и снова впасть в дикость и в близость к животному сознанию, хотя бы эта природа называлась невинностью» 38, – намек на Руссо и руссоизм, а заодно на всякую возможную самую новую «Новую Элоизу» будущего… Гегель пытается быть в чем-то объективным по отношению к «остроумию», роль которого в реальных исторических событиях Франции (и возможную роль всякого столь же блестящего остроумия в другом социально-историческом мире) он не пытается отрицать.
Однако приговор немецкой философской глубокомысленности над этой французской остроумной критикой весьма суров. Она «суетна», потому что.,умея «все критиковать и поносить», не идет дальше чего-то общеизвестного («устойчивых определений, устанавливаемых суждением») 39; умея выразить «каждый момент» извращения в отношении к другому и запечатлеть всеобщее извращение, умея передать дух «несогласованности и разброда», она сама заразилась болезнью всеобщего хаоса, ибо «потеряла способность постигать его» 40. Она исповедь суетности и сама суетность, плоть от плоти того мира, который с таким жаром отвергает и критикует; это суетность и потому, что она, так сказать, исходит языком, а не страдает рождением мысли.
Блестящая критическая французская культура предреволюционного времени не случайно осуждена так сурово (правда, Гегель, шаржируя некоторое «общее» и наделяя его хорошо опознаваемыми чертами, скажем руссоизм, во всякое время мог бы сказать, что дело идет не о Руссо, не о французах, да еще посмеяться над тем, что руссоисты поспешили узнать в гештальте-шарже самих себя). Ибо у Гегеля есть очень серьезная, с его точки зрения, претензия и к «честному сознанию», упивающемуся остроумием, и ко многим другим формам саморефлектирующего Просвещения: они слишком бойко и бездумно включились в борьбу против веры.
Следующий конфликт весьма существен для «Феноменологии духа», для ее автора, который уже доказал, как важно для него осмысление судеб религии и веры, как сильны в нем надежды разработать философские теоретические предпосылки для новой, высокой и человечной религии. Религия рассмотрена в ее конфликте с Просвещением, что означает: в конфликте с самыми различными силами «общественности», почему-то (отчасти и предстоит выяснить – почему) обратившимися против церкви, религии и веры. Иными словами, Гегель дает свой вариант «критики практического разума» и одновременно свое толкование борьбы «красного и черного», снова и снова прибегая к историческим ассоциациям, порождаемым недавней революцией во Франции и первыми итогами послереволюционного времени. А они, итоги, представляются Гегелю свидетельством неуспеха попыток «здравомыслия» отстранить веру, неуспеха, которому придается смысл фундаментальной исторической судьбы.
Но посмотрим, как разворачивается действие – ведь в нем согласно всему построению этого раздела «Феноменологии…» должна принять участие не просто вера как таковая, а должны стать действующими лицами многие конкретные гештальты, в каких религиозный дух явил себя миру. Соответственно всему диалектическому рисунку произведения, каждый из гештальтов «черного цвета» появляется на сцене уже ввязавшимся в борьбу с гештальтом враждебной ему «духовности». Сначала – «выход» Просвещения. Представляющий Просвещение гештальт «чистого здравомыслия» знает веру как то, что ему – разуму и истине – противоположно 41. Вера представляется чистому здравомыслию (точнее, пониманию, усмотрению – Einsicht) простым «сплетением суеверий, предрассудков и заблуждений», толкуется им – по мнению Гегеля, наивно – как некая «общая масса сознания», тождественная царству заблуждения и простого одурачивания. У этого своего «врага» Просвещение выделяет три стороны: действия духовенства, которые подвергаются жесточайшей критике, заговор его с деспотизмом, в свою очередь презирающим духовенство и верующую толпу, и, наконец, саму эту толпу, т.е. «народ» с его «глупостью» и доверчивостью.








