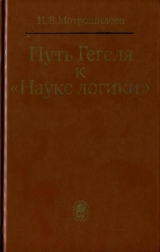
Текст книги "Путь Гегеля к «Науке логики» (Формирование принципов системности и историзма)"
Автор книги: Неля Мотрошилова
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 29 страниц)
Философ вовсе не намеревался анализировать господство и рабство как действительный социальный феномен, как более или менее определенное историческое явление. Поэтому тот, кто сначала припишет Гегелю свое собственное ожидание, что такая многосторонняя социально-историческая реальность будет, должна быть в «Феноменологии…» рассмотрена, тот будет основательно разочарован. (Отметим, что некоторые критические интерпретации данного произведения на том и строятся.)
Гегель не стремится, в частности, исследовать экономическую сторону отношений «господства и рабства». И не потому, что он не знал о ее существовании или отрицал ее важность. В феноменологическом изображении этих отношений как бы «присутствует» трудовая теория стоимости классической политэкономии – что породило целую литературу, основной дискуссионный вопрос который хорошо выражен названием одной из ранних работ Э.Ю. Соловьева: «Был ли Гегель сторонником трудовой теории стоимости?». Мы не станет сейчас вникать в этот спор. Но считать ли, как думал Г. Лукач, что влияние на Гегеля трудовой теории стоимости было значительным, или полагать, как Э. Соловьев, что ранний Гегель далек от желания следовать экономическим учениям, – и в том и в другом случаях нельзя отрицать знакомства автора «Феноменологии духа» с экономической стороной отношений господства и подчинения.
Гегель, однако, не ставил себе задачей экономическое рассмотрение проблемы потребностей, труда, отношений господства и подчинения. Вряд ли плодотворно критиковать его за то, что в «Феноменологии…» он не занимается экономическим анализом. И конечно же, глупо получается, когда Гегель становится виноватым чуть ли не в том, что он не сподобился написать «Капитал». Гегель, естественно, не мог этого сделать, но он ведь вовсе и не стремился превратить главу о господстве и рабстве в некоторый дайджест теории стоимости, в продолжение «Богатства народов» А. Смита или какого-либо другого экономического произведения.
Итак, существенно иметь в виду, что «Феноменология…» по замыслу своему не должна была выходить прямо на экономический уровень анализа. Подобное же можно сказать и в отношении конкретно-исторического рассмотрения. Будет разочарован тот, кто станет искать в разделе «Самосознание» сколько-нибудь точное изображение рабовладельческого строя, а далее – в подразделе, названном «Свобода самосознания; стоицизм, скептицизм и несчастное сознание», – достоверное описание соответствующих духовных феноменов античного мира.
Но, могут возразить нам, почему же столь тонкий знаток произведений молодого Гегеля, как Г. Лукач, так настойчиво выделял «экономически-стоимостные» аспекты «Феноменологии…», а экзистенциалисты А. Кожев и Ж. Ипполит, тоже досконально знавшие текст, заявляли, что Гегель в этом произведении изображает и сущность истории, и даже ход событий на ее отдельных этапах?
Гегель действительно не просто надеялся на исторические ассоциации, но и намеренно вызывал их в памяти читателя, подобно тому как он сознательно отсылал своего, как он мог надеяться, грамотного современника, читающего его труд, к соответствующим исследованиям экономистов. Однако для нас столь же несомненно другое: Гегель намеренно лишает раздел о господстве и рабстве (кстати, очень маленький по объему: в 4-м томе советского издания он уместился на пяти страницах) всяких конкретно-исторических опознавательных знаков. Это строго соответствовало замыслу – писать не о господстве и рабстве как отношениях людей на особом историческом этапе развития, а о всеобщих, независимых от отдельных исторических эпох структурах, отношениях самосознаний. Подчеркиваем: самосознаний, даже не индивидов, обладающих сознанием и самосознанием. Итак, очищение от непосредственного исторического и экономического рассмотрения было продиктовано не второстепенными, а именно принципиальными соображениями – здесь сама сердцевина гегелевского замысла.
Общий замысел нуждается в конкретизации применительно к особой проблематике раздела. В отношениях господства и рабства может быть выделено немало различных и весьма важных аспектов, но Гегеля в них непосредственно интересует особая сторона, определяемая исследовательской темой – «являющийся дух». Различные взаимодействия, которые возникают между знанием и сознанием, между сознанием и самосознанием, а также между самосознаниями (но все это применительно к проблеме господства и рабства), – таков, и только таков, по замыслу Гегеля, был предмет исследования в «Феноменологии духа», в разделе «Самосознание», в подразделе «Самостоятельность и несамостоятельность самосознания; господство и рабство».
Почему и как Гегель вышел на тему самосознания, мы уже видели. Отчасти было видно и то, как и почему анализ вывел Гегеля к проблеме нацеленности одного самосознания на другое – говоря гуссерлевским языком, более или менее оправданно появилась тема «интерсубъективности сознания». Но сразу же подчеркнем, что Гегель не приводит веских оправданий введения в систему «явлений духа» феномена интерсубъективности самосознаний именно в виде такого достаточно специфического гештальта, как господство и рабство. Это проблема, к которой обязательно надо будет вернуться, но уже после того, как мы будем иметь более полное представление о важнейших звеньях системной конструкции Гегеля и поймем, по какому типу они сочленяются в единую цепь.
Гегель ввел читателя в новый акт и подготовил к тому, что далее уже не некое единственное, или, лучше сказать, типологически обобщенное всеобщее сознание будет вступать в отношении то с вещью, то с знанием. И теперь эти отношения будут развертываться, но к многомерному действию добавится еще одно измерение – и столь важное для Гегеля, что оно своим светом будет как бы пронизывать все дальнейшие перипетии исследования. Это измерение – отношение сознаний «друг к другу», их «действие», «поведение»; как и раньше, оно будет разворачиваться как бы по мановению волшебной, мистифицирующей палочки, которой распоряжается автор.
В чем же мистификация? Ведь люди, одаренные волей, сознанием, действительно вступают в отношения друг с другом. Но в том-то и дело, что Гегель как бы отделяет от индивидов сознания и самосознания и превращает их в самостоятельные «субъекты». Соответствует этой мистифицирующей манере и язык произведения: «Самосознание есть для самосознания. …Тем самым для нас уже имеется налицо понятие духа. То, чтó в дальнейшем приобретает сознание, есть опыт, показывающий, чтó есть дух, эта абсолютная субстанция, которая в совершенной свободе и самостоятельности своей противоположности, т.е. различных для себя сущих самосознаний, есть единство их: „я“, которое есть „мы“, и „мы“, которое есть „я“. Лишь в самосознании как понятии духа – поворотный пункт сознания, где оно из красочной видимости чувственного посюстороннего и из пустой тьмы сверхчувственного потустороннего вступает в духовный дневной свет настоящего» 14.
На время и краешком Гегель дал появиться на сцене – «в чистом виде», в виде ослепительного «дневного света», – идеалу, с которым чем дальше, тем больше будет соотноситься движение анализа: «абсолютной субстанции». Ее появление дарует своего рода утешение – перед новым, после тьмы сверхчувственного мира, погружением во мрак. Ибо как бы для того, чтобы последующее дедуцирование «мы» из «я», «духа» из «сознания» и «самосознания» (уже традиционное для немецкой классической философии) действительно стало предпосылкой озарения «духовным дневным светом настоящего», Гегель сразу же погружает самосознание, только что проснувшееся к признанию другого «я», к признанию «мы» – погружает его в жуткую тьму «вчерашнего», захватившего и сегодняшнее, во тьму отношений господства и рабства.
Весьма важно, что опознание, «признание» одним сознанием другого сознания и самосознания – а такова общая тема подраздела – с самого начала смоделированы у Гегеля по специфическому, существовавшему длительное время социально-историческому типу отношений индивидов. Перед нами – явный случай, когда развитие системной мысли во многом стихийно прерывается вторжением своеобразной гегелевской исторической оценки, которая и далее будет вдохновлять автора на введение целого ряда звеньев, только по видимости порожденных системой. Но, снова могут возразить нам, чем же это плохо, что в абстрактное системное построение вторгается историзм? А дело-то в том, что это вторжение Гегелем не предусмотрено и, быть может, даже не замечено. Он ведь полагает, что обрисовывает всеобщую структуру феномена, гештальта признания. Каковы противоречия и последствия такого «нечаянного» историзма, мы еще увидим.
Сознание, увидевшее другое сознание, сравнительно недолго красовалось на сцене в некоем невозмутимом виде. Автор сразу же стал прорисовывать тему «потери». Что значит по Гегелю, что самосознание «удвоилось», что индивид обрел alter ego? Означает это не обретение, а потерю и тревогу: «Для самосознания есть другое самосознание, оно оказалось вовне себя. Это имеет двойное значение: во-первых, оно потеряло себя само, ибо оно обретает себя как некоторую другую сущность; во-вторых, оно тем самым сняло это другое, ибо оно и не видит другое как сущность, а себя само видит в другом» 15. Затем тема потери перерастает в мощную мелодию, которая наводит ужас своим спокойным реализмом: оказывается, противоположные самосознания «подтверждают самих себя и друг друга в борьбе не на жизнь, а на смерть» 16.
А почему именно так? Почему обретение другого обязательно оборачивается потерей себя? Почему «подтверждение себя» возможно не иначе как через смертельную угрозу другому и себе, а то и через убийство другого или доведения себя самого до смерти? Ответ Гегеля: «Они должны вступить в эту борьбу, ибо достоверность себя самих, состоящую в том, чтобы быть для себя, они должны возвысить до истины в другом и в себе самих. И только риском жизнью подтверждается свобода…» 17. Ратовавший за свободу, утверждаемую благодаря гуманным человеческим отношениям, философ теперь выписывает мрачную ситуацию борьбы самосознаний, по его мнению всегда и везде соответствующую «признанию» индивида индивидом.
Авторы некоторых интерпретаций гегелевской феноменологии связывали главу о господстве и рабстве только с рабовладельческим обществом. Но и форма, и суть феноменологического анализа – против такого сужения выражаемого Гегелем почти «космического» трагизма. Он вовсе не думает, что уродливый облик нового гештальта – уродливый для гуманистически настроенного, цивилизованного человека – история оставила где-то в прошлом. Гегель здесь вовсе не случайно удерживает анализ на абстрактно-всеобщем уровне. Философ убежден: пока и поскольку действуют, проистекая из глубин самого духа, соответствующие структуры «признания» одним индивидом другого, до тех пор и постольку сохраняются широко понятые отношения господства и рабства.
Гегель с немалыми на то основаниями зафиксировал неразрывную связь объективных предпосылок отношений господства и рабства, с одной стороны, и особой формы духовных процессов, процессов сознания и самосознания – с другой. Нет рабства, если кто-то не утверждает себя в качестве господина и кто-то другой не признает в нем господина, а в себе – раба. Разумеется, отношения господства и рабства к этому не сводятся, да ведь и Гегель не претендует на то, что в «Феноменологии…» сказано все о господстве и рабстве. Непосредственно, в соответствии с замыслом, исследуется лишь взаимодействие самосознаний.
Самостоятельность и несамостоятельность самосознания – вот первая общая проблема, которая разбирается в разделе о самосознании. Самосознание, верно констатирует Гегель, позволяет человеку обернуться на самого себя, на свое «я», но этот процесс уже неотделим от «видения самого себя в другом», от «усмотрения и признания» другого и других самосознаний. Сознание «творит» для себя мир других «я».
В такой постановке проблемы – немало реальных моментов, которые объясняют плодотворность гегелевского (а потом и гуссерлевского) феноменологического исследования «интерсубъективности». Социальные отношения людей, конечно, существуют объективно, они складываются по законам, которые не зависят от воли и сознания людей. Но в отношения-то эти вступают существа, одаренные волей, сознанием, самосознанием. Механизмы их действия таковы, что становление и функционирование общественных отношений всегда, в том числе на ранних этапах истории, должны опосредоваться осознанием и самого бытия (наличия) и характера общественных связей. Процессы осознания, в свою очередь, весьма многоаспектны, многообразны, варьируются в зависимости от различных социально-исторических обстоятельств. Но есть в них, видимо, формы осознания, которые постоянно должны приводиться в действие, в том числе и «за спиной» непосредственного актуального осознавания, ибо без них общение индивидов не состоится.
Таков, собственно, предмет гегелевского (отчасти и гуссерлевского) исследования интерсубъективных структур сознания, исследования достаточно важного, в истории философии по существу впервые так глубоко и масштабно развернутого именно в «Феноменологии духа». Структуры тут исследуются весьма интересные и тонкие – учтем только, что главное о них сказано Гегелем еще до раздела о господстве и рабстве.
Видя другого, сознание в форме самосознания сначала видит в нем себя самого, стремится «снять» это свое «инобытие», снять и самого себя. В первом беспокойстве, метании самосознания между собой и другим верх одерживает самость «я»: «…благодаря этому снятию самосознание получает обратно себя само» 18; едва коснувшись другого, самосознание в форме «я» оставило – пока! – другое самосознание свободным. На сцене феноменологии, стало быть, уже расположились два самосознания (в ближайшей перспективе можно ожидать введения в действие бесконечно многих самосознаний). «Возвращение в себя» для каждого из них наполнено уже двойным смыслом. (В русском переводе употреблено носящее уничижительный оттенок русское слово «двусмысленный», например «двусмысленное возвращение в самого себя» 19. Вернее было бы сказать, что «возвращение в самого себя» имеет двойной смысл.) Возврат к себе и в себя таков, что другое самосознание уже нельзя сбросить со счетов, хотя освоение сознанием структуры alter ego только началось и ему еще предстоит длительное и сложное движение.
Теперь на сцене два самосознания. Рефлектируя над совершившимся, каким бы ни был еще неполным результат, «мы» видим: первое сознание, первоначально обретя другое, совершило самостоятельное действование. Почему же действование, если это может быть просто акт некоего усмотрения, духовного созерцания? Нельзя, однако, забывать, с чего началось «признание» самосознанием другого «я» – оно ведь началось с отношения первого «я» к предмету, с вожделения и его удовлетворения.
Гегель во многом верно рисует ситуацию взаимодействия самосознаний как обязательно опосредованного какой-либо предметностью (момент, который счел необходимым учесть и Гуссерль в теории интенциональности). Два «актера» – знающие друг о друге самосознания – натолкнулись друг на друга, когда первое самосознание овладело предметом, а второе, вероятно, тоже проделало или захотело проделать подобную же процедуру. Спор вокруг овладения предметом вот-вот возникнет: он уже предопределен предшествующим рассмотрением вещной формы реализации деятельности сознания. Для Гегеля такой ход мысли естествен: он соответствует фактам и смыслу человеческого действия, почему клеточкой рассмотрения сознания и самосознания, да и всего являющегося духа с самого начала «Феноменологии…» стало именно вещное, предметное действие. Для понимания и точной критики феноменологии Гегеля следует объективно учесть и этот тонкий момент. Особенность гегелевского идеализма состояла вовсе не в том, что автор «Феноменологии…» пытался говорить о каком-то внепредметном сознании; напротив, предметность, и именно в форме вещности, стала исходным пунктом, клеточкой рассмотрения самосознающего являющегося духа. Но одновременно были сделаны два допущения.
Первое: рассмотрение духа как «проявляющегося» и «действующего» было связано с противоречивой, даже парадоксальной процедурой «рассубъективизации» духа, его объективизации и превращения в единственный источник всего развития, в демиурга всех миров. Соответственно вырабатывается причудливый язык, объединяющий приемы онтологизации духа, его превращения в суть, субстанцию всего и вся – и одновременной его персонализации, наделения его антропоморфными характеристиками воли, сознания, самосознания. В «Феноменологии духа» персонализируются, как бы отделяясь от индивида, сознание и самосознание, причем абсолютная субстанция скорее незримо присутствует, чем сама действует. В дальнейшем Гегель внесет в идеалистическую модель духовного существенные изменения. Наделение же сознания и самосознания некоей самостоятельной способностью «действовать» – ясно видная в тексте «Феноменологии…» первоначальная тайна последующего гегелевского идеализма. За реальность, однако, здесь принимается объективная по своему характеру, т.е. глубоко укорененная в структуре духовной деятельности видимость: продукты и процессы сознания во многих формах, процессах человеческой деятельности действуют как бы самостоятельно, как бы «за спиной» отдельного сознания, образуют как бы самостоятельный мир духа.
Второе: Гегель искажает отношения самосознаний, а стало быть, отношения людей. Они предстают у Гегеля как изначально и обязательно опосредованные вещно-отчужденной формой. Таким образом, исток гегелевского идеализма мы усматриваем, как это ни покажется необычным, не в том, что он недооценил предметно-вещную сторону человеческого действия, а в том, что он на первых порах универсализировал ее: ведь модель вещного отчуждения, модель «смерти» вещи, ее «простой негации» как бы переносилась на отношения людей, на структуры сознания, самосознания. Отношение к отчужденной вещи (попытка утвердить свое господство над ней, а с помощью вещи над другим индивидом) стало моделью, которую Гегель делает всеобщей при изображении отношения самосознаний. Структуре, которая возводится во всеобщую для сознания и самосознания клеточку их дальнейшего развертывания, Гегель придает вид такой схемы: едва разглядев друг друга, самосознания уже поставлены в непримиримую ситуацию спора вокруг вещи; они находятся в неравном отношении к вещи, ergo: один есть господин, другой – раб.
Гегель при этом выделяет в процессах самосознания два структурных аспекта: 1) «…первое (самосознание. – Н.М.) имеет предмет перед собой не так, как он прежде всего имеется только для вожделения, а имеет некоторый в себе сущий самостоятельный предмет, над которым оно поэтому не имеет для себя никакой власти, если он в самом себе не делает то, что оно делает в нем»; 2) каждое сознание видит другое, «видит, что другое делает то же, что оно делает; каждое само делает то, чего оно требует от другого, и делает поэтому то, что оно делает также лишь постольку, поскольку другое делает то же; одностороннее действование было бы тщетно, ибо то, что должно произойти, может быть осуществлено только обоими». Действование по отношению к предмету теперь опосредовано, заключает Гегель, отношением самосознаний друг к другу, а именно их взаимным признанием и признанием этого признания: «Они признают себя признающими друг друга» 20.
Констатация верная и глубокая. Разговор как будто бы идет об отвлеченных структурах сознания, которые ни одному, ни другому гештальту не должны доставлять беспокойства. Гештальт «признания» – он уже обсуждался нами ранее, в связи с предшествующими йенскими работами Гегеля, где и был заготовлен впрок – столь же интересен, важен, реален, сколь и, казалось бы, всеобщ. Но структура сознания, добытая на прежних этапах обобщенного феноменологического рассуждения, сразу же облекается плотью антагонизма, плотью вещного фетишизма, через который теперь только и просматриваются человеческие отношения. Факт взаимозависимости, взаимопризнания индивидов немедленно получает у Гегеля особое выражение: «То, чтó есть для него (самосознания. – Н.М.) другое, есть в качестве предмета несущественного, отличающегося характером негативного. Но другое есть также некоторое самосознание; выступает индивид против индивида» 21.
«Это проявление (действия самосознания. – Н.М.) есть двойное действование: действование другого и действование, исходящее от самого себя», – пишет Гегель. Что же, с такой констатацией взаимности действия или взаимодействия как дальнейшим системным развитием феномена признания вполне можно согласиться. Но у Гегеля сразу же следует: «Поскольку это есть действование другого, каждый идет на смерть другого. Но тут имеется налицо и второе действование – действование, исходящее от самого себя, ибо первое заключает в себе риск собственной жизнью. Отношение обоих самосознаний, следовательно, определено таким образом, что они подтверждают самих себя и друг друга в борьбе не на жизнь, а на смерть» 22.
Логика всей конструкции так преподносится Гегелем: «Индивид, который не рисковал жизнью, может быть, конечно, признан личностью, но истины этой признанности как некоторого самостоятельного самосознания он не достиг. Каждое должно в такой же мере идти на смерть другого, в какой оно рискует своей жизнью, ибо другое для него не имеет большего значения, чем оно само; его сущность проявляется для него как нечто другое, оно – вовне себя…» 23. Вот итог, к которому привело на стадии самосознания выхождение вовне и утверждение сознанием самого себя: неизбежность взаимного уничтожения и самоуничтожения сознаний, их война не на жизнь, а на смерть. Есть ли в этих гегелевских гештальтах своя правда, чему соответствует «игра сил», на новом уровне охватывающая сознание?
Модель признания у Гегеля фактически имеет следующий вид: индивид (или общественные группы) действуют только с позиции силы, а сила проявляется в постоянном бряцании смертельной угрозой. Думается, что начертанный Гегелем гештальт «признания через риск жизнью» в общем и целом соответствует наиболее экстремальным историческим и индивидуальным ситуациям и что тип исследования Гегеля из общесистемного здесь то и дело становится ситуационным, своего рода историко-психологическим типологическим анализом. Но хотелось бы снова подчеркнуть: Гегель не только не стремился к столь конкретному историческому эффекту; он полагал – как и раньше, так и после в «Феноменологии…», – что ведет речь о всеобщем. Такой непреднамеренный результат – схематическое изображение пограничных, чреватых смертью ситуаций – сделал это произведение излюбленным объектом внимания экзистенциалистских историков философии.
Гегель намеренно нагнетал такой психологический мрак в картине драмы, где на сцене появился феномен взаимопризнания. И он не случайно именно здесь создал метафизическую завесу, жонглируя квазидиалектическими оборотами вроде: «из игры смены исчезает существенный момент – момент разложения на крайние термины противоположных определенностей – и средний термин смыкается в некоторое мертвое единство, которое разлагается на мертвые, лишь сущие, не противоположные крайние термины…» 24. Гегелю нужно было ввести на сцену гештальты господства и рабства, а их история давно пометила мрачными, кровавыми знаками. Однако почему они должны были «родиться» из феноменов взаимопризнания? Из самой раскладки системы это не вполне ясно. Только, пожалуй, «смертоубийственный» и «саможертвенный» облик, который придан гештальту взаимопризнания самосознаний, становится неким предсказующим символом, возвещающим о неизбежном углублении, универсализации антагонизма самосознания. Да остается еще вещность: не будем забывать, что предмет не принадлежит самому вожделеющему самосознанию.
Гегель, впрочем не особенно затрудняет себя органичным выведением новой структуры, новых гештальтов. Они появились, и все тут. Остается возвестить: «Господин есть сознание, сущее для себя, но уже не одно лишь понятие сознания, а сущее для себя сознание, которое опосредствовано с собой другим сознанием, а именно таким, к сущности которого относится то, что оно синтезировано с самостоятельным бытием или с вещностью вообще… Господин относится к рабу через посредство самостоятельного бытия, ибо оно-то и держит раба; это – его цепь, от которой он не мог абстрагироваться в борьбе, и потому оказалось, что он, будучи несамостоятельным, имеет свою самостоятельность в вещности» 25.
Рассмотрение диалектики господского и рабского сознания в «Феноменологии…» обыкновенно относят к числу выдающихся теоретических достижений Гегеля. Мы не претендуем на пересмотр этого суждения в целом. Однако думаем, что следует внимательнее присмотреться к тому, какие действительно новые диалектико-системные моменты здесь внесены – новые и по сравнению с предшествующим текстом «Феноменологии…», и по сравнению с другими идейными феноменами гегелевского времени, где отношения господства и подчинения были предметом анализа. И еще: очень важно выяснить, каково в действительности, в целом отношение Гегеля к той стороне противоречия, которая названа им широко толкуемым словом «рабство». Это, увы, не всегда делается.
Каковы же теоретические результаты анализа господства и рабства? При ответе на этот вопрос не всегда учитывается, что характеристики признающих друг друга самосознаний были введены в предшествующих сценах и мизансценах. Теперь они «примериваются» на новую пару гештальтов. Раньше, как мы видели, Гегель показал, что отношение самосознаний друг к другу опосредовано вещью; они соотносятся с собой через «другое». Это буквально повторяется по отношению к господскому и рабскому сознаниям: господин относится к вещи при помощи раба; раб относится к вещи негативно, «снимает» ее, а это и есть «бытие», над которым властвует господин. Раб не может «расправиться» с вещью. Причина проста: над вещью он «не имеет никакой власти» (теперь отчуждение от вещи приобрело более конкретный смысл), ибо вещь принадлежит господину. Раб только обрабатывает вещь. А вот господин, владея вещью, может удариться в потребительский разгул, дать волю вожделению: «Напротив того, для господина непосредственное отношение становится благодаря этому опосредствованию чистой негацией вещи или потреблением; то, чтó не удавалось вожделению, ему удается – расправиться с ней и найти свое удовлетворение в потреблении» 26.
Элементарная структура отношения эксплуатации и подчинения в материально-экономической сфере (и отнюдь не только рабовладельческого общества) зафиксирована тут правильно. Потребление вещи собственником, эксплуататором невозможно, пока эксплуатируемый не обработает вещь, поэтому господин действительно соотносится с вещью через посредство раба. Господину, в самом деле, открыты возможности удовлетворения своих вожделений. В гегелевском тексте нашла свое отражение структура, довольно ясная на уровне здравого смысла. Но во всяком случае она совершенно недвусмысленно была артикулирована классической политической экономией, причем «вещное опосредование» было особенно заострено из-за присущего экономическому мышлению товарного фетишизма. Гегель не вносит в артикуляцию этих структур новое социально-экономическое содержание, что, впрочем, и не является в «Феноменологии…» исследовательской задачей. Но вносится ли что-то новое в понимание отношений самосознаний?
Мы полагаем, вряд ли. Ибо взаимозависимость господина и раба раньше уже была и раскрыта, и скрыта, ибо была сведена к взаимозависимости двух сознаний. А больше пока ничего не сказано. Восторгаются, например, гегелевской фразой: «истина самостоятельного сознания есть рабское сознание» 27, но забывают, что, согласно стилистике «Феноменологии…», это всего лишь утверждение зависимости господского сознания от рабского, «прозрение» им своей зависимости, т.е. еще раз повторяющаяся знакомая мелодия. Относительно новый момент – тема страха: Гегель поясняет, что характеристикой рабского сознания является особый страх – это место в «Феноменологии…» особенно любят экзистенциалисты: «А именно, это сознание испытывало страх (в оригинале Angst. – Н.М.) не по тому или иному поводу, не в тот или иной момент, а за все свое существо, ибо оно ощущало страх смерти (в оригинале: Furcht des Todes. – Н.М.), абсолютного господина. Оно внутренне растворилось в этом страхе, оно все затрепетало внутри себя самого, и все незыблемое в нем содрогнулось» 28. (Вот где уже различались «Angst» и «Furcht».)
Какова же теперь расстановка сил в конфликтном противостоянии самосознаний? На стороне господина: удовлетворенное вожделение, владение вещью, т.е. почти все элементы «самостоятельности», за исключением того, что с вещью он соотносится при помощи раба. На стороне раба: отчуждение от вещи, неудовлетворенное вожделение, космический страх – «Furcht», сотрясающий все его существо. И вот на противостояние двух гештальтов направляется авторско-режиссерским вмешательством «луч света», и общий колорит картины меняется 29. Просветление колорита всего сценического действия возвещает о появлении новой темы – гештальта под названием «труд» (die Arbeit). И поскольку труд, бесспорно, «на стороне» раба, растерявшееся от зависимости и страха рабское сознание как бы поднимает голову. Автор «Феноменологии…» удачно показывает, сколько преимуществ по отношению к «господину» заключает в себе зависимое, несамостоятельное рабское сознание. «В моменте, соответствующем вожделению в сознании господина, служащему сознанию казалось, что ему на долю досталась, правда, сторона несущественного соотношения с вещью, так как вещь сохраняет (behält) в этом свою самостоятельность. Вожделение удержало за собой (hat sich vorbehalten) чистую негацию предмета, а вследствие этого и беспримесное чувствование себя. Но поэтому данное удовлетворение само есть только исчезновение, ибо ему недостает предметной стороны или устойчивого существования. Труд, напротив того, есть заторможенное вожделение; задержанное (aufgehaltenes) исчезновение, другими словами, он образует» 30.
В начале XIX в. требовались прогрессивность мышления, гуманность ценностей, определенная личностная смелость, чтобы объективно признать преимущество и внутреннюю силу «рабской» позиции. И только передовой читатель мог с сочувствуем следить за подобными ремарками автора «Феноменологии…». Правда, подобный читатель, современник Гегеля, был наверняка знаком с классической политэкономической трудовой теорией стоимости. Вступление на сцену «Феноменологии…» гештальта труда и достаточно высокая оценка его роли соответствовали духу этой концепции.








