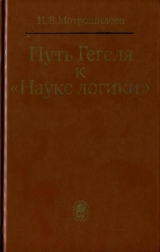
Текст книги "Путь Гегеля к «Науке логики» (Формирование принципов системности и историзма)"
Автор книги: Неля Мотрошилова
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 15 (всего у книги 29 страниц)
Рабское сознание в изображении автора «Феноменологии…» теперь состоит из двух элементов: в нем есть и унижающий, но «образующий» раба универсальный страх (Furcht), и «образующий» его труд. Гегель именно в единстве, диалектике страха и труда видит специфику рабской позиции, рабского сознания. Едва (с позиций передового мышления эпохи) уверив читателя, что рабское сознание «в силу этого обретения себя вновь благодаря себе самому… становится собственным смыслом именно в труде, в котором, казалось, заключается только чужой смысл» 31, Гегель тут же и заверяет: «Для этой рефлексии необходимы оба момента – страх и служба вообще, точно так же, как и процесс образования, и в то же время оба момента необходимы [одинаково] общо. Без дисциплины службы и повиновения страх не идет дальше формального и не простирается на сознательную действительность наличного бытия» 32.
Итак, что же остается рабскому сознанию? Трудиться, ибо труд «образовывает». Подчиняться дисциплине, нести «службу», ибо без них не подняться до подлинного страха. А страх, заклинает Гегель рабское сознание, надо испытать, более того, им должна «насквозь проникнуться» субстанция! И никуда не годится сознание, «если оно испытало не абсолютный страх, а только некоторый испуг…» 33. Гегель, таким образом, сделал страх и труд всеобщими структурами, особыми гештальтами, характеризующими и «взаимопризнание» самосознаний, и специфику «подчиненного, рабского» сознания. Путь последнего к осознанию своей самостоятельности пролегает, по Гегелю, через уяснение значимости труда и через переживание «космического» страха.
3. Злоключения стоицизма, скептицизма, «несчастного сознания» и противоречия гегелевского историзмаФокус феноменологического действия затем перемещается на господское сознание. Что же делает оно, в то время как сознание рабское «образуется» трудом и страхом? Казалось бы, что ему делать, как не вожделеть и не удовлетворять вожделение, предаваясь разгулу с размахом римских патрициев? Кстати, на гештальты духа, выступающие далее в разделе о самосознании – стоицизм, скептицизм, Гегель надевает именно тогу свободного римлянина, а несчастное сознание обряжает в лохмотья подданного римских провинций, что, однако, по замыслу автора, не должно мешать зрителю видеть за рамки античности выходящую значимость стоически-скептических треволнений самосознания и неизбывность его «несчастных» состояний.
Пока рабское сознание трудится, господское сознание, если оно устало от потребления или не имеет к нему интереса, может заняться чем-то другим. Чем же именно? Да, конечно, мышлением. Но когда к мышлению переходят от только что описанной ситуации конфликтного противостояния господства – рабства, когда сознание говорит себе: «в мышлении я свободно…» 34, а само бросается в мышление, как в забвение, забвение своей зависимости и от вещи, и от рабского сознания, тогда самостоятельность, свобода, мышление приобретают особую форму. Новый гештальт – это «стоицизм». «Эта (в переводе ошибочно напечатано „это“. – Н.М.) свобода самосознания, когда она выступила в истории духа как сознающее себя явление, была названа, как известно, стоицизмом. Его принцип состоит в том, что сознание есть мыслящая сущность и нечто обладает для него существенностью, или истинно и хорошо для него, лишь когда сознание ведет себя в нем как мыслящая сущность» 35. Принцип нового гештальта – вот что, в самом деле, важно для Гегеля, а состоит он в уходе от противоположения господства и рабства, в погружении самосознания в самого себя и в свое мышление. «…На троне, так и в цепях, во всякой зависимости своего единичного наличного бытия оно свободно и сохраняет за собой ту невозмутимость, которая из движения наличного бытия, из действования так же, как из испытывания действий, постоянно удаляется в простую существенность мысли» 36.
Как бы эта констатация ни была важна для Гегеля, изображение гештальта не прибавляет к знанию о стоицизме ничего, чего не было бы в учебниках истории и истории философии. Гораздо интереснее то, что это изображение у Гегеля подверстано к еще не оконченному конфликту господского и рабского сознаний, к теме труда и проблеме свободы. Благодаря этому школьный образ стоицизма включается в действительно интересный контекст. Если по отношению к чисто феноменологическому действию, т.е. к выявлению форм и структур сознания, тут мало что происходит интересного, то для связывания исторически данных феноменов стоицизма (где бы и когда бы он ни возникал или ни возрождался) с проблемой господства – рабства, с проблемой борьбы за свободу – для такого анализа в жанре социологии познания «Феноменология духа» дает немало ценного. Глубоки и обоснованны, например, характеристики стоицизма, а затем и скептицизма как существенных для цивилизации и в то же время иллюзорных способов обретения свободы. «Своенравие есть свобода, которая утверждается за единичностью и остается внутри рабства, тогда как стоицизм есть свобода, которая всегда исходит непосредственно из себя и уходит обратно в чистую всеобщность мысли и которая как всеобщая форма мирового духа могла выступить только в эпоху всеобщего страха и рабства, но и всеобщего образования (Bildung), поднявшего процесс формирования (das Bilden) до мышления» 37.
Подчеркнем, свобода, трудно и постепенно обретаемая сознанием и самосознанием, – вот лейтмотив «Феноменологии духа». И скептицизм – более «высокий» гештальт, чем стоицизм, именно потому что в нем уже обнаруживается: само сознание (как особое само-сознание) сообщило себе свободу, сохранило ее для себя. Но оба гештальта – формы мятущегося сознания, которое занимается «бессознательной болтовней», переходит от погружения в мышление, несущее забвение, к беспокойному пробуждению. Пробуждаться же в гегелевском сценарии его заставляет не действительность, а само испытываемое сознанием состояние «абсолютного диалектического непокоя». Оба гештальта – стоицизм и скептицизм – с их иллюзорной претензией уйти от разорванности сознания (разорванности между господством и рабством, самостоятельностью и несамостоятельностью, свободой и подчинением, трудом и мышлением) только увеличивают хаос, нагнетают тоску, несчастье. Сцена опять погружается во мрак – на ней появляется «несчастное сознание».
В подразделе о несчастном сознании гегелеведы обычно указывают на опознавательные знаки, вызывающие ассоциации с христианством – если не с фактами и обстоятельствами его появления на свет, то с некоторым его обобщенным образом. Это верно, и о некоторых гегелевских характеристиках, вызывающих исторические ассоциации, мы далее скажем. Но и тут также важно с самого начала установить, каков особый предмет исследования этого подраздела и к каким действительным результатам в конце концов приводит гегелевский анализ. Формально, внешне, как будто бы продолжается феноменологическое исследование – исследование, представляющее феномены, «проявления духа» в их всеобщей типологии и системности. На деле же якобы всеобщая системно-феноменологическая канва здесь, как и в предшествующих подразделах раздела «Самосознание», непосредственно совмещается со специфической духовной формой. Гегеля интересуют именно структуры сознания, определяющие принципы действия, признания друг друга, общения. С ними – а Гегель думает: благодаря им – появляются важнейшие элементы христианства, которые философ рассматривает здесь не как теоретическую идеологию и не как практику церкви, а в свете процессов, затрагивающих «игру самосознаний». Имеется в виду, по существу, массовое «несчастное» сознание. История христианства используется автором «Феноменологии…» фрагментарно, избирательно, иллюстративно. Ассоциации с этой историей, правда, вполне явные. Так, Гегель стремится пробудить в читателе воспоминания о хорошо известных феноменах христианства – и общих, принципиальных (например, персонифицирование бога, «проецирование» на него черт человеческого сознания и самосознания) и второстепенных, затрагивающих лишь некоторые группы людей (например, аскетизм). Но христианство берется Гегелем все же в типологическом виде. И хотя опять-таки делаются намеки на те или иные события (например, на крестовые походы), практика верования, иерархия церкви, конкретность церковного действия – все это конкретно не разбирается. Лишь некоторые, нужные автору явления включаются в изложение.
Колебания мысли между высокой обобщенностью, намеренным отвлечением от исторических деталей и внезапным как будто бы, но вполне обдуманным обращением автора к историческим ассоциациям, срезам анализа – это исследовательское противоречие, противоречие историзма всей «Феноменологии…», которое здесь проявляется весьма наглядно. Переход к «несчастному сознанию» у Гегеля достаточно искусственный, тем более что тема господства и рабства, которая здесь могла бы обрести интересное диалектическое продолжение, почти потеряна. Основной интерес философ видит в обнаружении параллелизма между способами изображения божества в христианской идеологии и «рефлектированием» сознания на самого себя, на иные сознания и самосознания. Например, в христианстве как особом веровании Гегелю важно то, что бог как бы становится символом «единичности вообще в неизменной сущности» 38 – в «Феноменологии…» раскрывается неизбежность движения самосознания к аналогичной структуре. «Но в этом движении сознание испытывает именно выступление единичности на неизменном, а неизменного – на единичности» 39. (Между прочим, не вполне понятное это «выступление (Hervortreten) единичного на неизменном», и наоборот, быть может, станет яснее, если мы снова представим себе сцену феноменологии: два гештальта «выступают», меняясь местами – сначала один попадает в фокус, тогда как другой образует для него фон…)
«Неизменная сущность», появившись в «Феноменологии духа» без достаточно глубокого системно-теоретического объяснения, вступает теперь во взаимодействие с сознанием. И с сознанием, вспомним, «несчастным». Несчастье сознания, впрочем, вызвано не какой-нибудь частной бедой: подобно «Furcht» – космическому страху раба, рождается, так сказать, социально закрепленное несчастье, несчастье неизбывное, уже необъяснимое каким-нибудь неудовлетворенным вожделением. Наоборот, сознание как бы развенчивает для себя и другого всякое вожделение. «Взор» – и тоска – сознания обращается сначала к неизменному: к духовной сущности, которая, правда, с самого начала предстает в единстве с двумя другими ипостасями – с «формой единичности, подобной ему самому», т.е. сознанию, а также с формой «чуждой сущности, осуждающей единичность» (ипостаси сознания, как бы внедряющего себя в неизменное, явно сообразованы тут с символом троицы). Но поначалу это еще не подлинное мышление о неизменном. Время пришло только для тоскующего гештальта «чистого настроения» – благоговения. Тоску его Гегель объясняет так: сознание, изображавшее неизменную сущность по аналогии с собой и другими людьми, бросается на ее поиски, хочет видеть, ощутить ее; где бы ни искали неизменную сущность таким образом, она, конечно, ускользает.
Но приходит пора и сознанию, благоговейно прикипевшему к неизменной сущности, спуститься с неба на землю: тут «несчастное сознание находит себя только вожделеющим и работающим…» 40. Далее разыгрывается новый конфликт: «мы» (вместе с автором) знаем, что в «труде и потреблении» можно дойти до «своей самостоятельности» 41, а сознание этого пока что не видит. Начинается движение «разлагающихся крайностей»: сознание, «узревшее» неизменную сущность, стыдится труда, потребления, жизни. Конечно, отмечает Гегель, в таком стыде-отчуждении есть «единство с неизменным», но оно проходит через «разорванные», т.е. изображаемые автором критически стадии – гештальты. Тут и религиозный аскетизм 42, и «опосредования» собственного действия через институт духовников, и бормотание молитв на чужом языке, и отдача «имущества, приобретенного трудом», и отказ от наслаждения путем «умерщвления плоти» 43, и другие опознавательные знаки религиозно-христианской истории, превращенные, однако, в типологически схваченные формы «несчастного» поведения.
Таким образом, в подразделе «Несчастное сознание» мы можем найти несколько замаскированные критические инвективы в адрес христианской церкви и разбор существенных, а значит, по Гегелю, неуничтожимых, объективных структур сознания. Интересный своими находками этот подраздел, однако, наиболее важен для Гегеля телеологически: на фоне цели, еще не достигнутой, христианское благоговение, «чистое» чувство, лишенное понятия, обречено быть только сознанием, притом сознанием несчастным. Оно только гештальт, станция – пусть крупная, но только станция – на общем пути духа. Она существенна как провозвестник разума.
Двойственность несчастного сознания, о которой абстрактно или более конкретно, с историческими деталями рассказывала феноменологическая драма, теперь раскрыла свой смысл: «Но для него самого действование и его действительное действование остается скудным действованием, его наслаждение – скорбью, а снятость их в положительном значении – чем-то потусторонним. Но в этом предмете, в котором для него действование и бытие его как „этого“ единичного сознания есть бытие и действование в себе, для него возникло представление о разуме, о достоверности сознания, достоверности того, что в своей единичности оно есть абсолютное в себе и есть вся реальность» 44. «Несчастье» сознания было и остается платой за его возросшую свободу, за обретаемую «самость». Раздел «Самосознание» заканчивается. Гегель переходит к следующей большой теме «Феноменологии…», которая охватывается названием «Абсолютный субъект».
Относительно своеобразного историзма мы уже показали, что Гегель, с одной стороны, намеренно не делает свой труд историческим, намеренно очищает гештальты духа от непосредственной связи с каким-нибудь одним этапом истории. С другой стороны, в «Феноменологии…» – и чем дальше, тем яснее – присутствует исторический фон. При этом сокращенное воспроизведение истории, т.е. феноменологическое ее изображение, реализуется не как историческое, а как всеобще-структурное, имеющее в виду взаимосвязь объективированных феноменов сознания. В конце своего труда Гегель сам подчеркивает: феноменология, правда, «проходит путь воспоминания» об истории. Но в отличие от собственно исторического рассмотрения духовных феноменов («со стороны их наличного бытия, являющегося в форме случайности») феноменология анализирует их «со стороны… их организации, постигнутой в понятии» 45.
Это анализ формообразований, гештальтов духа, внутренняя логика каждого из которых и логика их связи, следования друг за другом историю не воспроизводит, более того, Гегель решительно сметает всякие исторические ограничения. И то историческое, что вклинивается в понимание (в том числе и по воле Гегеля), становится скорее исторической разновидностью всеобщего типа духовных структур. Гегелевское феноменологическое исследование – попытка развернуть в теоретической системе «чистый» (неисторический) генезис особых всеобщих форм сознания, а именно форм его явленности, перерастающих в бытийственные формы. Поскольку же сознание, что понимал Гегель, есть свойство человека, а человек – существо социальное и историческое, то первая исходная посылка не могла не быть исторической. Однако даже приняв такую общую посылку, Гегель затем как бы «вынес ее за скобки», приняв, как это ни парадоксально звучит, противоположную исследовательскую установку: он нацелился на отыскание всеобщего, абсолютного в являющемся духе.
Итак, специфика феноменологического историзма состояла в стремлении осуществить на основе общих исторических предпосылок как бы вынесенное за пределы истории сущностное исследование сознания. Для становления гегелевского логицизма принципиальное значение имел как сам замысел, так и определенные противоречия в его реализации. Одно из таких противоречий состояло в ненамеренном сползании якобы всеобщего изображения на уровень исторически особенного. Как было показано, под образом всеобщего порой даются формы исторические, например формы антагонизма, войны всех против всех, рассматриваемые как самая суть феномена «признания» и т.д. Хотя Гегель стремился начертать картину всеобщих структур, в ней стали узнавать рабовладение или капиталистическое «рабство». Это, конечно, тоже можно счесть историзмом. Надо только не забывать, что такой незапланированный, нечаянный историцизм – одна из превращенных форм осмысления «превращенного мира».
В заключение анализа раздела «Самосознание» еще одно замечание. В этом разделе значительно ярче проявляется один момент «Феноменологии…», который был мало развернут в ее начальных разделах, посвященных чувственности и рассудку. Сознание, которое движется через станции духа, тут не только чувствует, мыслит, знает, рефлектирует – требуя от читателя-зрителя со-чувствия, со-знания, со-мыслия. Теперь оно также и страдает, взывая к со-страданию. К феноменологическому аспекту анализа (внутренне ли, внешне ли он проработан) присоединяется аспект, который иногда обозначают как психологический (поэтому Гегеля упрекают в психологизме) 46. Далее эта особенность гегелевского анализа получит дальнейшее развитие, и мы разберем ее подробнее, опираясь на более широкий и выразительный материал. А теперь перейдем к анализу третьего, и последнего раздела «Феноменологии…».
Примечания1Hegel G.W.F. Phänomenologie des Geistes. Hamburg, 1973, S. 68. Здесь и далее ссылки на оригинальный текст даны по этому современному изданию «Феноменологии духа», которое, следуя первому изданию 1807 г., одновременно фиксирует изменения, внесенные в издания 1832, 1841 гг. (Шульце) и коррективы, имеющиеся в 6-м издании 1952 г. (Лассон – Хоффмайстер); ср.: Гегель Г.В.Ф. Соч. М., 1959, т. 4, с. 73.
2 См.: Гегель Г.В.Ф. Соч., т. 4, с. 73 – 74.
3 Там же, с. 79.
4 Там же, с. 81.
5 Г.-Г. Гадамер написал интересную работу, где тщательно разобрал смысл и значение гегелевского понятия «превращенный», «превратный» мир, широко используемого не только в «Феноменологии…», но и в «Науке логики». См.: Gadamer H.-G. Die verkehrte Welt. – In: Materialien zu Hegels Phänomenologie des Geistes. Frankfurt a.M, 1973, S. 124 ff., 130.
6Гегель Г.В.Ф. Соч., т. 4, с. 91.
7 Там же, с. 92.
8 Там же.
9 См.: Там же, с. 93 – 94.
10 Там же, с. 95.
11 Такое мнение, например, выражает Г.-Г. Гадамер. См.: Gadamer H.-G. Op. cit., S. 106.
12Гегель Г.В.Ф. Соч., т. 4, с. 98.
13 Там же.
14 Там же, с. 98 – 99.
15 Там же.
16 Там же, с. 101.
17 Там же, с. 101 – 102.
18 Там же, с. 102.
19 Там же, с. 99.
20 Там же, с. 100.
21 Там же, с. 101.
22 Там же.
23 Там же, с. 102.
24 Там же.
25 Там же, с. 103.
26 Там же.
27 Там же, с. 104.
28Hegel G.W.F. Phänomenologie des Geistes, S. 119; cp.: Гегель Г.В.Ф. Соч., т. 4, с. 104 – 105.
29 См.: Hegel G.W.F. Phänomenologie des Geistes, S. 119.
30Гегель Г.В.Ф. Соч., т. 4, с. 105.
31 Там же, с. 106.
32 Там же.
33 Там же.
34 Там же, с. 107.
35 Там же, с. 107 – 108.
36 Там же, с. 108.
37 Там же.
38 Там же, с. 113.
39 Там же.
40 Там же, с. 117.
41 Там же, с. 118.
42 См.: Там же, с. 120.
43 См.: Там же, с. 121.
44 Там же, с. 123.
45 Там же, с. 434.
46 Проблема соотношения феноменологического и психологического подходов чрезвычайно сложна. Этой противоречивости и сложности не поняли и не приняли некоторые исследователи «Феноменологии…». Они попросту отвергли как психологизм, своеобразное вторжение жизни, человеческих страстей, психологии социальных групп, целых народов в философию, которую – не без влияния уже позднего Гегеля – они привыкли считать строгой, невозмутимой обителью «чистого мышления».
Р. Гайм, К. Фишер пытались утвердить подобную оценку «Феноменологии духа». Так, Р. Гайм писал, что она есть «психология, приведенная историей в состояние путаницы и беспорядка, и история, приведенная психологией в состояние разброда»; и эта философия, утверждает Гайм, «не может сделать того, что она должна сделать, и не является тем, чем она стремится быть» (Наут R. Hegel und seine Zeit. В., 1857, S. 243, 232).
Глава третья.
Мятущийся разум в поисках «счастья»
Мы перешли к разделу «Феноменологии духа», которому Гегель дал общее название «Абсолютный субъект» и подразделил на такие части (А. А.) Разум; (В. В.) Дух; (С. С.) Религия; (D. D.) Абсолютное знание.
Предшествующие разделы «Феноменологии духа», согласно установке Гегеля, выполнили свою основную роль: они показали, как в трудах и муках рождается «разум». Разум в его первоначальной форме только провозвестник «подлинного» разума, к которому еще должен прийти индивид. Читатель, который бы знакомился с «Феноменологией духа» после зрелых работ Гегеля (например, после «Науки логики» или I части «Энциклопедии…»), наверняка удивился бы тому, какой разум «является» на феноменологической сцене. Это не шагающий размеренной и величественной поступью логический разум, который уверен в себе, знает цену себе и всему другому, не завоеватель, которому уже известны и его победы над миром и ясна цена поражения, которую сопротивляющийся мир ему еще выплатит (он идет прямо к победе; шествие его ясно, безмятежно; противоречия сущностны, «чисты», благостны; цель – поистине божественна). А вот «разум» «Феноменологии…» беспокойный, мятущийся, лишь смутно догадывающийся о величии цели; охваченный сумятицей «поиска счастья», он ударяется то в одно, то другое деяние, которое на поверку оказывается превратностью.
Разум «Феноменологии…» ближе не к позднему гегелевскому, а к кантовскому или фихтевскому разуму. Ведь у Канта разум ставит себе цели, которых не должен ставить, неминуемо впадает в антиномии, которые сам не может разрешить. Фихтевский разум тоже лишь постепенно рождается из неразумия – он «пробивается в мир» с трудом, с великими ошибками и даже в конце концов не приводит к несомненным успехам. Сродни этим разумам гештальты, появляющиеся теперь на феноменологической сцене.
В целом же феноменологическое исследование разума оригинальное, даже, пожалуй, беспрецедентное по своему характеру, по своей особой системной и истористской логике. Но вся трудность – в определении специфики этой системной работы. Не так-то легко найти для нее определения. За какое ни возьмешься – не подходит. Исследование – это не гносеологическое и не логическое, не историческое и не социологическое. Но даже и не полностью феноменологическое, если иметь в виду тот трудно определимый синтетический жанр, с которым мы уже познакомились на примере первых двух разделов «Феноменологии духа». Легче передать его не через все эти устоявшиеся определения, а описательно, причем требуется, чтобы проникнуть в суть дела, достаточно подробное описание.
Разум в «Феноменологии духа» – это формообразование, вышедшее из недр самосознания. Он как двуликий Янус. И не случайно Гегель называет его то «разумом», то «самосознанием». Существенно то, что здесь перед нами «выступят» разные гештальты полусамосознания-полуразума, но у них будет одна общая черта. Они все будут стремиться претвориться в действительность. Подобно тому как коррелятом сознания был некоторый всеобщий индивид, пробовавший свои силы в единоборстве с вещью, как коррелятом самосознания был тот же индивид, но уже признавший других индивидов, так коррелятом разума станут самосознания, помещенные в стихию социального действия. Иногда говорят так: в первых разделах Гегель говорит об индивидуальном сознании, в разделе о разуме – об общественном. Такое различение нуждается в уточнениях, ибо и в первых разделах сознание, как мы видели, не сугубо индивидуальное, а во втором, как увидим, не только общественное. В том-то и дело, что разум в «Феноменологии…» является синонимом треволнений, опять-таки происходящих с индивидами. Но взяты они постольку, поскольку их помыслы, их действия прямо или косвенно обращены на общественную реальность.
Абстракция являющегося духа более полно, более определенно наполняется социальной плотью. Что бы ни делал разум, он не хочет замыкаться в себе, ему нужен какой-либо мир, где он стремится запечатлеть себя. Поэтому перед нами самосознание с устремлениями, деяниями, по-своему творческими, широкими, но выходящими из частного, сугубо индивидуального мирка. Если носителями разума по-прежнему являются самосознания индивидов, то это самосознания, радеющие о целом мире и на него опрокидывающие свой немалый активизм. Но в отличие от преобразующего, творческого разума логики разум феноменологии создает не только истины и не их главным образом. Опыт этих самосознаний поучителен несостоявшимися намерениями, «невоплощениями» или «недовоплощениями», которые, однако, не являются невинными пробами. Они тяжелые неудачи на пути человеческого духа в погоне за счастьем, страдания и стенания именно разума, интеллекта, «интеллигенции». Это страдания, падения, иллюзии, которые не должны быть куда-то упрятаны, как на «чистой» сцене логики. Наоборот, согласно замыслу феноменологии, разум просто обязан сделать видимыми и свой смех и свои слезы. Гештальты разума описаны у Гегеля блестяще: философская проза поднимается на уровень философско-художественной типологии, а потому с такой охотой пользуется великими творениями литературы, именно ее бессмертными «гештальтами» вроде образа Фауста. А когда соответствующий образ найти затруднительно, Гегель и сам великолепно, как мы увидим, портретирует. Галерея его портретов неразумного еще разума, бросившегося претворять себя в действительность, реформировать ее, по силе обобщения не знает равных в философской литературе. Жаль, что она так мало рассматривается именно в этом аспекте.
Самое, пожалуй, резкое противоречие данного раздела: противоречие между блестящим реализмом в портретировании авантюрных метаний «этого», т.е. несовершенного, разума, еще не знающего о стоящей на нем печати всеобщего, и идеализмом, перерастающим в конформизм, представленным позицией автора, защитника «истинного», «всеобщего» разума. С этим предуведомлением мы и перейдем к рассмотрению галереи образов разума в их системе, и тогда характеристики, которые, возможно, еще остались неясными, будут конкретизированы.
Итак, с самого начала «является» дух, который пока по-настоящему не сбросил одежду самосознания, но уже стал примеривать костюм разума. Являющемуся духу, вышедшему из недр чувственной достоверности, рассудка, самосознания, сначала гораздо естественнее и проще проявить интерес не к самому разуму, а к «его иному» – к миру. Это, правда, уже не тот мир, с которым взаимодействовали чувственная достоверность и рассудок, самосознание, а мир разума, но с существенной поправкой: «На первых порах только предчувствуя себя в действительности или зная ее лишь как „свое“ вообще, разум вступает в этом смысле в общее владение гарантированной ему собственностью и на всех высотах и во всех глубинах водружает знак своего суверенитета. Но это поверхностное „мое“ не есть его конечный интерес; радость этого общего вступления во владение наталкивается в его собственности еще на постороннее „иное“, которого нет в самóм абстрактном разуме» 1. Сначала разум выступает в виде «наблюдающего разума»: он занимается «наблюдением природы» 2, а потом «наблюдением самосознания» 3. От этих подразделов, которые мы за неимением места не можем рассматривать, Гегель переходит к следующему оригинально задуманному разделу, который назван «Претворение разумного самосознания в действительность им самим».
Гегель здесь явно коррелирует усилия разума с коллективными формами деятельности, познания, знания. Такое коррелирование и придает разуму, духу «действительность»: «В жизни народа понятие претворения в действительность разума, обладающего самосознанием, на деле имеет свою завершенную реальность – это понятие состоит в том, что разум усматривает в самостоятельности другого полное единство [его] с ним, или в том, что он имеет предметом, в качестве моего для-меня-бытия, „эту“, мною уже найденную свободную вещность некоторого другого, которая есть негативное меня самого» 4. Итак, разум претворяется в действительность. Но как именно? Дело обставляется весьма торжественно: «разум наличествует как текучая всеобщая субстанция»; он уподобляется «простой вещности», «которая рассыпается» на множество совершенно самостоятельных сущностей, подобно свету в звездах – ну чем не поэтические образы? Сам разум, продолжает Гегель, рассыпался «бесчисленными для себя сверкающими точками, которые в своем абсолютном для-себя-бытии растворены в простой самостоятельной субстанции не только в себе, но и для самих себя; они сознают, что они суть эти единичные самостоятельные сущности благодаря тому, что они жертвуют своей единичностью, и эта всеобщая субстанция есть их душа и сущность, подобно тому как это всеобщее в свою очередь есть действование их как отдельных лиц или ими созданное произведение» 5.
Благодаря тому что весь этот метафизический и поэтический разговор о «жертвующих своей единичностью» сверкающих точках – жертвующих не иначе, как с энтузиазмом, – так плотно включен в далее развиваемые темы индивида и всеобщего, индивида и народа, высвечивается связь, важная для понимания сути «абсолютного», «всеобщего разума» (далее все более затуманиваемая Гегелем и, возможно, им самим забываемая). Это связь между исходной гегелевской установкой, конформистской по природе идеей, будто бы само время скомандовало индивиду раствориться во всеобщем (вспомним Введение), и моделью разума как некоей целостной, всеобщей «текущей субстанции», влиться в которую в качестве совсем незаметного ручейка все единичное должно почитать за честь и счастье, или некоего поистине космического света, в котором просто мечтают пропасть все отдельные «сверкающие точки». И тот, кто сочтет такое толкование рождающегося гегелевского образа всевластного, вездесущего разума неправомерным переводом абстрактного размышления в социальный и моральный план, пусть еще и еще вглядится в более конкретные поясняющие гештальты.
Чисто единичные действия индивида, рассуждает Гегель, обусловлены его потребностями – ведь он есть природное существо. Благодаря народу «превращаются в действительность» потребности и функции индивида. Труд индивида – так опять возникла тема труда – направлен на удовлетворение потребностей, причем и своих и чужих. Все было бы приемлемо, если бы не завершение. «Как отдельное лицо в своей единичной работе бессознательно уже выполняет некоторую общую работу, так выполняет оно и общую работу в свою очередь как свой сознательный предмет; целое становится как целое его произведением, для которого он жертвует собою, и именно поэтому получает от него обратно себя самого» 6.








