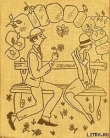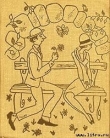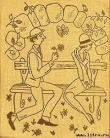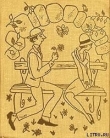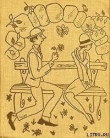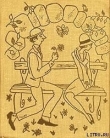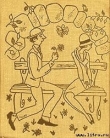Текст книги "Сборник 'Наше отечество' - Опыт политической истории (Часть 2)"
Автор книги: Автор Неизвестен
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 46 страниц)
Чтобы предотвратить развитие кризиса тоталитарной идеологии, который безусловно благоприятствовал бы планам Гитлера, требовались чрезвычайные меры. Но – ка
кие? Обратились к опыту недавно прошедших лет. Вспомнился 1937 год. Тогда положение тоже оказалось тревожным. После насилия над многомиллионным крестьянством в период коллективизации и затем организованного Сталиным голода, не было уверенности в том, как поведет себя армия, состоявшая на 70–80 процентов из крестьянских сынов. Имелась и другая причина для тревоги за армию: только что в тайниках сталинского режима оформился чудовищный по масштабам план ликвидации командного и политического состава Красной Армии и Военно-Морского Флота, заподозренного в нелояльности. Боялись армии. Не было уверенности в том, как отнесется она к погрому в своих рядах и в стране.
10 мая 1937 года, за две недели до начала массовых репрессий в армии и на флоте, был учрежден институт военных комиссаров. На работу в качестве комиссаров ЦК ВКП (б) мобилизовал большую группу коммунистов, главным образом рабочих и партийных работников. Одновременно на должности комиссаров были выдвинуты строевые командиры из числа коммунистов. Через три года и три месяца, 12 августа 1940 года, после того как погром в виде незаконных массовых репрессий удался и армия держалась смиренно, институт военных комиссаров упразднили. В указе Президиума Верховного Совета СССР по этому вопросу отмечалось, что "институт комиссаров уже выполнил свои основные задачи", что "командные кадры Красной Армии и Военно-Морского Флота за последние годы серьезно окрепли". Теперь-то мы знаем, как они "серьезно окрепли" в 1937–1940 годах.
К этому опыту обратились, когда опасность исходила от теперь уже реального, а не, как прежде, мнимого врага. В соответствии с постановлением Политбюро ЦК ВКП (б) и указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 июля 1941 года армейские и флотские органы политической пропаганды реорганизовывались в политические отделы. В полках, дивизиях, на кораблях, в штабах, военно-учебных заведениях и учреждениях Красной Армии вместо заместителя командира (начальника) по политической части вводилась должность военного комиссара, а в ротах, батареях, эскадронах – политического руководителя (политрука).
Согласно положению, утвержденному Президиумом Верховного Совета СССР, военному комиссару предоставлялись широкие полномочия. Как "представителю партии и правительства", ему поручалось "своевременно сигнали
зировать Верховному командованию и правительству о командирах и политработниках, недостойных звания командира и политработника и порочащих своим поведением честь Рабоче-Крестьянской Красной Армии". Комиссар обязан был не только "всемерно помогать командиру", но и "строго контролировать проведение в жизнь всех приказов высшего командования". Приказы по полку, дивизии, учреждению были действительны лишь в том случае, если они подписывались командиром и комиссаром. Комиссар руководил политорганами, партийными и комсомольскими организациями войсковых частей. Широкими полномочиями обладал и политрук подразделения.
Согласно утвержденному Президиумом Верховного Совета СССР положению, военные комиссары всех уровней действовали независимо от военного командования. "Политрук, – говорилось в положении, – подотчетен в своей работе комиссару полка, комиссар полка – комиссару дивизии, комиссар дивизии – Военному совету армии и Главному политическому управлению Красной Армии". Последнее, как известно, работало на правах военного отдела ЦК ВКП (б).
Одной из главных задач комиссара являлось воспитание у воинов таких качеств, как отвага, смелость, хладнокровие, инициатива, презрение к смерти и "готовность биться до победного конца против врагов нашей Родины". Такие же качества должен был проявлять и сам комиссар. "В наиболее опасные моменты боя, – говорилось в положении о военных комиссарах, – военный комиссар обязан личным примером храбрости и отваги поднять боевой дух войсковой части и добиться безусловного выполнения боевого приказа".
От комиссара требовалось "вести беспощадную борьбу с трусами, паникерами и дезертирами, насаждая твердой рукой революционный порядок и воинскую дисциплину". Чтобы "в корне пресекать всякую измену", которую Сталин, как известно, видел едва ли не всюду, военный комиссар был обязан свои действия "координировать" с органами контрразведки – особыми отделами НКВД СССР.
Введение института военных комиссаров принижало роль командиров в руководстве войсками, отражало недоверие к ним. Это, разумеется, не могло дать серьезных положительных результатов. На те почти 15 месяцев, пока существовал институт военных комиссаров приходятся самые тяжелые поражения Красной Армии ее самые
большие потери. Именно за это время противник достиг наивысших успехов на советско-германском фронте. Гитлеровские армии достигли Волги и Главного Кавказского хребта. 9 октября 1942 года институт военных комис-саров был упразднен. Как отмечалось в указе Президиума Верховного Совета СССР по этому вопросу, "полностью отпала почва для существования системы военных комиссаров. Больше того, дальнейшее существование института военных комиссаров может явиться тормозом в улучшении управления войсками, а для самих комиссаров создает ложное положение".
Раздвоение власти происходило не только в армии, но и в управлении народным хозяйством. Большой стимул этому процессу дал XVIII съезд ВКП (б), предоставивший первичным партийным организациям "производственных предприятий, в том числе совхозов, колхозов и МТС..., право контроля деятельности администрации предприятия". Окончательно же эта тенденция оформилась на XVIII партийной конференции (февраль 1941 года), которая сочла необходимым, "чтобы партийные организации систематически влезали в дела промышленных предприятий, железных дорог, пароходств и портов". Конференция постановила в центрах с развитой промышленностью иметь "не одного, а несколько секретарей горкомов, обкомов, крайкомов, ЦК компартий союзных республик по промышленности, соответственно основным отраслям промышленности, имеющимся в городе, области, крае, республике, а также там, где это нужно, секретаря по железнодорожному транспорту и секретаря по водному транспорту".
Секретари партийных комитетов по отраслям промышленности возглавили вновь созданные отраслевые отделы, в том числе по отраслям военной промышленности – танковой, авиационной, минометной, боеприпасов, вооружения. Эту систему чрезвычайных органов партийного руководства экономикой дополняли созданные в ноябре 1941 года по постановлению ЦК ВКП (б) политотделы машинно-тракторных станций (МТС) и совхозов, а также институт уполномоченных ГКО и парторгов ЦК ВКП (б) и нижестоящих партийных органов. С довоенной поры продолжали действовать политотделы на железнодорожном и водном транспорте.
Усиление партийного руководства экономикой, осуществление Советским государством разработанной ВКП (б) военно-экономической политики сыграло немалую роль
в том, что народное хозяйство СССР в целом выполнило свою основную задачу: преодолело трудности военной перестройки, увеличило производство оборонной продукции до размеров, необходимых для победы. Однако параллельное существование рядом с народными комиссариатами и местными органами Советской власти партийных структур управления народным хозяйством не избавляло от ошибок, а, напротив, являлось источником некомпетентных решений, осложнявших экономическую жизнь страны. В результате административно-командная система получила мощный импульс для своего процветания в будущем.
Широкие полномочия по управлению народным хозяйством порождали наихудшие методы партийного руководства экономической жизнью: субъективизм, волюнтаризм, формализм, компанейщину, митинговщину, а нередко и очковтирательство. В процессе принятия решений игнорировались реальные возможности предприятий, что порождало стремление выполнить план любой ценой, не считаясь с затратами ресурсов, физических и душевных сил людей. Сокрытию этих пороков служила идеология, требовавшая от трудящихся самопожертвования, которое не всегда вызывалось объективной необходимостью. Пренебрежение к человеку превратилось в норму жизни. Скудное питание, нехватка жилья и всего самого необходимого в сочетании с продолжительным рабочим днем подрывали здоровье людей.
Характерной чертой партийного руководства народным хозяйством стала демонстрация патриотической активности трудящихся. Поощрялись различные "движения", "инициативы", "почины". Особое предпочтение отдавалось "социалистическому соревнованию", которое якобы раскрывало величайшие творческие возможности рабочего класса, всех трудящихся. Пропагандировался голый энтузиазм, жертвой которого стала материальная заинтересованность работников. Все это, заслоняя реальные проблемы, рисовало картину интенсивной деятельности, показного благополучия, принижало роль специалистов, инженеров, работников науки в народном хозяйстве. Обстановка страха, царивший в стране произвол, незаконные репрессии исключали всякую возможность разоблачения мифа о подобных "преимуществах" социалистической экономики, сдерживавших рост общественного производства.
Несмотря на это, даже при таком отягчающем факторе, как потеря больших производственных мощностей
в результате оккупации советской территории в 1941 – 1942 годах, СССР выиграл экономическое противоборство с Германией и ее сателлитами. СССР произвел больше своего противника автоматов – в 4,7 раза, пулеметов – и 1,4 раза, орудий всех видов и калибров – в 1,5 раза, минометов – в 5 раз, танков и самоходно-артиллерийских установок – в 2,2 раза, боевых самолетов – в 1,1 раза.
Усилению боевой мощи СССР способствовали также поставки из США, осуществленные в соответствии с законом о ленд-лизе (официально он назывался "Акт содействия обороне США"). Помощь по ленд-лизу составила заметную часть от советского военного производства: самолетов – около 10 процентов, танков и самоходно-артиллерийских установок – 12 процентов, орудий – около 2 процентов, паровозов – 6,3 процента (от общего парка СССР). Никакому сравнению не поддается количество полученных автомобилей – 401,4 тысячи единиц. В СССР поступило 2 миллиона 599 тысяч тонн нефтепродуктов, 422 тысячи полевых телефонов, свыше 15 миллионов пар обуви, около 69 миллионов квадратных метров шерстяных тканей, 4,3 миллиона тонн продовольствия. Общая стоимость помощи по ленд-лизу составила (с учетом транспортных расходов и услуг) около 11 миллиардов долларов.
Хотя режим личной власти Сталина, как, может быть, никакой другой тоталитарный режим, причинил своей стране страшные бедствия, народы СССР в час грозных испытаний дружно поднялись на защиту Отечества. Своевременно закончилась мобилизация военнообязанных, начавшаяся 23 июня. В течение недели было призвано 5,3 миллиона человек 1905–1918 годов рождения. В августе прошла мобилизация военнообязанных 1890–1904 и призывников до 1923 года рождения. Всего за время войны в Красной Армии служило около 31 миллиона человек примерно сорока возрастов (до 1927 года рождения включительно).
Свыше 20 миллионов советских граждан подали заявления с просьбой о зачислении в Красную Армию добровольцами. Однако по разным причинам (возраст, состояние здоровья, работа на оборонных предприятиях и др.) не все подобные просьбы удовлетворялись. Было сформировано народное ополчение, ставшее резервом действующей армии. Ополченцы отличились в обороне Киева, Ленинграда, Одессы, Москвы, Севастополя, Курска и других городов.
Кроме ополчения, за счет добровольцев создавались многие части и соединения Красной Армии. В их числе три женских авиационных полка – 586-й истребительный, 587-й (впоследствии – 125-й гвардейский) и 588-й (впоследствии – 46-й гвардейский) бомбардировочные. Замечательным патриотическим свершением трудящихся Новосибирской и Омской областей, Алтайского и Красноярского краев стал 6-й (впоследствии – 19-й гвардейский) Сибирский добровольческий стрелковый корпус. Большой вклад в укрепление Красной Армии внесли танкостроители Урала. Продолжением их трудового подвига стало формирование 30-го (впоследствии – 10-го гвардейского) Уральского добровольческого танкового корпуса. Его боевой путь начался на курской дуге, закончился в столице Чехословакии Праге 9 мая 1945 года. На рассвете этого дня одним из первых в город прорвался танк No 23 63-й гвардейской танковой бригады гвардии лейтенанта Ивана Гончаренко. В этом последнем бою, когда до победы оставалось несколько часов, танк был подбит, отважный лейтенант погиб, остальные члены экипажа – ранены. В память о дне освобождения чехословацкой столицы танк No 23 был установлен на высоком гранитном постаменте на Уездской площади в Праге, названной впоследствии площадью Советских танкистов.
С первого и до последнего дня войны в авангарде воюющего народа находилась партия коммунистов. ВКП(б) была поистине сражающейся партией. 80 процентов ее членов состояли в рядах вооруженных сил, партизанских отрядах или вели подпольную борьбу в тылу врага. Три миллиона из них, фактически каждый второй, пали в боях или погибли в результате лишений военных лет. Но численность партии не уменьшилась. За время войны около 3,3 миллиона человек были приняты в члены и около 5,1 миллиона – кандидатами в члены партии. Основное пополнение партийных рядов (почти три четверти всех принятых в члены партии и две трети – в кандидаты) шло в армии и на флоте. Численность ВКП(б) выросла с 3,8 миллиона человек в начале войны до 5,9 миллиона – в конце войны. Это были честные люди, искренне исполнявшие свой гражданский и партийный долг. Их деятельность укрепляла авторитет партии как авангардной силы, движимой интересами народа. Однако характер внутренней жизни партии, способы ее деятельности как руководящей силы общества определяли не миллионы коммунистов, выносивших на своих плечах тяготы военного вре
мени, а, как и в 30-е годы, небольшая группа отобранных Сталиным и ответственных только перед ним партийных чиновников.
В бою и в труде рядом с коммунистами были комсомольцы. Это считалось естественным. Как и Коммунистическая партия, комсомол превратился в воюющую организацию, членство в которой обязывало первым идти туда, где тяжелей, где опасней. Но это не пугало молодежь. На фронте и в тылу за время войны в комсомол вступило около 12 миллионов юношей и девушек. 2,5 миллиона комсомольцев пополнили ряды ВКП(б). Более 3,5 миллиона комсомольцев были награждены боевыми орденами и медалями.
Являясь частью тоталитарной системы, комсомол не мог в полной мере раскрыть творческие возможности своей организации, страдал от заорганизованности, формализма. Партийные и комсомольские руководители нередко манипулировали настроениями и мнениями рядовых комсомольцев, их патриотическими помыслами. В практической работе, как часто случалось, энтузиазм молодежи искусственно стимулировался не столько ради действительного дела, сколько для того, чтобы еще раз продемонстрировать преданность "великому Сталину".
Народы СССР сознательно шли на жертвы и лишения ради победы над фашистскими захватчиками. Многие тысячи людей разных национальностей живо откликались на призывы руководителей партии и правительства оказать посильную помощь советским воинам. В созданные общественностью фонд обороны Родины и фонд Красной Армии трудящиеся добровольно отчисляли часть заработка, передавали семейные ценности, продовольствие, теплую одежду. За счет средств населения были построены и переданы защитникам Отечества более 2,5 тысячи боевых самолетов, несколько тысяч танков, артиллерийских орудий, более 20 подводных лодок и военных катеров, много другой боевой техники и вооружения.
Неоценимое значение имела народная забота о здоровье советских воинов. Общественность страны оказала широкую поддержку Всесоюзному и местным комитетам помощи по обслуживанию больных и раненых бойцов и командиров Красной Армии. Десятки тысяч добровольцев дежурили в военных госпиталях, на железнодорожных вокзалах, в речных портах, через которые проходили транспорты с больными и ранеными воинами. Чтобы помочь им, более 5,5 миллиона советских граждан регулярно
сдавали свою кровь, необходимую для успешного лечения.
Почти все способные к труду пенсионеры, домохозяйки, значительная часть подростков были вовлечены в народное хозяйство. Людские ресурсы страны быстро истощались. Осенью 1942 года они приблизились к критической отметке. К тому времени противником была оккупирована территория, на которой до войны проживало около 80 миллионов человек, или почти 42 процента населения страны. Только около четверти его (примерно 17 миллионов человек) были эвакуированы или мобилизованы в армию. Если в 1940 году в народном хозяйстве было занято 31,2 миллиона рабочих и служащих, то в 1942 году – 18,4 миллиона. В составе рабочей силы в промышленности удельный вес женщин возрос с 38 процентов в 1940 году до 53 процентов в 1942 году, а молодежи в возрасте до 18 лет – с 6 до 15 процентов.
Наряду с военными действиями жизненные силы народа, как и прежде, продолжал истощать сталинский ГУЛАГ, где наряду с действительными преступниками пребывала огромная армия ни в чем не повинных людей, объявленных "врагами народа". Значительную часть лагерных заключенных ГУЛАГа составляли осужденные за контрреволюционные преступления по печально знаменитой 58-й статье. В 1939 году их было 34,5 процента (от 1 317 195 человек), в 1940-м – 33,1 процента (от 1344 408 человек), в 1941-м –28,7 процента (от 1500 524 человек), в 1942-м – 29,6 процента (от 1 415 596 человек), в 1943-м – 35,6 процента (от 983 974 человек), в 1944-м – 40,7 процента (от 663 594 человек), в 1945-м – 41,2 процента (от 715 506 человек).
Общее же количество заключенных к началу Великой Отечественной войны достигло поистине чудовищных размеров – 2 миллионов 300 тысяч человек. За 1941–1944 годы в ГУЛАГ прибыло 2 миллиона 550 тысяч и убыло 3 миллиона 400 тысяч человек, в том числе 900 тысяч (в первые два года войны) в армию. На 21 декабря 1944 года в местах заключения НКВД СССР имелось 1 миллион 450 тысяч заключенных. Их труд применялся в промышленности, строительстве, на рудниках, лесозаготовках, входивших в систему НКВД. За 1941–1944 годы в этом ведомстве добыли золота – 315 тонн, концентрата олова – 14 398 тонн, никеля – 6511 тонн, угля – 8 миллионов 924 тысячи тонн, нефти – 407 тысяч тонн, произвели 30,2 миллиона мин разного калибра. Немало инженеров, техников, конструкторов трудились в так называемых "ша
рашках" – научно-исследовательских институтах и конструкторских бюро за колючей проволокой. Лишенные честного имени и гражданских прав, подконвойные люди тоже вносили вклад в Победу.
Быстрое расходование мобилизационных ресурсов, недостаток рабочей силы в народном хозяйстве в связи с призывами в армию заставили режим личной власти Сталина в некотором роде "поступиться принципами". Указами Президиума Верховного Совета СССР от 12 июля и 24 ноября 1941 года из мест заключения было освобождено свыше 600 тысяч человек, из которых 175 тысяч, в том числе 22 тысячи бывших командиров, летчиков, танкистов, артиллеристов, были мобилизованы в действующую армию. Еще около 725 тысяч бывших заключенных стали воинами до осени 1943 года.
Заключенные, прибывшие прямо из спецлагерей НКВД, например, составляли 20 процентов личного состава 120-й отдельной стрелковой бригады, формировавшейся в городе Чапаевске Куйбышевской области с января по апрель 1943 года. "Все они, – отмечалось политотделом бригады, – как правило, в армии не служили и военное обучение нигде не проходили. Многие из них физически истощены и требуют усиленного питания, а некоторые серьезно больны и требуют длительного лечения".
Усилия народов СССР по укреплению действующей армии очень часто разбивались о неспособность тоталитарного режима Сталина эффективно руководить вооруженной борьбой. Сделавшись Верховным Главнокомандующим, Сталин даже не скоро смог понять, с каким искусным противником ведется война. Хотя перед ним не раз открывалась возможность решительно повернуть ход событий в свою пользу, он не знал, как это сделать, а мнения компетентных военачальников не мог правильно оценить по причине своей некомпетентности. Так случилось, например, при обсуждении плана общего наступления Красной Армии, состоявшегося в Ставке 5 января 1942 года. Учитывая успешный ход контрнаступления войск западного направления, Сталин предложил тогда перейти в общее наступление с целью разгрома противника на всех фронтах.
Против этого плана высказался Г. К. Жуков, командующий Западным фронтом. По его мнению, наступление следовало продолжать на западном направлении, где противник еще не успел восстановить боеспособность своих частей после успешного контрнаступления советских войск.
"Но для успешного исхода дела, – сказал Жуков, – необходимо пополнить войска личным составом, боевой техникой и усилить резервами, в первую очередь танковыми частями. Если мы это пополнение не получим, наступление не может быть успешным". "На других же направлениях, – продолжал Жуков, –противник имеет "серьезную оборону", для разрушения которой требуются мощные артиллерийские средства, без чего войска понесут "большие, ничем не оправданные потери. Я за то, чтобы усилить фронты западного направления и здесь вести более мощное наступление".
Жукова поддержал председатель Госплана СССР, заместитель председателя Совнаркома СССР Н. А. Вознесенский: "Мы сейчас еще не располагаем материальными возможностями, достаточными для того, чтобы обеспечить одновременное наступление всех фронтов".
Другие участники совещания промолчали. По предложению Сталина войска получили директиву вести наступление на всех фронтах одновременно. В соответствии с этим распределялись резервы Ставки. Наступление советских войск вскоре остановилось, не достигнув результатов, на которые рассчитывалось. Тем не менее была устранена угроза захвата Москвы зимой 1941–1942 годов. Германия потерпела первое крупное поражение во Второй мировой войне, оказавшись перед неизбежностью затяжной войны, к которой не была готова. Чем глубже проникал на советскую территорию враг, тем опаснее становилась для него борьба партизан и подпольщиков, всех советских патриотов, удары Красной Армии.
Все это вселяло надежду на достижение решительных целей в весенне-летней кампании. Ее план обсуждался на совещании в ГКО в конце марта 1942 года. Докладчик, начальник Генерального штаба Б. М. Шапошников, предложил, учитывая численное превосходство противника и отсутствие второго фронта в Европе, в ближайшее время ограничиться активной стратегической обороной, в ходе которой измотать и обескровить врага, а летом, когда будут накоплены резервы, начать широкое контрнаступление. Докладчик не согласился также с командующим Юго-Западным направлением и Юго-Западным фронтом С. К. Тимошенко, предлагавшим на своем направлении большую наступательную операцию, поскольку для нее не имелось необходимых резервов и материальных ресурсов.
"Не сидеть же нам в обороне сложа руки и ждать, пока немцы нанесут удар первыми! – выразил несогласие
Сталин. – Надо самим нанести ряд упреждающих ударов на широком фронте и прощупать готовность противника".
Тимошенко, доказывавшего, что его войска в состоянии и безусловно должны нанести упреждающий удар и расстроить наступательные планы противника против Южного и Юго-Западного фронтов, поддержали Сталин, Молотов, Ворошилов, Берия, остальные участники обсуждения кивали головами в знак согласия.
Сомнение в возможности материально-технического обеспечения широких наступательных операций высказал Н. А. Вознесенский. Доводы Генштаба и точку зрения Жукова, считавшего, что для упреждающей наступательной операции на Юго-Западном направлении не имеется достаточных сил, Сталин принял лишь частично. Согласившись с возражениями против крупной наступательной операции группы фронтов под Харьковом, он разрешил ее как операцию частную, как внутреннее дело Юго-Западного направления и приказал Генштабу ни в какие вопросы по ее проведению не вмешиваться. Сталин приказал также провести частные наступательные операции под Ленинградом, в районе Демянска, на смоленском и курском направлениях, а также в Крыму.
Как показали последующие события, это решение было опасным просчетом. К маю 1942 года противник имел преимущество в численности личного состава, орудий и минометов, заметное превосходство в авиации и лишь уступал в танках.
Первый сигнал беды поступил из Крыма. После безуспешных попыток прорвать немецкую оборону на Керченском полуострове войска Крымского фронта понесли большие потери и в конце апреля сами перешли к обороне. Противник воспользовался этой неудачей и 8 мая сам перешел в наступление. Наши войска оказались в катастрофическом положении. Противник полностью овладел Керченским полуостровом, в плену оказались 150 тысяч красноармейцев, трофеями врага стали 1113 орудий, 255 танков, 323 самолета. Тысячи советских воинов погибли. Лишь немногим удалось прорваться на кавказское побережье. Эта катастрофа поставила в тяжелое положение защитников Севастополя, которые еще около двух месяцев вели бои в глубоком тылу противника.
По одобренному Сталиным плану 12 мая перешел в наступление Юго-Западный фронт. Наступая в направлении Харькова с выступа с центром Барвенково и из района Волчанска, ударная группировка фронта попала в опасную
ловушку и была окружена. К своим удалось вырваться немногим. В плену оказалось 240 тысяч человек, противник захватил 2026 орудий и 1249 танков.
О том, что наступление закончится скорее всего трагическим исходом, знал командующий Южным фронтом генерал Р. Я. Малиновский, знал и сам главнокомандующий Юго-Западным направлением и Юго-Западным фронтом маршал С. К. Тимошенко. Оба военачальника решили выполнять одобренный Сталиным план и пренебрегли своевременным докладом Военного совета 9-й армии, из которого следовало, что перед войсками армии, вопреки первоначальным предположениям, противник сосредоточил танковые соединения армейской группы "Клейст". В результате соотношение сил в полосе 9-й армии (на южном фасе Барвенковского выступа) оказалось в пользу противника по пехоте – в полтора раза, по артиллерии – в два, а по танкам – шесть раз.
Все это требовало отмены или прекращения Харьковской операции и сосредоточения усилий на ликвидации прорыва противника и восстановлении положения 9-й армии. Но никто не хотел взять на себя такую ответственность. 23 мая немцы перерезали пути отхода советских войск, действовавших на Барвенковском выступе. Одновременно им удалось окружить и другую ударную группировку Юго-Западного фронта, наступавшую в районе Вол-чанска.
Неудачей окончились попытки наступления советских войск и на других направлениях. Стратегическая инициатива снова перешла к противнику, получившему возможность занять выгодные исходные позиции для своей главной операции на южном крыле советско-германского фронта. Теперь перед ним были значительно ослабленные советские войска. В конце июня противник перешел в наступление. За две-три недели он достиг рубежа Дона на фронте от Воронежа до его устья, захватил ряд плацдармов на левом берегу Дона. Были оккупированы Донбасс, важнейшие сельскохозяйственные районы, создана угроза Сталинграду и Северному Кавказу.
Катастрофические поражения весны 1942 года стали прологом новой, ничем не оправданной трагедии народа, армии. Хотя виновник ее был известен, Сталин поступил привычным ему способом. Упреждая гнев народа против своего режима, 28 июля он издал приказ No 227. Услужливые пропагандисты свели его порочный смысл к требованию "Ни шагу назад!", скрыв его действительную суть.
Ответственными за поражение, отступление Красной Армии Сталин объявил паникеров и трусов. "Без серьезного сопротивления и без приказа Москвы", говорилось в прика-%зе No 227, они оставляют врагу "территорию СССР" и при атом якобы "утешают себя разговорами о том, что мы можем и дальше отступать на восток, так как у нас много территории, много земли, много населения и что хлеба у нас всегда будет в избытке".
Чтобы прекратить отступление, Сталин приказал в каждой армии сформировать "3–5 хорошо вооруженных заградительных отрядов (по 200 человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов и тем помочь честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед Родиной". Наряду с заградительными отрядами предусматривалось формирование штрафных батальонов (для командиров и политработников) и штрафных рот (для рядовых бойцов и младших командиров), в которые направлялись "паникеры и трусы".
Разумеется, приказ "ни шагу назад!" не остановил отступавших. Его порочный смысл оценил и противник. В то время над позициями советских войск немецкие самолеты разбрасывали тысячи листовок с текстом "секретного" приказа No 227, сопроводив его "пропуском" для перехода на сторону германских войск.
А те резервы, при помощи которых советские войска действительно могли бы остановить противника, оказались летом 1942 года за многие сотни километров от места катастрофы. Так распорядился, на этом настоял Верховный Главнокомандующий "товарищ Сталин". Пренебрегая данными разведки и выводами Генерального штаба, он считал, что летом 1942 года, как и год назад, немцы будут наносить главный удар на московском направлении. От этого ошибочного представления он отрешился с большим запозданием, вследствие чего резервные армии получили приказ развернуться на юго-западном направлении только в первой декаде июля 1942 года, составив ядро вновь созданных Воронежского и Сталинградского фронтов. Сроки выполнения этой задачи удлинялись из-за трудностей в перемещении войск в связи с ограниченными транспортными возможностями страны. В результате советское командование не успело сосредоточить на юго-западном направлении силы, достаточные для того, чтобы воспрепятствовать выходу противника в большую
излучину Дона, а затем его прорыву к Сталинграду и на Кавказ.
Прибывавшие на фронт войсковые формирования были слабо обучены. Нередко им приходилось с ходу занимать позиции на местности, где отсутствовали подготовленные рубежи обороны. Недоставало боеприпасов, противотанковой и зенитной артиллерии. Большой урон наносила авиация противника, господствовавшая в воздухе. Плановое снабжение войск было нарушено. Продовольствие получалось главным образом из местных ресурсов. Управление войсками часто нарушалось из-за плохого состояния проводной связи или неумения использовать радио.