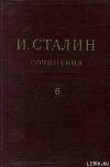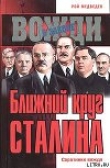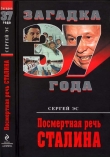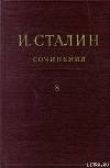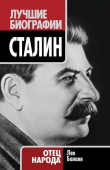Текст книги "Сборник 'Наше отечество' - Опыт политической истории (Часть 2)"
Автор книги: Автор Неизвестен
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 46 страниц)
Троцкий, который на XIV съезде не выступал, на апрельском Пленуме сделал, по существу, содоклад. Лейтмотив его рассуждений был однозначен: продолжается недооценка возможностей ускоренной индустриализации. В противовес "минималистским установкам" Госплана Троцкий предложил увеличить объем капитальных работ в предстоявшем году до суммы более 1 миллиарда рублей, а в ближайшее пятилетие до таких размеров, которые позволили бы уменьшить диспропорцию между сельским хозяйством и промышленностью до минимума. Солидаризируясь с Преображенским, он отмечал, что страна находится в периоде первоначального социалистического накопления и это предполагает высшее напряжение сил и средств для индустриализации. Как молодая буржуазия в соответствующий период первоначального накопления жилы из себя тянула, пуритански урезывала себя во всем, отказывая каждую копейку на промышленность, так должна действовать и Советская Россия. Это поможет преодолеть бедность и передвинуть средства на увеличение промышленных программ. Аналогичные суждения высказали Каменев, Зиновьев, Пятаков и ряд других участников Пленума.
Большинство, включая Сталина, Микояна, Калинина, Орджоникидзе, Дзержинского, Рудзутака, поддержало Рыкова и резко критиковало Троцкого. Наиболее полно это сделал Сталин. Его основной тезис был предельно ясен: "Индустрия должна базироваться на постепенном подъеме благосостояния деревни". Не считаться с наличными средствами, разъяснял он, значит, впадать в авантюризм. "Тов. Троцкий думает подхлестывать наши центральные
учреждения расширенными планами, преувеличенными планами промышленного строительства. Но преувеличенные планы промышленного строительства – плохое средство для подхлестывания. Ибо, что такое преувеличенный промышленный план? Это есть план, составленный не по средствам, план, оторванный от наших финансовых и иных возможностей". Сталин несколько раз возвращался к мысли о "предельном минимальном темпе развития индустрии, который необходим для победы социалистического строительства".
Зная, как развернутся события в дальнейшем, когда Сталин будет настаивать на максимальных темпах индустриализации любой ценой, трудно поверить, что именно он в 1926 г. произносил такую речь. Впрочем, ни тогда, ни после войны, когда началось издание его сочинений, Сталин не счел нужным ее опубликовать.
Сейчас, по прошествии десятилетий, нельзя, однако, не заметить, что сторонники и тех и других подходов еще не имели достаточно ясной, глубоко, комплексно и до конца продуманной программы превращения страны в мощную индустриальную державу, создания индустрии, способной реорганизовать на социалистических началах жизнь советской деревни. Например, Микоян, критикуя позицию Троцкого, уверял, что в первые годы диктатуры пролетариата "нужно строить такие предприятия, которые дают ближайший, скорейший экономический и политический эффект". Поэтому, говорил он, не нужен Днепрострой, а лучше намечаемые средства выделить на сооружение в Украинской ССР сотни крупных заводов. Говорил, явно не зная, во что обойдется Днепрогэс, какова стоимость "сотни заводов"... Калинин в пылу полемики против Троцкого пошел еще дальше. Из его слов следовало, будто Ленин завещал: "Быстро не пересаживайтесь на пролетарского рысака, подольше задержитесь на крестьянской кляче". А посему, продолжал Калинин, "если мы лишний год отстанем в индустриализации, это еще не так страшно..."
Не опирались на точные расчеты и те, кто ратовал за укрепление плановых начал вообще, за усиление внимания к промышленности, за ужесточение режима экономии, совершенствование налоговой политики и т. п. Так, еще в конце 1925 г., когда обнаружились просчеты в хозяйственной политике, Каменев выдвинул по отношению к промышленности лозунг: "Реже шаг". Теперь же, в 1926 г., в рамках, по существу, прежней ситуации
он настаивал на решительном повороте к промышленности, главный резерв которого видел в крестьянском хозяйстве. Он предложил взять в деревне дополнительно 30–50 миллионов рублей, хотя обсуждался вопрос о развертывании политики, требующей миллиарды рублей капитальных вложений.
Нарком финансов Сокольников считал, что подъем промышленности зависит либо от получения заграничных займов, либо от экспортных операций, но ничего конструктивного не предложил. А Троцкий, который советовал брать пример с буржуазии, конечно, знал, какими путями шло первоначальное капиталистическое накопление. Повсеместно решающую роль играла эксплуатация трудящихся: из них тянула буржуазия жилы, а не из себя.
Объективно оценивая споры середины двадцатых годов, нельзя, как это делалось в течение десятилетий, воспринимать разные точки зрения упрощенно: одни, дескать, чуть ли не обладатели абсолютной истины, другие – сугубо злонамеренные лица, противники социалистического строительства. При самых существенных различиях во взглядах все они были членами руководства правящей партии, участниками напряженных поисков, коллективных раздумий, выявления альтернатив и их тщательного обдумывания. И пока преобладал именно такой подход, удавалось принимать взвешенные решения, накапливать опыт, углубляя представления о путях и методах превращения СССР в индустриальную державу.
Если в первой половине двадцатых годов подъем народного хозяйства связывали главным образом с возрождением промышленности, улучшением работы действовавших предприятий, то во второй половине на первый план все более властно выходила задача массового строительства новых заводов, шахт, нефтепромыслов и т. д. Соответственно иное звучание приобретал вопрос о размерах накоплений, о роли госбюджета, о соотношении плана и рынка. Мнение о том, что главные трудности позади (оно исходило прежде всего от Сталина и Бухарина), становилось анахронизмом. Так же как и идея Троцкого и Пятакова, считавших возможным за пять лет ликвидировать товарный голод.
Осенью 1926 г. XV партконференция сочла возможным выдвинуть лозунг, призывающий советский народ в исторически кратчайший срок догнать и перегнать капиталистический мир. Значит, разговоры о "черепашьем шаге", о "предельно минимальных" темпах роста сдавались, как го
верится, в архив. Вложения в капитальное строительство, запланированные на 1926/27 год, были существенно увеличены – до 1 миллиарда 50 миллионов рублей. Вопреки прежним разногласиям, конференция высказалась за сооружение Днепрогэса...
Позиция большинства ЦК выглядела в глазах основной массы членов ВКП (б) предпочтительнее. Его лидеры активно отстаивали принципы нерушимого единства большевиков, союза рабочего класса с крестьянством. Выдвигая лозунги решительного продвижения вперед, ликвидации эксплуататорских элементов, они в то же время неукоснительно предостерегали против "нетерпения", "сверхчеловеческих" прыжков в развитии народного хозяйства и даже против обострения классовой борьбы. И Сталин, и Бухарин, и Рыков призывали к индустриализации, но по средствам, в меру наличных ресурсов и при непременном улучшении благосостояния всех слоев трудящихся. Последнее расценивалось как одно из важнейших качеств социалистического метода индустриализации.
Упор на бескризисное развитие сделан к в резолюциях XV съезда партии (декабрь 1927 года). Принятые им директивы по составлению пятилетнего плана по сей день восхищают экономистов. В директивах торжествует принцип равновесия, провозглашено соблюдение пропорциональности между накоплением и потреблением, между промышленностью и сельским хозяйством, производством средств производства и предметов потребления.
Такая установка не означала отрицание курса на ускорение. Наоборот, она нацеливала на научное осмысление природы и возможностей такого курса, выявление его наибольшей эффективности. Новое общество нельзя было строить без преодоления разного рода внутренних противоречий. Точно так же нельзя было идти вперед, отвлекаясь от капиталистического окружения. Предстояло не просто догнать, как говорил Ленин, цивилизованные народы; надо было обеспечить технико-экономическую независимость завоеваний Октября. Со всех точек зрения проблема темпа развития была очень сложной и требовала мудрого решения. XV съезд предложил своего рода оптимальный вариант, поучительный и сегодня. "Здесь, – говорилось в директивах, – следует исходить не из максимума темпа накопления на ближайший год или несколько лет, а из такого соотношения элементов народного хозяйства, которое обеспечивало бы длительно наиболее быстрый темп развития".
Эмоции в устах историков считаются неуместными. Но как не порадоваться за тех, кто сформулировал такие положения, кто голосовал за их реализацию. И как не горевать, зная, что на практике совершилось иное, произошел отход от провозглашенных принципов руководства.
Причем из года в год ситуация ухудшалась. Поначалу лишь немногие коммунисты догадывались о существовании "тройки" (Зиновьев, Каменев, Сталин), фактически предрешавшей принятие важнейших решений в Политбюро. Куда более широкий круг членов партии был озадачен и обескуражен ходом XIII съезда РКП (б), на котором в 1924 г. ленинское "Завещание" ("Письмо к съезду") читали только по делегациям и практически не обсуждали. Через год, на следующем съезде Каменев и Сокольников открыто потребовали замены Сталина на посту Генерального секретаря. Но было уже поздно. Воля, энергия, организаторский талант помогли Генеральному секретарю сплотить вокруг себя надежных единомышленников, превратить Секретариат в своеобразный пульт управления аппаратом ЦК и сосредоточить в своих руках действительно необъятную власть.
Выборность секретарей, особенно в республиках, губернских центрах, в больших городах сплошь и рядом подменялась назначением, согласованным, чаще даже инициированным Москвой. Соответствующая селекция кадров становилась правилом и на местах. Стиль командного руководства, легко оправдываемый в период гражданской войны, не только сохранялся, но фактически поощрялся. Дух армейской дисциплины воспринимался как нечто само собой разумеющееся: ведь борьба продолжается, кулаки и нэпманы то и дело поднимают голову, рвутся к власти; рабочий класс еще очень малочисленен; крестьянин не только труженик, но и собственник. Тем более мало доверия внушали буржуазные специалисты, да и прослойка служащих в целом. И все это в условиях капиталистического окружения, постоянной военной угрозы... Фотографии тех лет углубляют представление о господствовавших тогда настроениях. Присмотритесь еще раз к одежде большинства членов Политбюро, Центрального Комитета, к внешнему виду партработников: гимнастерки, кожанки, шинели, френчи военного покроя, галифе, армейские сапо-ги, фуражки.
Не секрет, состав XIV съезда был сформирован аккуратно, умело. Яркое тому подтверждение, стенограм
ма заседаний. Из сохранившегося в архиве экземпляра видно, как нервничают стенографистки. Сталин говорил тихо, порой невнятно, и они не всегда могли вести запись. Делегаты, оказывается, слышали все. Хлопали дружно, долго. Ну, как по команде. Оппозиционеров встречали грубыми репликами, выкриками, общим шумом.
Поражение Зиновьева и Каменева заметно упрочило авторитет генсека. Впервые (да еще на съезде) он был назван главным "членом Политбюро" (это сделал Ворошилов, совсем недавно назначенный наркомом обороны СССР). Победа над оппозицией придала новые силы партаппарату, в рамках которого все более явно выделялся слой функционеров, хорошо понимавших свою роль в жизни партийных организаций, в борьбе Сталина за единоличную власть и превращение его взглядов в единственно правильные, директивные.
Влияние аппарата росло и по другим причинам. Отдельно нужно сказать о быстром увеличении численности коммунистов и переменах в составе партии. Еще в начале 1922 г. в рядах большевиков значилось около 528,4 тыс. человек, в том числе примерно 410,5 тыс. членов партии и 118 тыс. кандидатов. Через четыре года численность коммунистов превышала уже 1078 тыс. человек. Произошло удвоение, при этом прослойка кандидатов в члены ВКП (б) заметно превзошла численность членов партии, зафиксированных в 1922 г. Большим приемом ознаменовались и последующие годы. В официальных документах и периодической печати того времени восторженно отмечали тягу передовых рабочих в ряды большевиков, повышение боеспособности революционного авангарда страны.
Много меньше внимания уделялось анализу состава ВКП (б). Между тем Всесоюзная партийная перепись, проведенная в середине 1927 г., давала богатую пищу для размышлений. Судите сами. Согласно переписи, около 60 % коммунистов были приняты в партию после смерти В. И. Ленина, т. е. всего за три с половиной года. На долю принятых до перехода к нэпу приходилась лишь одна треть.
Еще более тревожно выглядели данные, характеризующие уровень образования. И дело не только в том, что несколько десятков тысяч коммунистов не умели даже читать и писать, т. е. оставались совсем неграмотными. На десятом году Советской власти свыше 26 % членов правящей партии были, как тогда говорили, самоучками
(или получали домашнюю подготовку) и около 63 % коммунистов (по их собственному признанию) имели низшее образование. Что касается закончивших высшие учебные заведения, то их (вместе с незакончившими) было 0,8 %, т. е. восемь на каждую тысячу членов ВКП (б). Характерна и такая деталь: удельный вес лиц, считавшихся самоучками, в 1927 г. вдвое превышал аналогичный показатель 1922 г.
Приведенные цифры говорят сами за себя. Они еще раз подтверждают мысль о том, что Сталин и его соратники нуждались для проведения своей политики в иной партии, нежели Ленин. Их вовсе не смущала политическая неопытность и теоретическая неподготовленность основной массы вступавших в ВКП (б). Ленин предостерегал от увлечения приемом новых пополнений, от искусственного разбухания. Главной заботой оставалась проблема качества, о чем он снова и снова напоминал в начале 20-х годов.
Партия, насчитывавшая 300–400 тыс. человек, представлялась ему излишне большой, перегруженной непролетарскими элементами. Тогда же он требовал, чтобы рабочим, вступающим в партию, считали лишь того, кто не менее 10 лет работал на крупных промышленных предприятиях (в качестве рабочего).
XIV съезд ВКП (б) упростил условия приема. Создалась обстановка, при которой новые пополнения стали быстро и в расширенном масштабе воспроизводить самих себя. Обычным делом являлись теперь юбилейные наборы. Прежний уровень требований упал. Основную массу коммунистов на исходе двадцатых годов составляли те, для кого Октябрь был уже легендарным прошлым, а споры о демократии – излишней роскошью. Сама постановка вопроса о невозможности построить социализм в одной стране вызывала удивление, а то и раздражение. А для чего тогда брали власть в 1917 г., кровь проливали в гражданской?
Советские историки пока не показали в своих работах процесс формирования той партии, которая, можно сказать, не просто поддержала его политический курс, но и оказалась инструментом проведения сталинской политики.
К сожалению, нет трудов и о массовой социальной базе, без которой эта политика не стала бы реальностью. А жаль, ибо давно назрела необходимость изучить поведение, психологию, взгляды весьма значительных слоев населения, воспринимавших нэп как попытку возвращения к миру частной собственности и предприниматель
ства, капитала, социальной несправедливости, неравенства, национальных и религиозных распрей. Их пугали ставка на хозрасчет и развитие товарно-денежных отношений, узаконение прав нэпмана и кулака, опасность сохранения безработицы, частных предприятий и т. п. Таких людей было немало как в городе, так и в деревне, среди рабочих и крестьян. Но их удельный вес был куда значительнее в общей численности служащих госаппарата и партийных функционеров. Здесь приверженцев административно-командной системы управления было больше всего.
Разумеется, порождались соответствующие настроения и позиции разными, порой весьма отдаленными друг от друга причинами, нередко прямо противоположными. И все же самыми опасными противниками нэпа оказались те руководители, чьи воззрения и практическая деятельность базировалась не только на вере во всесилие административной власти, но и на убежденности в целесообразности ее каждодневного применения в интересах, как они утверждали, социалистического строительства. Это тем более важно подчеркнуть, что сам переход к нэпу и весь процесс осуществления новой экономической политики возглавляла и проводила в жизнь партия, основные кадры которой сложились в условиях "военного коммунизма" со свойственной ему жесткой централизацией, приказной системой управления, пренебрежением к экономическим стимулам. Они привыкли командовать, "нажимать", требовать быстрого неуклонного исполнения. Господствовал стиль, не оставлявший места для поиска альтернатив и хозяйственных вариантов. Для них нэп был временным отступлением, злом, затормозившим победный поход на буржуазию, на мир эксплуатации и угнетения. И чем труднее им было учиться торговать, конкурировать с частником, тем сильнее охватывала ностальгия по "героическому периоду революции", по кавалерийской атаке на капитал, т. е. по эпохе "военного коммунизма". С годами минувшие беды и трудности того периода забывались, а память о чрезвычайных мерах, позволивших выстоять, согревала душу. Сталин хорошо знал эти настроения; они импонировали ему, в частности, как человеку жесткому, заряженному не на речи и обсуждения, а на приказы, команды, на быстрое исполнение принятых решений. В свою очередь, опытные функционеры знали его привязанность к аппаратному
стилю работы, к подбору лично преданных людей. Для них не было секретом и сталинское понимание нэпа.
Некоторые историки до сих пор пишут о том, как до XV съезда включительно генсек неукоснительно отстаивал принципы новой экономической политики. Ссылаются на опубликованные выступления. Но разве о политических деятелях нужно судить только по их словам? Здесь не место вести спор на эту тему, сопоставлять речи Сталина с его реальным поведением до поворота 1928 г. Выделим основное: чтобы не говорил и что бы не делал Генеральный секретарь в указанные годы – все было подчинено борьбе за единоличную власть, за разгром инакомыслящих в партии, за превращение последней в "приводной ремень" своей диктатуры.
Ленин не зря боялся того, "чтобы конфликты небольших частей ЦК могли получить слишком непомерное значение для всех судеб партии". Произошло худшее. Не просто в борьбу, а в драку были искусно и искусственно вовлечены самые широкие массы коммунистов. Подготовка к съездам и сами заседания (будь то XIII, XIV или XV съезды) концентрировали внимание правящей партии (да и всей советской общественности) не столько на животрепещущих вопросах развития общества, сколько на внутрипартийных разногласиях, возведенных в абсолют. Под флагом высоких идей, под видом борьбы за ленинское единство большевиков, защиты классовых интересов победившего пролетариата в партии насаждались порядки и нравы, характерные для административно-командной системы.
Монополия политической власти, сращивание партийного и хозяйственного аппаратов уже сами по себе противоречили принципам нэпа, осложняли и срывали их осуществление. Коммунисты, действительно, становились бюрократами. Одни – в партийном аппарате, другие – в государственном. Нездоровая атмосфера затрудняла и без того небывало сложную деятельность ВСНХ, Госплана, Наркомфина.
Вспомним драматическую судьбу Ф. Э. Дзержинского. Пламенный чекист, он одновременно в начале двадцатых годов возглавлял Наркомат путей сообщения, а с февраля 1924 года – ВСНХ СССР. При нем штаб советской индустрии стал ревностным поборником такого разверты-вания нэпа, которое обеспечивало смычку города и деревни, бескризисное возрастание роли промышленности в жизни страны. Невозможно представить, сколько энергии
потратил Дзержинский на осуществление политики снижения розничных цен, на борьбу за опережающий рост производительности труда по отношению к зарплате, на подготовку планов большого капитального строительства.
Увы, не меньше сил ушло на преодоление совсем иных препятствий. Сохранилось письмо Дзержинского Куйбышеву, датированное 3 июля 1926 года. Анализируя недостатки в управлении, он пишет: "Существующая система –пережиток. У нас сейчас уже есть люди, на которых можно возложить ответственность. Они сейчас утопают в согласованиях, отчетах, бумагах, комиссиях. У нас сейчас за все отвечает СТО, П/бюро. Так конкурировать с частником, и капитализмом, и с врагами нельзя. У нас не работа, а сплошная мука. Функциональные комиссариаты с их компетенцией – это паралич жизни и жизнь чиновника-бюрократа. И мы из этого паралича не вырвемся без хирургии. Это будет то слово и дело, которого все ждут. И для нашего внутреннего, партийного положения это будет возрождение".
Особенно больно давалась ему полемика с теми членами ЦК и Политбюро, которые втянулись в соперничество и вопреки своему партийному положению занимались не столько политикой, сколько политиканством. Складывалась крайне противоречивая ситуация: критика руководства ЦК означала укрепление позиций Троцкого, Зиновьева, Пятакова, чего Дзержинский не хотел. "Как же мне, однако, быть? – горестно вопрошал он своего старого товарища и со всей откровенностью выражал опасение, если не найдем правильной линии в управлении страной и темпа, "страна тогда найдет своего диктатора, похоронщика революции, – какие бы красные перья ни были на его костюме..."
В том же месяце "железного Феликса" не стало. Он умер через несколько часов после взволнованного выступления на Пленуме ЦК ВКП (б), где, по сути дела, изложил те же мысли.
Согласитесь, мысль о "похоронщике революции" для 1926 г. не случайна. Но кого мог иметь в виду опытнейший чекист, преотлично знавший расстановку сил в верхних эшелонах власти? Троцкий, Зиновьев, Каменев уже сходили с политической арены. Руководящую роль играл, как позднее стали говорить, дуумвират – Сталин и Бухарин. Дзержинский хорошо знал каждого и он не мог не видеть явное различие их "весовых категорий".
К исходу 1927 г. картина еще более прояснилась.
XV съезд партии дружно проголосовал за исключение из рядов ВКП(б) вчерашних сподвижников Ленина. Революционер номер два, каким Троцкий считался всего лишь несколько лет назад, был объявлен оппортунистом. Триумф Генерального секретаря был очевиден. Он держался непринужденно, шутил, вновь прославлял волю и единство большевиков, верность заветам Ильича. Манера общения внушала уверенность в лидере, и это во многом определяло настрой делегатов.
Положение Сталина было, действительно, прочным, как никогда. Вместе с ним, точнее в его фарватере, шла сплоченная группа соратников, занимавшая командные должности в партийно-государственном аппарате. Ворошилов был наркомом обороны, Молотов и Каганович возглавляли организационно-партийную работу. Руководителем ГПУ стал надежный и исполнительный Менжинский. Председателем ВСНХ СССР – главного штаба промышленности – работал теперь Куйбышев. Сослуживцы знали, что их спокойный, внимательный к людям начальник всегда идет за Сталиным. Таким же слыл и горячий Орджоникидзе, занявший в 1926 г. пост председателя ЦКК ВКП(б) и наркома рабоче-крестьянской инспекции (а заодно заместителя председателя Совнаркома СССР). С 1926 г. у руля внешней и внутренней торговли находился преданный Микоян. Всесоюзный староста Калинин (председатель ЦИК СССР) нередко слыл либералом, но и он, по собственному признанию, "всегда голосовал с товарищем Сталиным". Не было у генсека в ту пору и сколько-нибудь серьезных расхождений с Кировым, Постышевым, Косиором, Эйхе и другими секретарями ведущих губернских парторганизаций.
Сталин мог полностью рассчитывать и на поддержку Бухарина, Рыкова, Томского, будущих ответчиков за так называемый правый уклон. Но... после XV съезда ВКП(б) содружество с ними больше не было для генсека необходимостью. Во всяком случае есть все основания полагать, что в дуумвирате он, наконец, не нуждался. Прежняя коалиция зижделась, главным образом, на совместной борьбе с левой оппозицией. Когда же задача оказалась решенной, потаенные расхождения между Сталиным и Бухариным вышли на первый план. Пожалуй, лучше других эти коллизии политической истории большевизма и советского народа в целом раскрыл американский исследователь Р. Такер. В обширном труде, посвященном жизни Сталина, он убедительно показал суть принципиаль
ных расхождений между линией на медленное, эволюционное движение крестьянской России к аграрно-ксоператив-ному социализму и курсом на ускоренное преобразование страны, быстрое строительство, возможное лишь в случае революционного подхода и даже экстраординарных мероприятий. И когда в 1929 г. Сталин публично обвинит Бухарина в том, что тот "убегает от чрезвычайных мер, как черт от ладана", он тем самым с предельной ясностью обнажит корни неизбежного раскола между ними.
Примерно то же самое пишут многие авторы. Такер пошел дальше. Поездку генсека в Сибирь, его призыв к миниколлективизации он справедливо трактует как сознательные действия, призванные спровоцировать широкое неповиновение крестьян. Сопротивление деревни, в свою очередь, должно было стать оправданием и стимулом для принятия еще более радикальных мер, кульминацией которых задумывалась массовая кампания повсеместного насаждения колхозов и совхозов. Может, кому-то такая оценка событий покажется спорной. Но разве в жизни произошло что-либо другое?
Избрав столь авантюрный политический курс, его организатор намеревался выиграть и последний раунд в борьбе за единоличную власть. Стратегия борьбы не была ноной. Как всегда, Сталин, опираясь на соратников, на аппарат, надеялся вовлечь в борьбу всю партию. В данном случае намечалась политика, прямо противоположная общеизвестным взглядам Бухарина на перспективы и методы экономического развития страны, переустройства крестьянской жизни. Принятие партией курса на чрезвычайные меры автоматически ставило Бухарина и его единомышленников в положение оппозиционной группы.
Разделяя приведенные соображения, следует еще раз заметить, что начинавшийся в 1928 г. поворот в политике был не столько вызван осложнениями в хлебозаготовках, сколько спецификой внутрипартийной борьбы, неуемной страстью Сталина любой ценой упрочить свое положение, добиться безраздельной власти и править единолично. И отнюдь не кризисы нэпа толкали руководство на свертывание политики, провозглашенной "всерьез и надолго". Такое утверждение, исходящее от ряда историков, сеет иллюзии, будто в 20-е годы в ходе осуществления этой политики сложилась целостная система, сформировалось нечто цельное, охватываемое понятием "Россия нэповская".
В реальной жизни мероприятия, связанные с кооперированием, возникновением смешанной экономики, использованием частного капитала и рыночных отношений, с внедрением хозрасчета и самоокупаемости государственных предприятий, с соревнованием укладов между собой осуществлялись непоследовательно, без комплексного плана, без той энергии и целеустремленности, которая обычно характеризовала большевиков. Поэтому правильнее говорить не о кризисах нэпа, имевших место, например, в 1923 г., в 1925/26 гг., на рубеже 1927– 1928 гг., а о просчетах главным образом субъективного свойства, вызванных в конечном счете противоборством сил, определявших действия руководства в центре и на местах.
Отмеченная непоследовательность нервировала аппарат управления, болезненно отражалась и на поведении широких слоев населения, поскольку ни в городе, ни в деревне не было должной стабильности, твердой уверенности в завтрашнем дне. Цены то и дело менялись; нехватка промышленных товаров приобрела хронический характер. Вопреки лозунгам Октября социальная напряженность не уменьшалась, что толкало рабочих, служащих, крестьян на неприятие нэпа, который они ассоциировали с неравенством, засилием спекулянтов, кулаков, нэпманов, совбуров, т. е. новой буржуазии.
Обещание в этих условиях быстрых перемен, постановка конкретных задач, требующих почти сиюминутных решений, гарантировали весьма массовую поддержку. Сталин сыграл и на этом. Воздадим ему должное. К повороту он подготовился серьезно.
Атака на правых началась задолго до того, как их вождями нарекли Бухарина, Рыкова, Томского. В газетах, на собраниях речь шла о людях, не понимающих важность быстрых темпов переустройства общества, роли тяжелой промышленности в этом деле, наличии хлебных резервов. Все сильнее звучала тема обострения классовой борьбы. Звучало убедительно: социализм набирает вес, его противники не хотят смириться, объединяются, их сопротивление растет: агонизирующий зверь особенно опасен. Но опасны и те, кто не понимает перемен или даже начинает их бояться. Маловерам и паникерам надо дать сокрушающий отпор, какие бы посты они не занимали.
Так, исподволь, вполне организованно массы подводили к тому часу, когда можно будет персонально назвать руководителей, уклонившихся от генеральной линии пар
тии, отступивших от Ленина, тормозящих движение масс к новой жизни. Механизм обработки общественного сознания действовал безотказно на всех уровнях. Поначалу даже Бухарин выступал с речами и статьями против опасности справа. Можно только дивиться тому, с каким опозданием он увидел направление удара.
Стратегическую суть поворота, масштабность замысла часто недооценивают и в наши дни. Если верить Р. Медведеву, то административный нажим в начале 1928 г. был вынужденней реакцией. "Несомненно, – утверждает автор, –Сталин поначалу не собирался сделать чрезвычайные меры основой политики в деревне на длительное время. Своими директивами он хотел, по-видимому, лишь попугать кулачество и сделать его более уступчивым". Итак, в одном случае, "несомненно", в другом – "по-видимому". А где же доводы? Фактически их нет, ибо нельзя же доказательство видеть в высказывании самого Сталина, сделанном несколько позднее, когда он говорил о нежелательности повторения подобных акций.
Большинство историков рассматривает ту же проблематику много более обстоятельно. И все же так называемый кризис хлебозаготовок чаще всего оценивается в отрыве от других важнейших событий того времени.
В самом деле, неужели случайно совместились начало чрезвычайщины в деревне с пересмотром планов развития промышленности, Шахтинским процессом, наконец, высылкой Троцкого и большой группы его сторонников?
В марте 1928 г. Политбюро рассмотрело финансовый план на текущий хозяйственный год, начавшийся 1 октября 1927 г. Позади уже было 6 месяцев напряженной работы. Председатель Совнаркома, понимая ограниченность оставшегося времени, серьезных перемен не предлагал. Неожиданно он подвергся критике за невнимание к машиностроению и металлургии. Тут же была назначена комиссия в составе Орджоникидзе, Куйбышева и Кржижановского для изыскания дополнительных вложений в капитальное строительство. Рыков в нее уже не вошел. Комиссия поручение выполнила; центральное место в ее предложениях заняли строительство Сталинградского тракторного завода, Уральского завода тяжелого машиностроения, Кузнецкого металлургического комбината, Рост-сельмаша и ряда других больших предприятий. Удельный вес расходов на капитальное строительство в общих затратах на развитие промышленности только за один год удваивался, достигая почти 27 %. Первый практи