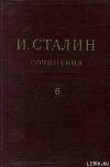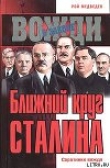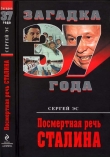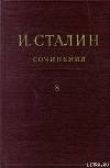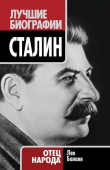Текст книги "Сборник 'Наше отечество' - Опыт политической истории (Часть 2)"
Автор книги: Автор Неизвестен
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 46 страниц)
ческий шаг к сталинской индустриализации состоялся.
В том же месяце газеты сообщили о раскрытии в Шахтинском округе Донбасса вредительской организации, занимавшейся экономической контрреволюцией. Подробнее этот вопрос будет освещен в следующем разделе. Здесь же заметим следующее: суд над инженерно-техническими работниками завершится лишь в июле, однако с помощью газет, партсобраний, разных активов и совещаний уже обсуждается и осуждается деятельность диверсантов, связанных, конечно, с капиталистическим Западом. Нагнетается атмосфера страха и раздражения. В апреле 1928 г. пленум ЦК ВКП (б) рассмотрит итоги "Шахтинского дела" (уже итоги!). Генсек (как теперь установлено, он был главным режиссером этого судебного спектакля) наставлял партию и весь народ: "Шахтинское дело знаменует собой новое серьезное выступление международного капитала и его агентов в нашей стране против Советской власти. Это есть экономическая интервенция в наши внутренние дела". Так говорил руководитель партии, лучше кого-либо знавший абсурдность и фальшь обвинений в адрес невиновных работников, в корыстных целях посаженных на скамью подсудимых. Знал он и другое. В Донбасс выезжала комиссия ЦК ВКП (б) – Каганович, Молотов, Томский, Ярославский. Только Томский, возглавлявший советские профсоюзы, постарался объективно взглянуть на положение вещей. Почти на каждом предприятии он увидел бесхозяйственность, техническую неграмотность, обычную небрежность и не отнес это "к злому умыслу руководителей". Впрочем, остальные члены комиссии отнесли. Украинские работники ОГПУ тоже правильно поняли Сталина. И хотя в Политбюро некоторые расхождения в оценках Шахтинского дела выявились, ни Бухарин, ни Рыков, ни Томский фактическую сторону дела сомнению не подвергли. Тем самым генсек одержал еще одну очень важную для себя победу. Американский историк С. Коэн правильно подметил суть выигрыша. Сталин дискредитировал бухаринскую политику гражданского мира и сотрудничества. Одновременно он ставил в неловкое положение Рыкова, под чьим началом в государственном аппарате работало большинство старых специалистов. Частично был задет и Томский, поскольку профсоюзы тоже отвечали за работу спецов.
По воздействию на политическую жизнь страны Шахтинское дело вряд ли уступало проблеме хлебозагото
вок. Оно действительно помогло выдвинуть кровавый тезис о том, что по мере продвижения к социализму сопротивление врагов Советской власти будет расти, классовая борьба будет обостряться. Значит, репрессии неизбежны. Взаимосвязь чрезвычайных мер в экономической сфере и политической жизни получала свое обоснование. Зерна падали на подготовленную почву.
Аппарат тонко улавливал характер перемен. Именно в 1928 г. заместитель наркома рабоче-крестьянской инспекции РСФСР Н. Янсон направил Генеральному секретарю письмо. В нем четко излагались предложения о массовом применении труда заключенных на земляных работах, на стройках, особенно в отдаленных районах. Центральное место занимала мысль об использовании осужденных на заготовках леса, экспорт которого давал столь необходимую валюту. Поистине зловещим выглядит в письме то место, где говорится о развертывании лагерей на 1 млн. человек. В тексте они названы "экспериментальной емкостью".
Что и говорить: документ страшный и симптоматичный. Посмотрите еще раз. Письмо составляет не работник судебных органов, ГПУ и т. п., а один из руководителей рабоче-крестьянской инспекции. Отправляет его не в Совнарком или ЦИК СССР, а Генеральному секретарю ЦК ВКП (б). Здесь все казалось перевернуто вверх ногами. Однако никакого театра абсурда нет, ибо все делалось по правилам того времени. Можете не сомневаться, Сталин одобрил действия Янсона (вскоре тот станет наркомом юстиции РСФСР); идея создания "экспериментальных емкостей" быстро получит достойное развитие. В частности, экспорт деловой древесины увеличится с 1 млн. кубометров в 1928 г. до 6 млн. кубометров ежегодно в первой половине 30-х годов.
Мы никогда не узнаем, подсчитывал ли Янсон экономическую эффективность своего предложения, родившегося одновременно с тезисом о неизбежности обострения классовой борьбы. А может, предложение было инспирировано. Случалось ведь и такое. Чего не делали ради светлого будущего... Судьба же самого Янсона известна. "Эксперимент" с "емкостями" коснулся и его. В 1938 г. старого большевика расстреляли. Разумеется, не за письмо десятилетней давности.
Возвращаясь к 1928 г., добавим: Сталин извлек выгоду даже из такой акции, какой была ссылка Троцкого в Алма-Ату и высылка группы его активных сторонников
(почти 30 человек). В контексте общего поворота к чрезвычайным мерам разгром левой оппозиции как бы подкреплял тезис о неизбежном обострении классовой борьбы, о переходе в стан противника тех, кто отрицает возможность строительства и победы социализма в одной стране, рушит единство партии, идет на ее раскол во имя личных амбиций.
Вскоре многие вчерашние фракционеры полностью признали свою неправоту и подали заявления с просьбой о восстановлении в ВКП (б); крах левой оппозиции как политической силы стал свершившимся фактом. Наибольший резонанс имело возвращение в партию Пятакова и назначение его торговым представителем СССР во Франции. Всем инакомыслящим предлагалась своего рода дилемма: Алма-Ата или Париж.
Нет, не случайно упомянутые акции проводились одновременно. И изучать их тоже следует комплексно. Переплетаясь между собой, усиливая друг друга, они качественно меняли общественно-политическую жизнь всех слоев населения в городе и деревне. В массовом сознании миллионов людей нарастало ощущение коренных перемен, начавшихся в обществе.
Если мы с учетом этих обстоятельств еще раз обратимся к литературе о хлебном кризисе (о нем пишут больше всего), то увидим излишне одностороннее увлечение темой. Превалирует рассказ о репрессивной политике не только по отношению к кулаку, но и к среднему крестьянству, суммируются сведения о массовых обысках, арестах, изъятиях даже семенного зерна, скота, инвентаря. Так было в Сибири, где побывал генсек, это же происходило на Урале (здесь пребывание Молотова обернулось отстранением от работы 1157 человек). На Северном Кавказе за период с января по март 1928 г. было осуждено по обвинению в сокрытии хлебных запасов и спекуляции 3424 работника, в Сибирском крае – 1589 и т. д.
До конца 80-х годов подобные сведения лишь случайно могли появиться на страницах советской печати. Даже во времена хрущевской оттепели аграрники не успели выпустить обобщающие труды по истории коллективизации. Поэтому легко понять нынешнюю тягу исследователей к статистике, к выявлению цифровых показателей трагической судьбы отечественной деревни. Но не менее важно обратить внимание и на степень организованности тех мероприятий, которые обрушились тогда на деревню.
Перед нами подшивка газет, выходивших в Казахстане в те дни. Читаем одну из них: "Кулак и спекулянт самые злейшие и самые опасные враги. В борьбе с ними не может быть никаких церемоний... Мы не можем сейчас допустить, чтобы кучка отъявленных врагов Советской власти набивала себе карманы, играя на срыве хлебозаготовок". Сразу же оговоримся. Наше внимание привлекло не содержание заметки, а дата выхода газеты "Советская степь" –17 января 1928 г. Сталин еще не доехал до Сибири, Молотов – до Урала, а зарницы поворота к чрезвычайщине уже полыхают, в частности, в далеком Казахстане. Значит, директивы из Москвы получены, в том числе датированная 6 января 1928 г. и подписанная Генеральным секретарем. Призыв к насилию подхвачен. Вот заголовки, типичные для газет: "Кулак вредит бедноте", "Кулак скрывает хлеб", "Шакалы Голодной степи" (начался суд над байско-кулацким товариществом "Земля и труд"); "Кулаков и баев выбросили вон"; "Удары по вредителям заготовок"...
Так изо дня в день печать, партийные организации формировали образ врага. Результат не замедлил сказаться. Вскоре та же "Советская степь" поведала о завершении конфискации в Актюбинском округе. Здесь "У 60 баев-полуфеодалов" кроме скота были изъяты "сельхозинвентарь и разное имущество, как-то: юрт 16, землянок 11, сенокосилок 6, конных грабель 4, лобогреек 7, ковров 26, кошм 26 и т. д." И не заметила редакция того, сколько "эксплуататоров" жили в землянках; лишь немногие из них имели... сенокосилки, конные грабли, ковры да кошмы. Зато секретарь крайкома Компартии Казахстана Ф. И. Голощекин писал в газету "Правда": "Вся кампания проводилась казахской частью нашей организации. Казахские коммунисты выдержали революционный экзамен, твердо стояли на революционном посту".
Через четыре года Голощекин доведет практику насильственных изъятий скота, имущества, продовольствия до "совершенства". В Казахстане начнется страшный голод, последствия которого сказываются поныне. Достаточно сказать, что в 1932–1933 гг. численность коренного населения сократилась примерно на 1,1 млн. человек, а всего умерло около 1,7 млн. жителей республики. Но это произойдет потом, а в 1928 г. еще только накапливается опыт, формируются кадры, складывается психология, без которых массовый произвол невозможен.
Причем на местах неизменно находились работники
аппарата, группы людей, склонные к забеганию вперед, к выдвижению задач, для решения коих не было ни сил, ни условий. Что, например, побудило руководителей Компартии Казахстана выдвигать требование конфискации 1500 хозяйств? ЦК ВКП (б) не поддержал. Как говорил Голощекин, "ограничил нас". Цифру снизили до 700. Но середняки уже были напуганы, продавали скот, готовились к откочевкам. Пришлось официально заверять население, что слухи распускают провокаторы, раскулачивания не будет, а конфискация коснется лишь крупнейших баев".
Не будем, однако, во всем винить местный аппарат.
Изучая документы тех лет, нельзя не увидеть, как сверху во всех республиках и областях вполне целенаправленно поддерживалась линия на скорейшую ликвидацию частного капитала и остатков эксплуататорских классов. Кулаки, нэпманы, баи, баи-полуфеодалы – все они считались злейшими врагами социалистического строительства. Даже на партийных съездах и совещаниях звучали призывы бороться с ними не с помощью законов, а с учетом революционной целесообразности. Тезис об обострении классовой борьбы разжигал страсти, толкал к немедленным действиям, гарантировал поддержку государства. Было бы ошибкой не замечать и глубокой тяги значительной части крестьян к коллективному хозяйству. В итоге политика проведения чрезвычайных мер встречала в деревне не только сопротивление, но и определенную поддержку.
И все же решающую роль в проведении такой политики сыграла партийная дисциплина, скреплявшая собой действия сотен тысяч коммунистов города и деревни, прокуратуры и суда, местных советов, милиции и армии. Вот где проявлялась подлинная сила аппаратного режима, который охватывал собой в равной мере и номенклатуру, и всех, кто работал в крайкомах, губкомах, районных комитетах, непосредственно в первичных организациях.
С высоты 90-х годов несложно говорить о противоречиях такой системы, самого образа жизни правящей партии, об извращениях и прямом обмане, которые высшие органы ввели в повседневную практику задолго до конца 20-х годов. Но разве будущие лидеры так называемого правого уклона не знали в свое время о существовании "тройки" в составе Политбюро? Позднее все они были членами "семерки", тайно организованной для отсечения Троцкого. Или Бухарин забыл, как вместе с Преоб
раженским написал "Азбуку коммунизма"? То была популярнейшая книжка, излагавшая для многомиллионных масс суть и дух партийной программы, принятой в 1919 г. Пронизанная идеями военно-коммунистической идеологии, она ориентировала на быстрое строительство социализма, в котором нет рыночных отношений, налажен прямой продуктообмен, государство выступает единым собственником всего произведенного, главным субъектом революционных преобразований.
Введение нэпа потребовало переработки едва ли не всех глав. Сделать это не удалось, а с помощью небольших корректив изменить прежний настрой книжки было невозможно, и она продолжала воспитывать ярых сторонников административно-командной системы руководства как партией, так и страной. Хотел того Бухарин или нет, но вместе со всеми членами Политбюро он прививал партии те же манеры поведения, те же достоинства и недостатки, которые характеризовали все руководство.
Возможно поэтому "правые уклонисты", выступив против чрезвычайных мер в сельском хозяйстве и максимальных вложений в строительство тяжелой индустрии, поднявшись на публичный спор с Генеральным секретарем, открыто к партии не обратились, а в печати пользовались эзоповским языком. Спорили и ругались лишь на заседаниях Политбюро, на Пленумах ЦК, обменивались секретными письмами, т. е. сознательно скрывали свои разногласия даже от коммунистов. Неужто Бухарин, Рыков, Томский надеялись переубедить Сталина и его команду в личных контактах? Или надеялись на поддержку членов ЦК?
Внешне столкновение напоминало перетягивание каната. Сталин временами шел на уступки, давал заверения в верности принципам нэпа, а на практике масштабы начавшегося поворота разрастались. По мнению многих специалистов, в том числе С. Коэна, крупнейшего знатока биографии Бухарина, позиции последнего были достаточно сильны, и летом 1928 г. положение генсека было чуть ли не критическим. Но присмотритесь, с помощью каких источников делаются подобные умозаключения. По сути дела с помощью косвенных свидетельств, воспоминаний излишне субъективный характер которых очевиден, наконец, с помощью письменных записей Каменева, сделанных им в связи с их разговором с Бухариным. Встреча состоялась 11 июля 1928 г. Сам факт этой встречи убеждал, сколь растерян недавний обвинитель Камене
ва, ближайший соратник Сталина по борьбе с оппозицией в 1923–1927 гг.
Оценивая разговор вчерашних сторонников, едва ли не все историки воспроизводят мнение Бухарина о расстановке сил в руководстве, о наличии у него влиятельных сторонников, о колебании ряда членов Политбюро и т. п. Думается, куда более важным было суждение о стратегии Сталина. Лидер "правых" осознал дилемму: "Выступать в открытую или не выступать? Если выступим, нас срежут как отщепенцев. Если не выступим, нас срежут несколькими шахматными ходами и взвалят на нас вину, если в октябре не будет хлеба".
На наш взгляд, Бухарин, Рыков, Томский лучше знали свою партию и обстановку в стране, нежели это представляется многим нынешним авторам. Слов нет, положение Сталина и его окружения было очень сложным. Но главная трудность определялась не сопротивлением группы членов Политбюро. Трудным, более чем трудным оказался поворот к новой стратегической линии, призванной ускорить революционное преобразование общества. Требовалось время для переориентации самой партии, общественных организаций, для разъяснительной работы среди населения, в первую очередь в пролетарских центрах. Большое значение придавалось Коминтерну. Сталинцы со своими задачами справились. Маневрируя в Политбюро, в ЦК, рассылая документы, составленные в примирительном духе, они нейтрализовали лидеров "уклона", на время успокоили деревню. Мобилизация партаппарата позволила успешно провести в 1928 году очередные съезды комсомола, профсоюзов и Конгресс Коминтерна. Одновременно отстранялись от прежней работы и переводились на второстепенную многие руководители, близкие к Бухарину, Рыкову, Томскому. Имена последних (в качестве правых) еще не фигурировали в печати. Но весь ход VI Конгресса Коминтерна, закончившегося в сентябре 1928 г., нападки на председателя Исполкома, разговоры о нем в кулуарах сомнений не вызывали: Бухарин потерял доверие ВКП(б) и будет заменен (что и произошло весной 1929 г.). А на VI съезде профсоюзов в руководство ВЦСПС были кооптированы Каганович и еще несколько партийцев подобного настроя. Протесты Томского поддержки не получили. Его даже избрали председателем. Но, отлично понимая происходящее, он от работы самоустранился.
Ныне о причинах стремительного восхождения Стали
на к единовластию говорится и пишется как никогда много. Однако мало изучаются его самооценки. Между тем они поучительны. Прислушаемся к одной из них. В 1937 г. в узком кругу своих приближенных он сказал прямо: "Известно, что Троцкий после Ленина был самый популярный в нашей стране. Популярны были Бухарин, Зиновьев, Рыков, Томский. Нас мало знали, меня, Молотова, Ворошилова, Калинина. Тогда мы были практиками во времена Ленина, его сотрудниками. Но нас поддерживали средние кадры, разъясняли наши позиции массам. А Троцкий не обращал на эти кадры никакого внимания. Главное в этих средних кадрах. Генералы ничего не могут сделать без хорошего офицерства".
Так, не мудрствуя лукаво, вождь в редкую минуту откровения признал решающую роль аппарата в формировании режима личной власти. Посмотрите еще раз на перечень упомянутых "генералов". Первым идет Троцкий. Дело тут не в хронологии. Самый популярный после Ленина, он был и самым тяжелым противником Сталина. Таким оставался и после высылки в Алма-Ату, и после изгнания за границу в 1929 г. С Зиновьевым и Каменевым было уже проще. После крушения этих титанов ленинской гвардии группа Бухарина не представляла для Сталина тех трудностей, которые якобы выпали на него в заключительный час утверждения собственной диктатуры.
Можно спорить, кто из названных соперников был сильнее, у кого было в партии и стране больше сторонников, но бесспорно главное: Сталин на исходе 20-х годов намного превосходил генсека, избранного в 1922 г. Превосходил опытом, изощренностью, организационными возможностями, сознанием превосходства над окружением, разросшимся чувством безнаказанности. Не нужно забывать и о том, сколь стремительно и безостановочно восходила его звезда – от одного из рядовых членов партийного руководства в 1917 г. до первого человека в партии и стране. Да только ли в стране? Его образ мыслей, действий пронизали собою и Коминтерн. В 1929 г. Клара Цеткин, оставаясь одним из ведущих деятелей германского революционного движения, с предельной откровенностью писала, что этот международный центр превратился "из живого политического организма в мертвый механизм, который, с одной стороны, проглатывает приказы на русском языке и, с другой, выдает их на различных языках, механизм, превративший огромное всемирно-историческое знание и содержание русской революции в правила Пиквикского клуба".
Не будем приписывать сию "заслугу" одному человеку, но не будем и умалять вклад Генерального секретаря ЦК ВКП (б), который уже в 1929 г. благосклонно разрешил приветствовать себя как вождя мирового пролетариата.
Невозможно поверить, будто окружение генсека, Центральный Комитет, партаппарат, вся партийная общественность не учитывали этих обстоятельств в пору шумной провокационной кампании против "правого уклона". А ведь мы не сказали еще об одном приводном ремне в политическом механизме Сталина. Уже в начале 20-х годов, едва став генсеком, он прочно связал работу некоторых звеньев ГПУ непосредственно с практикой собственной борьбы за власть. И задолго до Шахтинского процесса развернулась слежка за членами оппозиции. Потом их начали преследовать, незаконно высылать. Сфабрикованные таким образом материалы официально использовались для "разоблачения" сначала "левых", потом "правых". Шахтинский процесс развязал руки организаторам таких дел. Начались массовые аресты "вредителей", которых обнаруживали буквально во всех отраслях промышленности. И нужно откровенно признать, что при наличии определенной растерянности, разных форм пассивного сопротивления, массового протеста подобного рода беззакония не встречали. Наоборот, в печати, на собраниях действия чекистов получали одобрение, чаще всего отражавшее подлинное отношение к "спецам".
Между прочим, Бухарин числился членом коллегии ГПУ. Мог бы догадаться о последствиях своей встречи с опальным Каменевым. Видимо, растерялся, нервничал сверх меры, даже разрешил Каменеву делать записи по ходу беседы. Может, не стоит гадать, в силу каких причин содержание дошло до Сталина? Разразился неприличный скандал, усугубивший противостояние сторон и активно настроивший против "правых" все руководство.
Сегодняшнее обращение к архивным документам, прежде недоступным, помогает понять, почему на устранение Троцкого, Зиновьева, Каменева ушло не менее пяти лет, а разгром "правого уклона" потребовал год с небольшим. Высвечивается и стиль борьбы сталинской группы за свое упрочение, а потому и за радикальный отказ от нэпа, во имя чего (по старинке) создавался образ врага. В результате облегчалась мобилизация сил партии, рабочего класса, значительных слоев крестьянства на ликвидацию кулачества, последних эксплуататоров, противников индустриа
лизации, их идейных вдохновителей и организаторов. Иначе говоря, если бы "правого уклона" не было, его следовало придумать. В принципе так и произошло.
С тех пор в нашей литературе преобладает мнение, будто дальнейший подъем промышленности на рельсах нэпа не имел перспективы. Довод прост: начиналось новое строительство в таких масштабах, которые требовали иных способов изыскания средств и принципиально других методов управления. Идет этот довод от тех времен, когда было принято ссылаться только на Сталина и на его сподвижников. Цитаты наконец исчезли. А вывод остался. Мол, возможности нэпа были исчерпаны самим ходом восстановления народного хозяйства. Порой приводятся цифры, характеризующие износ оборудования, сравнительно невысокую эффективность производства, дороговизну нового строительства, нехватку квалифицированных специалистов и т. п. В отдельных случаях говорится даже о... развале промышленности, чуть ли не ее агонии. Непременно используется довод о военной угрозе, якобы ставшей реальностью в 1927 г. Выходит так, будто сама отсталость экономики и капиталистическое окружение делали неизбежной постановку вопроса о скачке, о сверхнапряжении сил народа, об использовании приемов и методов "военного коммунизма" во имя быстрейшего преодоления разрыва со странами развитого капитализма. На словах получается как бы объяснение причин, породивших административно-командную систему, а на деле (независимо от желания авторов) – ее оправдание, разумеется, с тривиальными оговорками об отрицательном отношении к репрессиям, к массовому нарушению законности, к сталинизму в целом.
Приходится снова повторить: многие историки, экономисты, философы, публицисты словно не видят прямой связи между внутрипартийной борьбой и выбором пути хозяйственного и социально-политического развития страны. Схватка за единовластие, которая развернулась в 1923 г., когда главным врагом был объявлен Троцкий, и закончилась в 1929 г. поражением группы Бухарина, причинила невосполнимый урон практике начинавшегося движения на рельсах нэпа, делу индустриального преобразования страны. Свертывание внутрипартийной демократии быстро реанимировало привычки и методы десятилетней давности, стимулировало командное руководство, изживало сам дух состязательности, предприимчивости, плюрализма, поиска альтернатив.
Едва ли нужно объяснять, какие слои населения и аппарата чувствовали себя в этих условиях все более вольготно. Если Л. Б. Красин и Г. Я. Сокольников выступали против автаркии и предлагали плановую работу приспособить к рынку, то Г. М. Кржижановский и С. Г. Стру-милин жестко ратовали за противоположное. Экономисты В. А. Базаров и Н. Д. Кондратьев выдвигали идею оптимума, настойчиво показывали опасность чрезмерного отрыва тяжелой индустрии от легкой, писали о необходимости соблюдения пропорций между новым строительством и темпом роста сельского хозяйства. Тем временем А. М. Лежава, возглавлявший Госплан РСФСР, прямо говорил о нехватке средств, побуждающей форсировать подъем одних отраслей за счет остальных. "Это будет,– подчеркивал он,– систематическим диспропорциональным ведением нашего хозяйства. Мы сознательно будем вести наш корабль в различные диспропорции: сегодня одни, завтра другие". В 1927 г. Микоян хвастливо отмечал, что "крестьянская стихия, крестьянский хлебный рынок находятся целиком и полностью в наших руках, мы можем в любое время понизить и повысить цены на хлеб, мы имеем все рычаги воздействия в своих руках..." Вскоре он публично заявил о достижении высот, "когда становится возможным сознательное регламентирование меновых норм. Мы уже сейчас практикуем государственное нормирование цен по ряду важнейших продуктов сельского хозяйства и промышленности".
Увы, нарком внутренней и внешней торговли выражал отнюдь не свою сугубо личную точку зрения. Фактически это была линия, которую упорно проводило большинство членов ЦК и Политбюро ЦК ВКП(б) того времени. Можно ли в таком случае изучать политику, игнорируя или сводя к минимуму роль субъективного фактора? Вспомним еще раз события 1928 г. Выступая весной с разъяснением положения на хлебном, как он говорил, фронте, Сталин предостерег от любых мыслей насчет замедления темпов развития индустрии. Наоборот, ставилась задача сохранить намеченные темпы и развивать их дальше. А ведь в крупной промышленности подошли вплотную к 25 % роста. Дальнейшее форсирование обостряло проблему накоплений. Выход был предложен Сталиным в речи на июльском (1928 г.) Пленуме ЦК ВКП(б), опубликованной впервые только после войны. В ней он не просто затронул вопрос о переплатах деревни за подъем индустрии, но заговорил о "дани", о "сверхналоге" с крестьян
и связал эту проблему с необходимостью "сохранить и развить дальше нынешний темп развития индустрии". Одновременно в речи получил обоснование тезис об обострении классовой борьбы по мере продвижения страны к социализму.
Куйбышев понял эту линию еще в 1928 г. и сразу стал ее энергичным проводником. Не случайно именно ВСНХ было поручено составление промышленной части пятилетнего плана. "Вопрос о темпах,– говорил Куйбышев,– является важнейшим вопросом нашей партийной политики. Это принципиальный вопрос, по которому наша партия большевиков не должна делать ни малейших уступок". В той же речи, которая была произнесена в Ленинграде 19 сентября 1928 г., он повторял вслед за генсеком: "Чем успешнее будет идти дело социалистического строительства, тем в большей степени будет нарастать сопротивление и противодействие со стороны враждебных нам сил как внутри, так и извне.
Отмирание классов – конечный результат всего нашего развития – должно и будет, конечно, протекать в обстановке обостряющейся борьбы классов".
Значит, линия намечалась единая и для города, и для деревни. Методы ее реализации тоже совпадали: административный нажим, директивное планирование, безусловное подчинение центру, применение, если требуется, экстраординарных мер. Что ж тут оставалось от нэпа?
Главным оппонентом выступил Бухарин. Споры на закрытых заседаниях Политбюро, на пленумах ЦК в апреле и в июле 1928 г. остались позади. В "Правде" появилась его статья, названная спокойно, даже нейтрально "Заметки экономиста. К началу нового хозяйственного года". Автор твердо отстаивал решения XV съезда партии, ленинские идеи использования нэпа в интересах строительства социализма. Он по-прежнему стоял за возможно более бескризисное общественное воспроизводство в интересах пролетариата и его многомиллионного союзника. "Наивно полагать,– писал Бухарин,– будто максимум годовой перекачки из крестьянского хозяйства в промышленность обеспечит максимальный темп индустриализации. Нет, длительно наивысший темп получится лишь при таком сочетании, когда промышленность подымается на активно растущем сельском хозяйстве, обеспечивающем быстрое реальное накопление. Социалистическая индустриализация – это не паразитарный по отношению к деревне процесс... а средство ее величайшего преобразования и подъема".
Автор справедливо писал о нарастающем дисбалансе между планами массового сооружения новых предприятий и наличием стройматериалов, о том, что деньги сами по себе не могут толкать промышленность вперед. Нужны кадры, техника, время на овеществление замыслов, иначе произойдет перенапряжение капитальных затрат, что повлечет за собой снижение темпов, свертывание начальных работ, усиление диспропорций между различными производствами и отраслями. Так можно лишь обострить товарный голод, а не изжить его.
"Заметки экономиста" заканчивались глубокими рассуждениями об общих сложностях реконструктивного периода, о наличии бюрократических преград, излишней гиперцентрализации, то есть о препятствиях, сдерживающих творчество масс. "У нас,– заключает автор,– должен быть пущен в ход, сделан мобильным максимум хозяйственных факторов, работающих на социализм. Это предполагает сложнейшую комбинацию личной, групповой, массовой, общественной и государственной инициативы".
В статье Бухарина практически отвергается предложенный Сталиным путь последующего преобразования экономики.
Здесь не обойтись без оговорки. В статье имя Сталина не фигурировало. Автор весь свой запал направил против троцкистов, которых он по-прежнему клял за тягу к перенапряженному развитию. Мимикрия Бухарина мало помогла делу. Многие читатели просто не поняли запал, ведь Троцкий уже был изгнан. А вот главный адресат, конечно, догадался. Поначалу промолчал. Почувствовал неуверенность автора? Или увидел алогизм своего нажима?
Ситуация складывалась непростая. 1 октября 1928 г. официально началось выполнение плана, намеченного на 1928/29–1932/33 гг. Но задания не были еще опубликованы, они не были даже утверждены. Что касается раздела по промышленности, то работа над ним находилась в разгаре. 7 октября 1928 г. Куйбышев в доверительном письме к жене рассказывает: "Вот что волновало меня вчера и сегодня: баланса я свести не могу и, так как решительно не могу пойти на сокращение капитальных работ (сокращение темпа), придется брать на себя задачу почти непосильную в области снижения себестоимости". Еще удивительнее очередное письмо, написанное 12 октября 1928 г., где он рассказывает, как после нескольких дней неудачных поисков получил задание –за ночь "да еще с обязательством к утру свести баланс по контрольным цифрам
(легко сказать!)". Кто же мог давать такое императивное указание председателю ВСНХ СССР? Ответ напрашивается только однозначный.
В ноябре на заседании правительства снова обсуждается проблема темпов, возможность максимального увеличения вложений в тяжелую индустрию. Рыков, руководивший обсуждением, бросил реплику насчет сохранения при этом рыночного равновесия. Куйбышев не согласился: "Говорить о полном равновесии спроса и предложения – значит коренным образом переворачивать соотношение между тяжелой и легкой промышленностью, делать кардинальную ошибку с точки зрения перспектив развития... Несоответствие между спросом и предложением толкает промышленность на быстрое развитие, оно свидетельствует о росте благосостояния, являясь стимулирующим моментом для индустриализации".