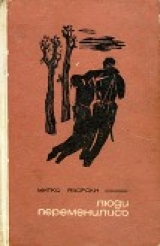
Текст книги "Люди переменились"
Автор книги: Автор Неизвестен
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 22 страниц)
– Устал я, – добродушно сказал Марин, поклонился и, прижимая к груди кларнет, пошел прочь.
Хоро распалось. Тотка шла медленно, чтобы Мишо мог нагнать ее.
– Эх ты, неопытная, он не должен знать, что приглянулся тебе. Оттолкнешь этим парня и вообще все испортить можешь, – поучала ее Донка.
Тотка не соглашалась с ней, но и сама не поняла, почему вдруг заспешила за подругой.
Они свернули в боковую улочку и, притаившись в темноте, пропустили вперед озирающегося по сторонам Мишо Бочварова. Он вошел в дом с тем наполнившим его нежным чувством, которое родилось на хоро. Мать его не услышала.
*
Через несколько дней начали возить снопы. С раннего утра по всем дорогам заскрипели телеги. За несколько дней опустели поля. На гумнах поднялись скирды хлеба. В нижнем конце села затарахтела молотилка. Люди проверяли, теряет ли она зерно, какую солому дает, договаривались с машинистом.
«Бульдог» завернул в распахнутые ворота Караколювцев.
Ввезли молотилку, установили ее.
– Все наспех, наспех, – бормотал дед Габю, гоня через двор одуревшую от шума буйволицу.
– Габю, оставь скотину, да иди зови молотильщиков, – прикрикнула на него жена.
С Биязом и Мишо Бочваровым дед Габю уже договорился, и теперь заспешил к дому своего старшего брата.
– Колю, Колю!
Толстуха Станка, братнина сноха, еще сонная, в расстегнутом платье, накинутом поверх рубахи, подошла, унимая собаку.
– Пошла, пошла! Заходи.
– Муж твой где?
– Зачем тебе?
– Молотить будем.
– Что так рано, дядя?
– Коли мужа нету, бери вилы и приходи скорей! – сердито крикнул ей дед.
Взметывая дорожную пыль широкими постолами, он сердито бубнил себе под нос:
– Жди, покуда притащится! Пока повернется, рассветет, вот и жди от нее работы. Разъелась, как свинья, а юбки шьет узкие, чтоб зад выпирал… Нашла, что показывать.
На притаившемся под бугром гумне Караколювцев повисло темное облако пыли. Мишо Бочварову оставалось еще несколько дней отпуска. Он был рад, что Караколювцы позвали его помогать. Они же и помогут в свою очередь управиться с молотьбой его матери. Дед Габю посмотрел на его широкую спину, любо было ему глядеть на чужую силу. «Бывают рослые, да сырые, а этот – каленый».
Густая пыль заполняла сарай. Женщины повязали платки так, чтобы закрыть лицо и рот, блестели одни глаза, и Мишо никого не мог узнать.
– Эй ты, кто там, полезай утаптывать! – Он вздрогнул от повелительного женского окрика.
Мишо Бочваров воткнул вилы в солому и перешел, куда сказали. В углу сарая перекидывала солому Тотка.
– Ох и пылища, – сказала толстая Станка. – Только для молодых работа.
– Это тебе молотьба! Что, хочешь, чтобы как в церкви пахло? – поддел ее Недко Паша.
В это время взгляды Мишо и Тотки встретились. Густая пыль помогла им скрыть смущение. Мишо утаптывал солому, которую подавала Тотка.
– Эй вы там, завалит вас соломой! – крикнула Станка.
– Это им на руку будет! – подхватила шутку другая женщина.
Снаружи что-то проскрежетало, мотор захлебнулся и умолк. Длинный ремень растоптанным червем изогнулся по пыльному гумну.
– Хорошо, что сломалась, а то бы уморила нас здесь! – Станка закашлялась и выскочила наружу; опершись на вилы, сплевывала черную слюну.
Недко Паша тоже вышел. Глаза Тотки запорошило остью. Она моргала, жмурилась. Мишо спрыгнул к ней. Взял за руку.
– Только не три их, не три, – сказал он.
Она улыбнулась под пыльным платком, закрывавшим ее лицо. Ей было приятно прикосновение сильной руки Мишо. Она радостно смотрела на него сквозь слезы, застилавшие ей глаза.
– Прошло? – Мишо еще сильнее сжал ее руку и притянул к себе. Она услышала его учащенное дыхание, рванулась. Но Мишо обнял ее, крепко прижимая к груди. Ухватил зубами край платка и дернул его на сторону. Губы их встретились.
Снаружи снова застучали сита молотилки. Мишо и Тотка быстро взялись за вилы. Вошла Станка.
– Эй, люди, что же не вышли глотнуть свежего воздуха. У меня уж грудь забило.
– Откуда же мы знали, что так долго поправлять будут, – ответила Тотка.
«Как догадалась, что сказать! И так спокойно, будто ничего не случилось», – дивился Мишо, перебрасывая солому вглубь риги.
Со двора подал голос Караколювец.
– Эй, люди, утаптывайте, а то если так пойдет, половина останется во дворе!
– Топчем, топчем! – ответил Мишо, подпрыгивая на соломе.
Тотка снова завязала рот платком. Ее глаза весело блестели под запыленными бровями.
Умолк мотор. Перестала дрожать листва шелковицы. Пыль улеглась на крыши и на деревья. Только теперь машинист присел, устало закрыл глаза. Караколювец поглядел на него и заявил:
– И вреда от вас немало!
– Чего? – удивился машинист.
– После вас телегу придется запрягать, чтобы пыль да дым вывезти, – весело сказал Караколювец.
Машинист промолчал, отвернулся. Дед Габю сочувственно глянул на него и сказал:
– Я, знамо дело, шучу. Не люблю обижать людей.
– Пожалуйте закусить, – приглашала Вагрила молотильщиков. Поплескав водой на глаза, они устало поднялись по дощатой лестнице. Жена машиниста, прикрыв нос белым платочком, бойко простучала по двору тонкими каблуками и тоже прошла в дом. Караколювец проводил ее взглядом, прищурился, подумав о чем-то.
Машинист отвез молотилку в соседний двор и только тогда пришел.
– Главное, чтобы хлеб был в амбаре. Случается, хватят дожди, копны-то и прорастают, – весело басил дед Габю.
– На здоровье! – чокался с ним Бияз.
– Обмолотился ведь, большая забота с плеч долой!
– Да, жевать хлеб не трудно…
– Глотка мала у человека, не то бы весь свет разом проглотил.
Машинист последним спускался по лестнице. Неясная мысль, мелькнувшая недавно в голове Караколювца, стала отчетливой: «Устал человек и от жены, не только от работы. Она нос платком закрывает. Коли так, небось, и к себе его не подпустит».
Во двор вошли буйволы и направились к колоде с водой.
*
Проходили последние дни отпуска Мишо Бочварова. Стремился больше дел переделать, и даже случалось ему опаздывать на свидания с Тоткой.
Ненадолго умолкало село в короткие летние ночи; тишина едва коснется домов – и уже разбивает ее хлопанье птичьих крыльев, кашель спозаранок поднявшегося хозяина. Серебряные лопаты зари быстро выгребали мрак из ложбин. Солнце выбеливало небо, над пустыми полями, пожухнувшими садами нависал сухой зной.
На пустой площади перед общиной одиноко стоял в ожидании Мишо Бочваров. Тесная солдатская куртка туго охватывала его широкие плечи. Подошла какая-то баба с подвязанной щекой. Стала рядом, ожидая попутной машины.
– Проклятый зуб, приспичило же сейчас заболеть. Хотели с невесткой фасоль убирать, да вот… подождет теперь работа. Застану ли доктора дома?
– Куда он денется, не сеет, не жнет, – хмуро ответил Мишо.
– Дай бог, не то пропадет день впустую, – она глянула на солнце и снова заохала.
Мишо радостно вздрогнул от легкого звона медных ведер. Обернулся. Навстречу шла Тотка. Они встретились взглядами. Присутствие женщины их смущало, и они не решились заговорить.
– Куда это ты, Тота? – спросила баба.
– За водой.
– Да у вас же колодец во дворе.
– Есть, да полотно хочу отбелить.
– Оставь это дело, Тота, – баба вместе с ней вышла на шоссе. – Где его ни постелешь сейчас, пылью покроется…
Коромысло спокойно лежало на округлых сильных плечах Тотки. Мишо взял чемоданчик и быстро пошел к городу. Он слышал звонкий шепот меди, видел покачивающуюся фигуру Тотки, и дорога легко ложилась под ноги.
*
Буйволы нетерпеливо постукивали копытами по запекшейся дороге. Давно уже не было дождя. Караколювец смотрел на небо, покашливал, бормотал что-то под нос.
Из-за поворота вывернулся на телеге Бияз, позади него сидела Тотка.
– Доброго здоровья, дед Габю.
– В город, что ли?
– Кончаю с бахчой, решил еще одну телегу дынь продать.
– Свези их не на базар, а к фабричным.
– Там лучше расходятся, – согласился Бияз.
– Народ на фабрике – что скотина весной, как увидит свежую зелень – не нюхает, какова она.
– Но! – поднял вожжи Бияз.
– Трифон, – снова остановил его Караколювец. – Я тут со стариками, с пастухами нашими, разговаривал. Державы европейские ровно псы рычат друг на друга, вот-вот сцепятся. Державы, они, как люди: разругались – и в драку. Ты возьми в городе газету, внук мне почитает.
– Ладно, Габю.
– Трифон, наверное, забудешь. Хоть бы Тотка вспомнила.
– Куплю, дед Габю, – заверила его та.
Бияз хлестнул лошадку, а Караколювец поспешил за буйволами, приговаривая.
– И в луга уже не заходят. Дождь нужен, и для пахоты нужен…
На базаре Бияз распряг телегу. Смахнул солому с дынь. Люди проходили мимо. «В город приехать – только день зря потерять», – досадовал он.
«Пустят ли Мишо в увольнение», – беспокоилась Тотка, выглядывая солдат в базарной сутолоке.
– Чего встала столбом, ступай пройдись, – буркнул Бияз.
Слова отца придали ей смелости, и она решила пойти к казарме. Отряхнула платье, поправила платок, и, вслушиваясь в свое настроение, видела, что сегодня ей хотелось быть во всем особенной.
На главной улице ее увидел Митю Христов и, сам не зная зачем, пошел следом.
Тотка остановилась перед воротами казармы, Митю нахмурился. «Ищет кого-то. Кого бы это?» и свернул в боковую улочку, чтобы Тотка не заметила его.
– К милому? – вышел к Тотке высокий фельдфебель.
– К брату.
– К брату, а сама вся краской залилась.
Тотка провела рукой по щекам с неосознанным желанием скрыть румянец.
– И с братом позволяем свидание, и с милым, – успокоил ее фельдфебель.
Скоро пришел Мишо Бочваров.
– Что в селе нового?
– Как ты, кормят хорошо?
– Рад, что увиделись.
– Дыни продаем с батей.
– Новость знаешь?
– Какую новость?
– Война началась.
– Какая война?
– Сегодня утром Германия напала на Польшу!
«Мишо Бочваров… Когда это он ей стал ухажером?» – сначала с удивлением, а потом раздраженно думал Митю Христов. Он одернул куртку, оглядел свои бриджи.
Гордо подняв голову, с сознанием собственной силы, которое давала ему форма, он вышел из-за угла и еще издалека крикнул:
– Здорово, земляк!
– Здравствуй.
Тотка вздрогнула, услышав знакомый голос, но не посмела обернуться, и прогоняя воспоминание о нем, мелькнувшее в голове, снова спросила:
– Стало быть, хорошо вас кормят?
– Как бы то ни было, конец близок! Через два месяца нас уволят.
– Свидание кончилось, – вышел фельдфебель.
Тотка осталась одна на шумной улице, но ей все казалось, что Мишо рядом, и она напевала тихонько. Но время от времени мелодия в ее душе обрывалась. Почему? Она замедлила шаги, ощутив на себе чей-то взгляд. «Он!» – вздрогнула она, поняв, чьи шаги догоняют ее. Сердце ее сжалось.
– Из-за него меня бросила?
Тотка вздрогнула от неясного мучительного предчувствия и свернула в сторону.
«Сегодня утром началась война», – повторила она слова Мишо. И только теперь поняла, что они означают многое. В сердце ее незаметно пробрался страх, и так как она не знала чего, собственно, боится, он надолго остался в ее груди.
Отец ее распродавал дыни.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Снова холода сдавили село, и оно лежало в дремотном спокойствии, словно озимь под толстым слоем снега. Дни тянулись одинаковые, как близнецы. Но все чаще в разговорах о посевах и скоте проскальзывала весть, что где-то кого-то арестовали.
Люди тревожно вздрагивали, боялись за молодых и с жадным нетерпением вглядывались в будущее. Им хотелось, чтобы завтрашний день был такой, как вчерашний. Тревоги большого мира, лежащего далеко за пределами их обыденной жизни, были им в тягость. Однако они понимали, что, как бы ни хотел человек отгородиться, уйти в свою скорлупу, он все равно неизбежно оказывается связанным с другими людьми.
*
Снег сверкал и искрился под лучами зимнего солнца. Морозный воздух покалывал ноздри, и даже в полдень руки прилипали к железным ручкам дверей.
В такие дни Караколювец любил побыть один. Зимой забот было меньше, да и постарел уже и не совался все время сделать то или другое. Петкан накормил скотину, и дед Габю, зная, что сегодня отдохнет, с облегчением растянулся на кровати. Взгляд его блуждал по старым балкам, источенным шашелем, а в голове лениво кружились мысли. «Что ни случись на земле, человек есть человек. Молод, силен, хорохорится, то сделаю, это изменю; под конец сдаст, как и все, и начинает думать, добро или зло сотворили руки его и душа его. Рано или поздно обрывается нитка. Хорошо, что хоть в этом для всех одинаково. А то богатые откупились бы и уже ничего бы не боялись. И куда, куда хуже была бы жизнь. Знай человек, что не умрет, яд змеиный был бы слабее слюны его».
Петкан прикрутил фитиль керосиновой лампы.
– Листву завтра будем возить?
– Не дадите человеку думу додумать. – Караколювец поднял сивую, как кудель, голову. – Пойду сани искать.
Он вышел на улицу. Дома, притихшие в синеватом морозе, молчали. На площади сверкали окнами общинный дом и корчма. В общинное правление Караколювец заходил, только когда платил налоги. Опустив голову, словно подсчитывая что-то на ходу, он направился к корчме. Войдя, спиной прихлопнул дверь и быстро обвел взглядом столы. К нему подошли его кум Кыню Христов и Христо Семов. Оба были пьяны.
– Крестный, дай руку тебе поцелую, – завопил! Кыню.
Дед Габю спрятал руку за спину.
– Дай ему руку, венчал же его, – пристал к нему и шатающийся Христо Семов.
«С пьяными связываться…» – шагнул, к выходу Караколювец, но Кыню загородил ему дорогу.
– Я командир второй армии, всех вас перебью! – орал он.
Христо Семов наскакивал на Караколювца.
– Прошлой осенью мне буйволицу не продал, а почему, спрашиваю?
Кыню повалился и съехал вниз по обледеневшим ступенькам крыльца, цепляясь за них слабыми, дрожащими пальцами.
Караколювец неохотно направился к другой корчме и войдя, остановился. Белый свет ослепил его, и он, вытянув руку, пошел между столами. Дед Цоню потеснился к Биязу. Он сел с ними рядом и вслушался в разговор.
– Говорю тебе, сбился мир с пути, не туда свернул.
Караколювец по привычке возразил:
– Не всякий поворот – к беде…
– Не о том речь, – перебил его дед Цоню. – Государства передрались, а это не к добру. Неизвестно еще, что станет. Война, она, как наводнение, не может только один берег залить…
– Старуха – то у меня все хворает – принялся рассказывать Бияз. В город ходит, докторам показывается. Что у нее болит, не могу сказать, а все худо ей… Так вот, идет она как-то раз по главной улице, остановили ее полицейские. Арестантов вели. Среди них узнала одного; у Байдана в корчме познакомились, хороший человек. И после, как ходил в город дочь проведать, несколько раз с ним встречался. Даже и здесь у меня гостил. Стало быть, арестовали его…
– Когда людей не арестовывали?
– Нынче за иные дела сажают, – возразил Караколювцу дед Цоню.
А у того уже были свои мысли.
– Хороший человек, говоришь. Только и болтают: эта партия такая, другая – этакая… Ты мне людей ее покажи. Мы-то люди, и самое для нас важное – каков человек.
– Эй, Габю, Габю, – засмеялся дед Цоню. – Человек есть самая дешевая вещь.
Бияз заплатил за рюмку вина и вышел.
– Добрый человек, – сказал о нем дед Цоню.
– Добрый, да мягкий. А мягкие-то, как резина, гнутся. А ведь люди дома свои из камня ставят, – улыбнулся Караколювец и добавил: – Сани мне надобны, листвы привезти.
– Не найдешь саней, ни у кого нет. Потому-то люди и стараются летом все дела переделать.
Караколювец недовольно закусил ус и молча вышел. Снег скрипел под его широкими постолами. Сам того не желая, он начал думать о том случае, про который ему напомнил Христо Семов.
Осенью в прошлом году отвел он на базар одну буйволицу, откормленную и хорошей породы. Смотрели ее и те, кто не собирался покупать. Караколювец назвал цену и от нее не отступался. К вечеру почти уже сторговался с одним из Кормянского края, да тот недодавал еще полсотни левов. Покупатель смотрел на скотину, а дед Габю оценивал его самого. По одежде было видно, что человек с характером и зажиточный. Покупатель ему понравился, и он хотел уже сбавить четвертную, когда в торг вмешался Христо Семов.
– Даю твою цену, – и протянул руку.
– Продал уже, вот ему, – и дед пошел с кормянчанином оформлять продажу.
– Пьяница он, – пояснил Караколювец покупателю. – Через двор живем, не хочу слушать, как скотина будет реветь непоенная, некормленная. А ты хоть зарежь – все не на глазах.
– За скотом хорошо смотрю.
– Понял я, потому и уступил…
…Собака путалась у него в ногах: подошел к дому. Мысли его прервались.
– Нету саней. – Он сердито оглядел комнату и лег на кровать.
– На телеге поедем, – сказал Петкан.
– В такую пору?
– Один поеду.
– Твое дело.
*
На заснеженном дворе зазвенело утро, медленно осветились сугробы под плетнями. Петух, прокукарекав в синее небо, спрыгнул с шелковицы.
Петкан резко дернул поводья. Под колесами захрустел синеватый лед. Габювица посмотрела на пустынную дорогу и сказала:
– Гололед, не вышло бы чего.
– Топор взял? – догнал повозку дед и выхватил из рук сына поводья.
Зарекся за листвой не ездить, но когда телега заскрипела по двору, не выдержал. С сыном разговоры обычно не клеились, и оба всю дорогу молчали.
Перед деревом, на котором хранились нарезанные ветки с листьями, завернули телегу. Холодный ветер налетал на обындевевшие верхушки одиноких деревьев на вырубке. В звучном утреннем воздухе далеко раздавалось резкое карканье ворон.
– Пошевеливайся, скотина мерзнет!
– Подавай! – обменялись короткими замечаниями отец с сыном, нагружая повозку.
Дед Габю провел телегу по замерзшим колеям вырубки и обернулся к сыну:
– Петко, скользко, застопори оба колеса.
– Одного хватит. Давай! – ответил сын.
Караколювец стерегся, чтобы телега не наехала на него, и вел буйволов, изогнувшись, готовый каждый миг отскочить в сторону. Телега раскатилась, дед Габю хлестал буйволов по мордам, стараясь заставить их удержать ее. Петкан сзади ухватился за дрогу. На повороте задние колеса занесло в сугроб, Караколювец понял, что повозка сейчас может опрокинуться, и крикнул:
– Берегись!
Повозка медленно легла набок, задрав крутящиеся колеса. Буйволы испуганно косились на сломанные занозы, устало пыхтели над замерзшей дорогой, раздувая бока. Дед Габю успокаивал их:
– Ну вот и все… все миновало…
Петкан ругался, пиная дрогу. Дед Габю покрыл буйволов рядном и сказал:
– После драки кулаками не машут.
Петкан умолк. Дед скрыл усмешку под усами и посмотрел на промерзшие глинистые колеи дороги. Сверху вел запряженных в телегу буйволов Стоян Влаев.
– Эй, Стоян, и у тебя хватило ума в такую холодину выехать? – Караколювец обрадовался, что есть с кем слово сказать.
Стоян Влаев уперся ладонями в твердые лбы буйволов, останавливая их, и с удовольствием, словно давно ждал такого случая, сказал:
– У нас не как у богачей, работа по часам не расписана.
Дед Габю шумно сплюнул в снег и погладил буйволов по влажным мордам. Не любил он говорить с человеком, который сразу начинал с подковырок.
Стоян и Петкан подсунули под телегу слеги и попытались ее поднять.
«Дельный работник! Не попутали бы его коммунисты, и жена у него работящая, горы вдвоем своротят».
Стоян и Петкан не смогли поднять телегу и начали ее разгружать. Мысли деда Габю сверлили его: «Дельный работник, да ума не хватает понять самую простую вещь. Когда это люди будут все одинаковые? Коли так радеешь за них, сделай что-нибудь такое, чтобы оно жило да радовало их».
– Готово, дед Габю! – весело сказал Стоян.
«Пойдет человек не по той дороге, и захочет вернуться, да поздно». Караколювец подвел буйволов к ярму.
Обе телеги осторожно спускались к селу.
– Стало быть, мы у тебя в долгу, коли что, зови, – попрощался дед Габю со Стояном.
Холодные фиолетовые тени ползли по замерзшей дороге, обнимали молчаливые дворы и дома. Люди попадались редко, выпрастывали головы из высоких воротников полушубков, здоровались. Караколювец отвечал тихо, – не то, что в жатву, когда человек весело здоровается, перекрывая громким приветствием тарахтение колес.
У ворот ждали двое приодетых парней. Дед Габю завел телегу во двор и только тогда подошел к ним.
– Тота Биязова приглашает на свадьбу, – один из них подал ему баклажку.
– И от жениха, Мишо Бочварова, – добавил второй.
Бабушка Габювица, радостно улыбаясь, открыла перед приглашавшими двери.
Вышла и Вагрила. Она посмотрела на баклажки, украшенные букетами журавленика и белыми платками, отпила по глотку и от души пожелала:
– Дай им бог счастья.
Над селом опускался синеватый холодный вечер. Во дворах и под навесами стало тихо. В небе зябко трепетали звезды.
*
Снег на крышах слежался, потемнел. В полдень с кровель, словно скупые слезы, капали редкие капли. По утрам иней одевал серебряным покрывалом каменные ограды и ветви деревьев.
Весела и долга сельская свадьба. Как начнется… От ранней зари до позднего вечера над селом повисал радостный гомон. Он вылетал из пропахших нафталином комнат, во дворах смешивался со звоном бубенцов на повозках и птицей вырывался на волю, заполняя тихие улицы. Народ в праздничных черных костюмах спешил к церкви.
В первой повозке ехали жених с невестой. От тихой радости Тотка разрумянилась. Смущали ее только руки; их широкие загрубевшие ладони казались ей сейчас некрасивыми, и она прятала их в рукава кожуха. Мишо робко озирался, будто сомневаясь, что все эти люди собрались ради них, и все посматривал на Тотку, потом снова вздрагивал от бубенцов, рассыпавшихся вдоль всей улицы, словно роса с васильков.
– Иии, хо-хо-хооо! – настигали их крики с других повозок. Он оборачивался – сзади колыхался лес новых колпаков. Все это – для него и для Тотки, и против воли с его губ не сходила довольная улыбка.
Во второй повозке ехали посаженные и старший сват – Христо Семов. Он размахивал над головой петухом и устало кричал:
– Иии, хо-хо-хооо…
Веселый поток выплеснулся перед церковью. Во дворе и на шоссе стало черно от народа. Белое платье Тотки широкими волнами падало на черные башмаки с высокими каблуками. Слезая с повозки, она оперлась на руку Мишо. Женщины, заполнившие церковь бесшумно расступились перед медленно идущими женихом и невестой. Перед ними заблестело облачение священника. Мишо смотрел, как шевелится его белая борода, и все время спрашивал себя, когда же кончится венчанье. Зато Тотка с удовольствием слушала непонятные слова попа. Биязиха не сводила радостных глаз с лица дочери и все молила бога, чтобы они с Мишо были счастливы.
У входа толпились мужики и бабы. Богомольная бабушка Сыбка которая еще со старым попом водила дружбу, продавала свечи, крестики и другую церковную мелочь. Женщины смиренно крестились, ставили свечку за давно умерших родителей.
Бабушка Сыбка всем говорила одно и то же:
– Что мы за люди стали, будто и не христиане. У своей церкви ограду поправить не можем. Столько мастеров в селе, – никто палец о палец не ударит. Нехорошо это – господа своего забывать.
Сват, смущенно ощупывая трепещущего петуха, двинулся ко входу.
– Эй, погоди! – схватила его за кожух Сыбка.
– Сват я, – пробормотал он.
– И где их таких находят, что порядка не знают, – негодовала старуха.
Сват тер снегом лицо, облегченно фыркая.
– Христо, Христо, рано же ты нагрузился. Иди сюда, отдохни, когда кончат – скажу.
На улице перед церковью собрались парни. Пенчо Христов восторженно расхваливал немцев и как бойцовый петух топтался в снегу. Дене хитро подмигнул парням, чтобы не смеялись, и повернулся к нему.
– Давай, расскажи про пушку, которая обстреливала Париж в первую мировую войну.
Пенчо Христов, желая казаться выше ростом, вытягивал шею.
– Мал еще надо мной подшучивать. Вот они, молодые-то, – обернулся он к собравшимся, – совсем распустились, и государству от таких пользы никакой.
– Вот-вот, – лукаво усмехался Дене.
Подошел Стоян Влаев.
– Дядя Стоян, чего так запоздал, ступай в церковь.
– Коли я в церковь войду, на невесту никто и смотреть не станет, все на меня рты разинут, – пошутил тот.
– Да это что, сама церковь рухнет…
– Отстань, Дене, – беззлобно оборвал Стоян.
Из церкви высыпала гудящая распаренная толпа, освобождая проход молодоженам. Взявшись под руку, Тотка и Мишо чинно шли к выходу. Сыбка разбудила свата и тот, как ни в чем не бывало, подхватил расцветшую от удовольствия куму и разинул рот на молодую, будто только сейчас ее увидел.
Возница поддернул вожжи и свободной рукой поправил на сиденье полость. Полные любопытного ожидания взоры людей приятно волновали Тотку.
– Сахар, сахар! – напомнила мать. Тотка спохватилась, вынула из кармана горсть колотого сахару и бросила, затем еще и еще…
Детвора хватала сахар вперемешку со снегом и нетерпеливо следила за ее рукой. Вот как набила карманы – никак не опустеют!
Послышался конский топот. Тотка глянула – навстречу им под конвоем конных полицейских шла колонна арестантов. Полицейские остановились. Один из них толкнул вперед коня.
– Разойдись! Дай дорогу! – властно закричал он.
Тотка узнала Митю Христова. Ноги у нее подогнулись, она села. Мишо поглядел на нее. Такая, как сейчас, с тревожно расширенными зрачками, она была ему еще милее, и он ласково и успокаивающе пожал ей локоть.
Митю Христов на коне медленно надвигался на отступавшую толпу и только мельком взглянул на Тотку. Нахмурился, глаза надменно сверкнули.
– Дорогу! Дорогу! – снова закричал он.
Дед Цоню схватил его коня под уздцы, но видя, как Митю гневно раздул ноздри, отступил и только сказал:
– С отцом твоим дружбу водили… А ты… – и не договорив, махнул рукой.
– Нельзя нам дожидаться, государственных преступников ведем! – сказал Митю и махнул рукой полицейским: – Давай!
Он повернул коня задом к повозке с молодыми, глядя, как проходит мимо колонна арестантов.
Раздавшиеся в стороны люди вздыхали, глядя на тяжелые цепи, которые арестанты несли, перебросив через плечо.
Душа Бияза заледенела. «Надо же случиться такому, надо же было случиться»… Ноги его дрожали, он с болью вглядывался в арестованных. Один из них все вертел головой, глаза его бегали по лицам людей по обе стороны шоссе.
– Владо! – радостно крикнул Бияз и шагнул к нему. – Выпей за здоровье молодых, дочь замуж выдаю!
Владо Камберов замедлил шаги, протянул к баклажке руку. Затопал конь, и между ними встал Митю Христов. Баклажка застыла в дрожащей руке Бияза.
Повозка с молодой тронулась, и над притихшей толпой взвилось одинокое:
– Ии, хо-хо-о-оо…
Бияз побежал вперед и подтолкнул цыгана Анко. Тот, надув щеки, заиграл на флюгельгорне…
*
Звеня кандалами, колонна вышла из села. Звуки музыки и мерные удары барабана провожали их. Прислушиваясь к ним, арестанты невольно замедляли шаги, теснились друг к другу, потому что безнадежным унынием веяло на них с мертвых заснеженных полей. Митю Христов в струнку вытягивался в седле, словно с обеих сторон дороги за ним следили тысячи глаз, время от времени натягивал поводья, чтобы и конь, как он, высоко держал голову. «Замуж вышла, замуж», – подумал он о Тотке, но не почувствовал ревности. С удовольствием вспоминал он о том, как заставил толпу расступиться. Он ласково похлопал рукой по напряженно выгнутой шее коня, – вот кто ему помог. Конь словно понял его и весело зафыркал.
Владо Камберова угнетало сознание того, что они нарушили ход свадьбы дочери его знакомого, деда Трифона. Поглядев на Митю Христова, он замедлил шаг и поравнялся с ним.
– Господин старшина!
– Чего тебе?
Владо неловко помялся.
– Ну! – нетерпеливо воскликнул Митю.
– Мы у вас как птицы в клетке, никуда бы не убежали.
– Ничего не понимаю, – Митю придержал коня.
– Не надо было свадьбе мешать, – сказал Владо.
– А что, стоять и ждать, покуда пройдут, так, что ли?
– Так точно, господин старшина.
Митю захохотал, пригнулся к шее коня, плечи его тряслись.
Владо удивился. Он ждал, что его обругают, но этот смех… Он ускорил шаги, чтобы отойти подальше от полицейского, который продолжал заливаться смехом.
– Арестант, где ты… Иди сюда… Поближе, поближе, – закричал Митю Христов, весело улыбаясь. – Вот ведь как вышло, я и представить не мог, что мне такой случай выпадет… Иди, иди поближе… Не мог как следует все понять и оценить, а ты мне помог. Да иди ближе ко мне! Вот так. Приятно мне, что подсказал, – и он снова залился смехом.
«Как темпа душа этого человека, для него нет ничего святого», – подумал Владо, глядя на гордо гарцующего на коне полицейского.
Колонна медленно шла по заледеневшей дороге. В такт тяжелым шагам глухо звенели кандалы.
*
С утра Вагрила пошла в соседнее село, покрасить несколько мотков пряжи, и теперь возвращалась домой. Ей не хотелось идти в одиночестве. Чья-то телега медленно нагоняла ее. «Бабе одной и в полдень не годится идти», – подумала она, с надеждой вслушиваясь в напевное позванивание колес. Телега поравнялась с ней.
– На мельницу ездил, Иван? – обратилась она к вознице и шагнула к телеге.
– Нет, не на мельницу, – неохотно отозвался тот. – В Горной был. – И не останавливаясь, подхлестнул лошадь.
Чудное дело. Раньше, кто бы ни был, с чем бы ни ехал, предложит подвезти, а сейчас… Слышала, она, говорили что-то про «черный рынок». Что такое нашло на людей?.. Но знала, что нехорошо это, когда они начинают бояться друг друга.
Тихий мартовский вечер залег вокруг села. А в нем, как на острове среди океана вечерней тишины, мычала скотина, скрипели колодезные журавли. Из печных труб к небу тянулся синий дым. Вагрила заспешила к дому. Ее встретил свиной визг.
– Гуци-гуци, чтоб вас медведи съели, – Габювица вылила в корыто помои и встала на пороге, поджидая сноху. – Герган пришел!
– Какой же нынче день? – вздрогнула Вагрила. – Чего же он пришел-то?
– Не знаю, не спросила.
– Где он сейчас? – от волнения у Вагрилы помутилось в голове.
– В огороде.
«Верно, исключили его», – подумала Вагрила.
Герган не слышал, как мать подошла к нему.
– Ты почему здесь?
– Да немцы будут проходить, вот нас и распустили.
– Герган, сынок, будь осторожен!
– А что? – насторожился Герган.
– Плохие времена настали, гляди в оба. Хоть мал еще, а слова свои подбирай, как старик. Чтобы худого слова, крамольного, от тебя не услышали.
– Опять ты, мама, за свое…
– Берегись, сынок, слушай, что мать тебе говорит. Вроде все как было, а все не так. Чувствую я это, а понять не могу. Вчера Гергювица Враниловска рассказывала, что городские-то на базаре на нас так и кидаются – масло и муку спрашивают. Я людям не судья, да ведь смотри, как все друг друга бояться стали.
Герган продолжал копать.
– Зачем тебе эти ямы понадобились?
– Тополя посажу. И красиво, и берег укрепляет. Быстро растут, мама.
– Нехорошо, что вы, молодые, все торопитесь, лучше бы сосенки посадил, – сказала мать и пошла. «Хорошо, что по дому соскучился. Если тянет к родному месту, труднее человеку плохой шаг сделать».
Несмолкающий рев скотины во дворе прервал ее мысли.
*
На площади перед общинным правлением толпился народ. Уже несколько дней говорили о том, что пройдут германские войска. Чего только о них не слышали! Что будто бы оружие их непобедимо, что солдаты и офицеры вместе едят, одну одежду носят.








