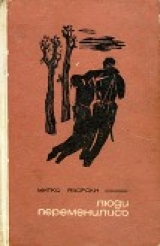
Текст книги "Люди переменились"
Автор книги: Автор Неизвестен
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 22 страниц)
– Как его звать?
– Не запомнила имя… Белокурый такой, разговорчивый.
Бияз недоуменно пожал плечами и подернул вожжами. Телега тронулась.
– Не забудь, приходи на Лазарский праздник, мать рада будет, – оглянулся Бияз.
Тотка глядела ему вслед, пока телега не свернула в ближайший переулок.
*
На базаре Трифон Бияз вынул из телеги мешок с фасолью, положил его на землю, развязал, чтобы было видно, что́ в нем и принялся ждать покупателей. Однако фасоль не привлекала их.
«Зажрался народ, от фасоли нос воротит», – обиженно думал Бияз. Постоял он постоял да и решил поехать на фабрику. Он по опыту знал, что там легче всего будет распродать такой простой продукт, как фасоль. Народ там непривередливый. Снова взвалил мешок на телегу и поехал.
Солнце било прямо в глаза Биязу. Стало жарко. Он сдвинул шапку на затылок, расстегнул куртку и ворот рубахи.
На перекрестке у большой фабрики «Братья Калпазановы», он остановился и принялся бодрым голосом покрикивать:
– А вот кому фасоли!..
Как раз начался обеденный перерыв. Из ворот повалили рабочие, больше женщины. Обступили его.
– Фасоль для рабочего люда, – весело восклицал Бияз, – быстро уваривается и долго сытость держит!
– Свешай кило!
– А мне полкило.
Бияз зачерпывал чашкой безмена фасоль и взвешивал с присыпкой. Когда загудел фабричный гудок, на дне мешка осталось всего несколько горстей фасоли. Ворота закрылись. Довольный Бияз снова поехал в город. Усмехался, припоминая, как бойко он торговал. Потом вспомнил о сказанном Тоткой. «Не иначе как тот самый, с которым я у Байдана познакомился», – подумал он и, порывшись в кошельке, вынул клочок картона от сигаретной коробки, с адресом. «Владо Камберов… заеду к нему, продам остаток с уступкой», – решил Бияз. Отыскал нужную улицу. Дома здесь были маленькие, теснились друг к другу за ветхими дощатыми заборчиками. Бияз почувствовал себя свободно, не так как на Баждаре.
Сверив номер дома с указанным в адресе номером, Бияз застучал кнутовищем в дверь.
– Эй, люди, есть ли тут кто живой?
– Чего раскричался, ровно в селе у себя. Звонок ведь есть!
«Он самый», – узнал по голосу Бияз.
По дощатой лестнице заскрипели шаги, дверь отворилась.
– Здорово, парень! Узнаешь кто?
– Погоди, не говори, – наморщил лоб Владо Камберов. – Сам припомню.
Бияз снял шапку. Владо весело улыбнулся.
– А, дядя Трифон, пришел наконец, дочь приезжал проведать? Давай, заходи, – взял он Бияза за руку.
– Недосуг мне.
– Нет уж, я тебя не отпущу. Посидим немного, поговорим…
В комнате Бияз сел на предложенный ему стул.
– Ну как дочка? Ведь ты, конечно, от Лесевых сейчас?
– Ну и память у тебя! – удивился Бияз.
– А ты, как погляжу, повеселел, не такой, как тогда, у Байдана. Стало быть, полегчало тебе.
– Да что ж поделаешь…
Влади вынул из ящика стола коробку с рахат-лукумом.
– Угощайся.
– Ты то сам знаешь Лесевых? – спросил Бияз.
– Видел.
– Как они по-твоему, хорошие люди?
– Чудак человек ты, дядя Трифон. Твоя дочь у них в услужении, а меня спрашиваешь! Ну ежели хочешь знать – нету среди фабрикантов и судей добрых людей.
Бияз поглядел на него, прищурился.
– Кажись, прав ты. Спеси у богатых много, а совести совсем нету.
– Но вот видишь, одно и тоже думаем. А как они к тебе относятся, Лесевы-то?
– Чую, не по нутру мы им.
– Кто это мы?
«Рабочий люд», – хотел было ответить Бияз, но спохватился – не успел познакомиться с человеком, а выкладывай ему свои думки!
– И чего ты все допытываешься, ровно следователь какой? Много будешь знать, скоро состаришься – так у нас на селе говорят.
– Следователь! Сказанул тоже, – улыбнулся Владо. – Я тебе вот что скажу: никого, кроме себя, богатые не любят и знать не желают. Это в них самое страшное. Лишь бы им одним было хорошо, – там – пропадай все на свете…
– Может, оно и так, кто их знает, – уклончиво ответил Бияз. Помолчал немного и вдруг, словно решившись, сказал: – Прав ты! Вот Тотка моя, ведь дитя еще, а чтоб улыбнутся ей, ласковое слово сказать – этого хозяйка себе не дозволяет!
– Холодная у них душа… – начал было Владо, но Бияз, снова спохватившись, не наговорил ли лишнего, перебил его:
– Ну пора мне. Приятно, конечно, побеседовать, да ехать надо…
– Оставил бы тебя переночевать, да сам видишь… – развел руками Владо, – где я тебя положу.
Бияз снова оглядел крохотную, бедную комнатенку.
– И было бы где, все едино не могу. Старуха будет тревожиться. Я к тебе вот зачем пожаловал. Фасоль продавал, да вот малость осталось… – Бияз высыпал фасоль из торбы на стол.
Владо достал кошелек.
– Оставь, не возьму я с тебя денег, – отмахнулся Бияз, выходя из комнаты.
– Не люблю я подарков, – пошел за ним Владо. – Сколько с меня причитается.
Однако Бияз решительно отказался взять деньги.
На улице Владо оглядел лошадь, телегу и заметил:
– Сбруя-то совсем ветхая… Да и шины перетянуть следовало бы.
Бияз и сам это отлично понимал.
– Углядел. Ты же ведь из крестьян, откуда родом-то?
– Из Драговирова. Есть такое на Дунае село, – ответил Владо.
– Ты что же, на заработках здесь?
– Да нет, нужда привела. Тут и осел насовсем. Знаешь что, провожу я тебя малость, прокачусь с тобой.
– С нашим удовольствием. А ежели хочешь – и в село тебя отвезу, погостишь у нас. Завтра ведь воскресенье.
– Спасибо, не откажусь, – обрадовался Владо.
– Но-о! – подернул Бияз вожжами, – поехали!
«И как этот человек враз пришелся мне по сердцу? – размышлял Бияз под тарахтение колес по булыжной мостовой. – Обходительный он такой, разговорчивый, взгляд добрый. К тому же свой брат, крестьянин, хоть давно в город перебрался. Тоскует, поди, по родному дому. Это я хорошо сделал, что взял его с собой…»
– О чем ты задумался? – спросил Владо.
– Да так, дивлюсь: случайно повстречались, а теперь, может, и друзьями станем.
– Что ж тут удивительного.
– Вот что, парень, расскажи ты мне о городских людях. С той поры как дочка моя в городе живет, все мне хочется поболе о них узнать.
– О каких людях, ведь они разные…
– Ну которых знаешь, с кем встречался. Ведь дорога без разговору, что засушливое лето.
– Может, о случае каком рассказать?
– Вот-вот, люблю послушать про разные там случаи. Это все равно что книжку прочесть.
– Ну ладно. Вот вчера, например, ремонтировал я кровлю на фабрике…
– Ты плотник, что ли?
– Нет – жестянщик. Так вот, подрядился сдельно и даже обедать не слез, чтобы времени не терять. Работал допоздна. А как кончил, дай, думаю, выпью стопочку с устатку, и зашел в пивнушку. А там уже пусто было. Один только человек сидит у окна. Ну, поздоровался я. А он мне говорит: «С кем это ты, с мухами, что ли, здороваешься?» И на окно кивает, а там мухи ползают. «Нет, – говорю, – с тобой». Ну подсел я к нему, разговорились мы. Рангузом его звать.
– И имена у городских людей другие, – подумал вслух Бияз, – да ты рассказывай, я это так про себя.
– Работал он в молодости на лесопилке и случилось с ним несчастье – ногу ему отхватило пилой. Когда вышел из больницы, никто не берет его на работу, кому нужен калека. Стал он нищенствовать. Поглядел бы ты на него – в каких он отрепьях. Потом он подобрал на улице беспризорного мальчишку и стал ему заместо отца. Я его видел, он пришел после за Рангузом. Сам Рангуз души в нем не чает. «Моя фотография с юных лет» – говорил он про мальчика.
Бияз вздохнул и отвернулся, чтобы Владо не заметил его повлажневшие глаза.
– Долго мы с ним разговаривали. А когда я собрался уходить, Рангуз поблагодарил меня. «Спасибо, – говорит, – что не погнушался посидеть со мной, а то люди все сторонятся меня, как прокаженного».
– И бывают же такие бедные люди, – сокрушенно покачал головой Бияз. – Вот что значит город. А в селе человек до такого положения не дойдет.
– Ну уж не говори, от хорошей ли жизни крестьяне в город уходят.
Некоторое время они молчали.
– Далеко еще до села?
– Недалече, – ответил Бияз и спросил: – А чего ты все про других говоришь, рассказал бы что о себе?
– О себе тоже ничего радостного не могу сказать, – вздохнул Владо.
– Зазнобушка покинула тебя, что ли? – пошутил Бияз. – Не печалься, другую найдешь.
– Да нет.
– А что тогда закручинился?
– Так, припомнился один случай… Есть у меня одна знакомая. Живет она под городом, на квартире. У хозяйки ее дочь больная. Все кашляет, в последнее время не встает с постели. Захожу я однажды к ним, а знакомой моей дома не оказалось. «Присядь, подожди, – говорит Мара, это больная-то, – она скоро придет, вышла куда-то на минутку». Ну сижу я, и так мне тошно стало и горько стало, не могу я смотреть спокойно как люди страдают, а хуже всего то, что не знаешь как да и не можешь ничем помочь. Пришла Калушка – это моя знакомая – и сразу к зеркалу, причесывается, прихорашивается. А Мара на кровати хрипит, заходится кашлем. И так мне худо стало, не глядел бы на белый свет, Только мы с Калушкой собрались выходить, вдруг слышим, охнула Мара. Обернулись, а у ней голова набок, а изо рта кровь струей. Калушка хозяйку кликнула и скорей, к Маре. «Давай, – зовет меня, – помоги поднять ее!» Скажу прямо, заробел я…
– Тут и заразу прихватить недолго, – заметил Бияз.
– Но все же, помог я. Тут и мать пришла, воды со льдом принесла, захлопотала… Ну, ушли мы с Кадушкой. Идем, молчим. Так до самого города ни одного слова не вымолвили. Тяжело было на душе. Потом вдруг заметил я, что на пиджаке у меня кровь, вроде пьявки красной. Я просто задрожал весь. А Калушка, как ни в чем ни бывало, подвела меня к колонке, достала платок и давай кровь отмывать. И вот этим, дядя Трифон, она меня и взяла, заполонила мое сердце навеки… да, навеки!
– Ну дай вам бог счастья! – сказал Бияз и подхлестнул лошадку. Впереди уже показалось село…
Во дворе их встретила Биязиха.
– Это моя старуха… а вот он сынишка, – сказал Бияз, опуская руку на плечико подбежавшего мальчугана.
– А Тотку вашу я уже знаю, – сказал Владо, здороваясь с Биязихой за руку.
Вошли в кухню.
– Не прибрано у нас, ты уж не взыщи. К празднику мы готовимся, – говорила Биязиха. – В следующее воскресенье праздник у нас, вот тогда бы ты приехал погостить, весело будет…
– Какой праздник?
– Лазарский. Молодые его устраивают, – ответила Биязиха и обратилась к мужу:
– А Тотка приедет?
– Обещала, – кивнул он и вышел.
Пока он распрягал, то да се, Биязиха поджарила яичницу, собрала на стол.
– Не побрезгуйте нашей хлеб-солью.
После сытного ужина Бияз показал гостю свой дом.
– Вот в этой комнате мы с сыном спим, а как гости бывают, они здесь спят… А вот еще комната…
Владо вошел, оглядел кирпичные стены, балки потолка и тяжело вздохнул.
– Вот точно такая же комната, есть и в нашем доме. Будто ты ее сюда перенес. Просто удивительно, словно я у себя дома… – Владо еще раз оглядел комнату и тихо вышел.
*
В канун Вербного воскресенья Петкан встал еще до зари, Он уходил на заработки вместе с артелью плотников и каменщиков. Как ни уговаривала его Вагрила, не захотел он остаться на праздник.
Обул новые постолы, сунул за кушак нож и тесло. Вагрила подала ему дорожные сумки и мысленно перекрестила его.
Провожая сына на заработки дед Габю всегда чувствовал себя неловко, припоминал в уме ссоры с ним и досадовал на свой характер, но не знал как извиниться.
– Обратно поездом возвращайтесь, а то в горах ограбить вас могут лихие люди, – напутствовала Габювица.
– Чего ты его учишь, неужто он сам не знает, – не удержавшись, проворчал Караколювец.
На улице Петкан оглянулся, поглядел на уже выцветший черный платок, прибитый к воротам. Вагрила перехватила его взгляд и сглотнула подступившие к горлу слезы. Вспомнила о Влади, а заговорила о Гергане.
– Пиши ему, Петко, чтоб не читал он крамольные книги, наставляй его…
– Ладно, – ответил Петкан и, перекинув связанные сумки через плечо, зашагал по улице. Шел неторопливо, будто отправлялся посидеть в Райчовой корчме.
Вагрила смотрела ему вслед, пока он не скрылся за поворотом. Занималась заря, звезды одна за другой гасли на пепельном небе.
*
Жизнь не позволила Вагриле остаться наедине со своим горем. Даже ночью, в ожидании сна, она думала о разных делах по хозяйству. Она и не подозревала, что повседневные заботы отгоняют от нее горе, помогают снова вернуться к жизни.
Солнце позолотило Юмрукчал. Перепархивая по веткам шелковицы защебетали птички. Зажужжали пчелы, запахи весны потекли по селу.
Вагрила радовалась тому, что молодежь впервые решила праздновать Лазарев день – одним праздником больше в жизни. Но когда с улицы донеслись веселые голоса парней и девушек, идущих на игрище, и над селом понеслись медные звуки музыки, Вагрила потуже стянула узел головного черного платка и ушла в комнату. Закрыла окно и села на кровать.
Бабушка Габювица пошла на галерею и, вглядываясь в прохожих, спрашивала себя:
– А кто это такие будут?
И сама себе отвечала:
– Кажись, из Скворцов они… А чего они тогда этой улицей пошли?..
Во двор, опираясь на палку, вошла Биязиха.
– Петковица!.. Петковица!.. – позвала она.
– В комнате она! – отозвалась с галереи Габювица.
Биязиха пошла в дом.
Вагрила вздрогнула и повернула голову на шум отворившейся двери.
– Вот ты где, – заговорила Биязиха, – а я за тобой пришла. Неужто нам полегчает, ежели мы дома сидеть будем?..
А почему бы и не пойти, поглядеть на молодежь?
Веселый гомон, смешанный со звуками музыки, нахлынул на них, когда они поднялись по склону бугра. На зеленой поляне перед ними пестроцветной гирляндой извивалось и кружилось хоро. В стороне стояли пожилые женщины. Глядя на веселящуюся молодежь, они улыбались, подталкивали друг друга локтями и перебрасывались шутливыми замечаниями. Когда Вагрила и Биязиха подошли к ним, все они приумолкли. Вагрила понимала почему они замолчали – сочувствуя ее горю, они не хотели, чтобы веселые и беззаботные речи отозвались болью в ее душе. Поэтому она первая заговорила:
– Кого вы уже успели сосватать?
Женщины словно того и ждали, заговорили, перебивая друг друга.
– Вот Георгий и Дона хорошей парой будут.
– И ростом подходят…
– Трифоница, а Тотка твоя приехала?
– Здесь она, неужто не видели?
– Да вон она, какой красивой стала!..
*
Тотка Трифонова мало чем отличалась от своих подруг. Живя в городе она не подрезала косы, а укладывала их венком на голове, и от этого круглое с розовыми щеками лицо стало еще миловиднее.
Митю Христов танцевал рядом с ней и все старался заглянуть ей в глаза, но она, смущалась, отворачивала голову. И он только крепко сжимал ей руку.
Со стороны шоссе показалась группа парней. Впереди шел Георгий Петров, неся прибитую к палке жестяную вывеску общества трезвости. Это он уговорил парней отпраздновать Лазарев день.
– Поглядите-ка на него, – заговорили женщины. – Застенчивый ровно девушка, идет по улице глаз не поднимет, а теперь впереди всех…
Хоро остановилось. Музыка смолкла.
Георгий воткнул в землю палку. На вывеске был нарисован здоровенный мужчина, подминающий под себя какое-то страшное чудовище – алкоголизм.
Музыканты немного передохнули и снова заиграли. И снова закружилось хоро, но теперь уже вокруг вывески.
*
Лучи заката позолотили вершины Кадемлии и Юмрукчала. На западе, погруженная в тень, дремала Крутая-Стена. Оттуда надвигался синеватый сумрак, постепенно одолевая день.
Хоро распадалось, выцветало. Ушли семейные, начали расходиться парами девушки и парни. Георгий Петров поднял палку с вывеской и во главе компании, которую привел, отправился к селу. Позади них раздавались призывные звуки музыки.
Тотка и Донка пошли вниз по склону бугра. Их догнал Митю Христов и шепнул Тотке, что будет ждать ее у калитки. Ей как будто и не хотелось этого, а в груди родилась какая-то смутная радость. Оттого и не прислушивалась к торопливому шепоту подружки:
– Как встал рядом в хоро, сжал мне руку, а мне и не больно, только словно кто по сердцу погладил, – говорила та, искоса поглядывая на Тотку, которая тихо улыбалась в ответ. – Стало быть, приглянулась ему, коли мне руку пожимает. И мама сказывала, что у них с отцом тоже на хоро началось… Поглядел он, а на меня будто жаром полыхнуло, чуть не сгорела. И откуда только взялся этот Георгий Петров. Остановил хоро, когда было так славно…
«Видать, у всех так начинается», – подумала Тотка с той же тихой радостью и, простившись с подругой, ускорила шаги.
Перед ней, точно вынырнув из мрака, встал Митю, загородив ей дорогу.
– А, это ты, – вздрогнула она.
– Зазнаешься, как городская.
Тотка почувствовала, что щеки у нее горят, но темнота помогла ей справиться с охватившим ее смущением, и она тихо ответила:
– Какой была, такой и осталась.
– Да нет… Красивая стала, – с усмешкой в голосе произнес он.
– Сейчас только заметил? – улыбнулась Тотка, но его твердый пристальный взгляд тревожил ее, и она толкнула калитку.
Митю Христов шагнул к ней и взял за руку.
– Идти мне пора, – шепнула она.
– Погоди!
Митю оглянулся и хотел было ее обнять. Скрипнула дверь. Чьи-то шаги вспугнули тишину во дворе. Он отпустил руку Тотки и шепнул:
– На вечеринке увидимся. – Пригнувшись, Митю широко зашагал в темноту.
Тотка пошевелила пальцами, боль от пожатия его твердой руки была приятна. «А говорят, дикой он парень, болтают зря», – подумала она, улыбаясь.
Мать ждала ее. Накрыла на стол, выбирая куски мяса посочнее, ласково приговаривала:
– Поешь, доченька, поешь. Уедешь ведь завтра.
«На вечеринке увидимся», – звучали в душе девушки слова Митю. И как о давно прошедшем, припомнила она, как Митю держал ее за руку у калитки.
– Ешь, ешь! – напоминала мать.
За окнами замер тихий весенний вечер. Небо, словно луг, усеянный цветами, пестрило тысячами звезд. С улицы доносились девичьи голоса. Тотка наспех поела и вышла из дому. Мать проводила ее до калитки.
– Да не засиживайся, а то не выспишься.
– Ладно, ладно, мама.
*
Необычно яркий свет струился из высоких окон школы, широкими полосами рассекая мрак на шоссе. Несколько мальчишек стояли в стороне, ждали удобного момента, чтобы влезть в школу через окно. Но сторож дядя Дончо был начеку, не спускал с них глаз и время от времени покрикивал, грозя палкой:
– И не совестно вам, вот я вас ужо…
Мальчишки угрюмо молчали.
Когда Тотка пришла, зал уже был переполнен. У дверей теснились опоздавшие. Должны были показывать «Лазаря и Петкану».
Погасла яркая калильная лампа. Занавес раздвинулся, и на сцену вышел Герган. Он был при галстуке, который надел специально для этого вечера.
Жили-были семеро братьев,
семеро братьев и одна сестра —
Петкана девица пригожая.
Пришли сватать ее из Загорья,
за Босилко Радойкина сватать…
Затем началось и представление. Крестьяне верили, что происходившее на сцене случилось когда-то на самом деле, и переживали за Лазаря и Петкану, как за знакомых, близких людей.
Когда из корыта – «могилы» вылез вымазанный глиной «мертвый» Лазарь, в притихшем зале послышалось всхлипывание зрителей, растроганных его несчастной судьбой. Глаза Тотки застилали слезы, мешали видеть то, что происходит на сцене, и она то и дело утирала их.
В это время пришел Митю Христов. Разглядел стоящую у стены Тотку, протолкался к ней и встал рядом. Грудь девушки вздрагивала. Он посмотрел на сцену, увидел «могилы» – обыкновенные старые деревянные корыта, намазанные грязью, – и спокойно подумал: «Обман, небывальщина!». Прищурился, перевел взгляд на Тотку. Она словно почувствовала его взгляд и обернулась. Ей сейчас хотелось к кому-нибудь прильнуть, хотелось, чтобы кто-то успокаивающе обнял ее, приласкал, и ей стало приятно, что Митю рядом.
Митю вплотную придвинулся к Тотке и положив руку ей на грудь, сжал ее. С глаз Тотки упала влажная пелена; она недоуменно уставилась на грубую жилистую руку Митю и, неожиданно для себя, яростно впилась в нее ногтями. Митю Христов удивленно посмотрел на нее, будто и не она это была, и убрал руку. В глазах Тотки погасли злые огоньки, она отвернулась, как будто ничего не случилось, снова стала смотреть на сцену, а Митю Христов пробрался обратно к двери, вышел во двор, шумно вздохнул: «Обман! Недотрога! Ладно, еще встретимся».
Село под звездным небом было объято тишиной. Митю поежился от вечернего холода, но пальто не застегнул. Проходя мимо трактира, он невольно замедлил шаги.
Он не захаживал к Ивану Портному с тех пор, как тот посоветовал ему поступить на службу в полицию и даже вызвался помочь в этом деле. Опасался, что трактирщик спросит его о решении, а он пока еще ничего не решил.
Шум открывшейся двери спугнул дрему Ивана Портного. Он разочарованно поглядел на вошедшего Митю Христова, будто увидел не того, кого надеялся увидеть, и зевая, невнятно произнес:
– Добро пожаловать!
Митю огляделся по сторонам: кроме них, в трактире никого не было. Неохотно пожал протянутую руку Портного.
– Здравствуй.
Сели за стол. Трактирщик пытливо посмотрел на Митю.
– Ну что, решил?
– Насчет чего? – будто не поняв, спросил Митю Христов.
– Насчет службы.
Митю оглядел свои узловатые пальцы, словно видел их впервые, и ответил:
– Согласен.
Иван Портной будто только того и ждал. Он встал, долго рылся под прилавком; не отыскав подходящей бумаги, вырвал лист из кредитной тетради и чернильным карандашом написал рекомендательное письмо своему приятелю Ивану Венкову. Взяв письмо, Митю поспешил уйти.
В звонкой ночной тишине время от времени ручейком журчал девичий смех. Митю Христов чувствовал себя неловко и шел тихо, сутулясь, стараясь не попадаться на глаза людям. На дороге увидел одинокую женскую фигуру и по покачивающейся походке узнал Вагрилу. Она тоже не хотела, чтобы ее видели, и торопилась уйти домой.
Не удалось ей рассеяться, новая забота легла на сердце. Он, Герган, сын, для которого только она и живет, вовсе не жалеет ее. Неужто у него совсем ума нету – красный галстук надел! Ежели он так ему нравится, встань перед зеркалом и смотрись, а он – на сцену, чтобы все село видело, чтобы смеялись над ним, да ее жалели, что, мол, и второй сын у нее непутевый. Едва кончилось представление, она пошла в комнату для артистов. Если бы нашла там Гергана, на клочки разорвала бы ему галстук, пусть люди видят – не потакает она сыну.
Придя домой, она помолилась, и молитва как бы смягчила ее мысли. Сняла праздничную одежду и легла. Но сон не шел к ней, прогоняемый тревожными мыслями.
Хлопнула калитка, в тишине двора прозвучали знакомые шаги. «Не встану. Не маленький, сам найдет, что поесть…» – и укрылась с головой. «Корми его, одежду справляй, а он – своевольничать? Где это видано?» Вагрила не выдержала и встала. Босиком, в рубашке сошла по лестнице. Герган, в галстуке, как был на вечеринке, занятый едой, не обернулся к ней.
– И дома мне будешь выхваляться?
– А что?
Вагрила рванула его за галстук. Притворно наивное выражение лица сына еще больше разозлило ее.
– И перед матерью будешь выхваляться? Нашел чем! Все поняли, что в голове-то у тебя пусто. Да ты слов не понимаешь, что ли? Одно горе мне с тобой! – Она дергала его за галстук, даже ударила по голове кулаком. Герган молчал.
Да что его бить, ругать, если он даже повиниться не хочет? Руки Вагрилы бессильно опустились, будто перебитые, сердце сжалось. Она всхлипнула, давясь подступившими к горлу слезами, и пошла обратно. Лестница заскрипела под ее медленными шагами.
*
Через несколько дней после вечеринки Митю Христов пришел в участок. Иван Венков прочел записку Портного и заявил, что Митю примут, если только он не водил дружбы с коммунистами. Потом сам написал заявление и, покровительственно похлопав Митю по плечу, простился с ним.
Ни сомнения, ни колебания уж не разъедали душу Митю. И все же время от времени его охватывало чувство какой-то виновности, которое он старался заглушить усердной работой по хозяйству. Он уже не тяготился жизнью в родном доме и с сожалением смотрел на все то, с чем ему приходилось расстаться.
Старая Христовица не одобряла решения сына поступить на службу в полицию. Улучив подходящую минуту, она сказала:
– Взялся бы лучше за какое-нибудь ремесло…
– Ремесло… Старое полено в дугу не согнешь, – хмурился Митю.
– Что люди-то скажут.
– Всем не угодишь! Вон Караколювцы сколько земли прикупили, и никто слова не скажет.
– Что ж, не маленький, смотри. Лишь бы худа не вышло.
– Богатой невесте за хромоту не пеняют.
– Да я что, привыкли мы, старики, что ни делаем, на людей оглядываться, что скажут.
– Лучше погонять, чем самому везти.
Больше мать об этом не заговаривала.
Наступил день расставания. Мать приготовила две торбы с разными вещами и снедью. Митю сидел, ждал, пока она его собирала в дорогу, нетерпеливо постукивая ногой. «Примется сейчас наставлять да обнимать», – с досадой подумал он. Ему хотелось избежать этого.
– Брат твой в пятницу придет проведать, – только и сказала мать.
Митю Христов перекинул связанные торбы через плечо, кивнул головой и пошел. Не услыхал, как мать сказала ему вслед:
– Пошли, ему, господи, удачи!
Опустив голову, не глядя по сторонам, Митю шагал по улице. У ворот Меилова двора его окликнули. Митю поднял голову. Дед Меил и Караколювец с любопытством смотрели на него.
– Митю, куда это ты так разоделся, словно на сход, – спросил дед Меил.
– В город. Служить буду в участке, – на ходу бросил тот.
– Что ж, полицейским стать не так уж худо парень придумал, – заметил Караколювец. – Они с братом и не пьяницы, да как-то не пошло у них дело. Ремесла не знают, земли у них мало, к отцовскому наследству так ничего и не прибавили.
– Ты мне такую службу не хвали, станет он теперь подневольным человеком.
– Каждый кому-нибудь да повинуется, так уж на свете устроено.
Если Митю пришел спросить совета у него, у деда Габю, он стал бы его убеждать держаться за землю, она всего надежнее. А теперь уж поздно, да и никакого дела ему до этого парня нет, и потому он заключил:
– Каждый свою долю ищет. Мы в земле, а вот он – в городе. Каждый по-своему.
Митю Христову казалось, что он чувствует, как исчезает позади родное село, но ни разу не оглянулся.
*
Конь переступал, постукивая подковами по плитам, нетерпеливо прядал ушами. Тотка уж было поставила ногу на ступицу колеса, чтобы сесть в телегу, но мать снова остановила ее. Чего ей только не наказывала, который раз повторяя одно и тоже: и блюсти себя, и одеваться опрятно, не перечить хозяевам, какие бы они ни были, – ведь ихний хлеб ест.
Бияз слушал, задумчиво выдергивая из носа торчащие волоски, и наконец не вытерпел:
– Ну, полно! Будет тебе наставлять ее…
– Куда это заторопился? Говорю ей, пусть бережется, на хоро сказывали – всяких пройдох в городе, что мух на навозной куче.
– За три дня не выговорилась…
– Полезай, – Биязиха огладила на Тотке безрукавку и, отпустив ее теплую руку, шепнула:
– Смотри, блюди себя.
Спустя несколько дней Тотка ушла из города. Ушла пешком, когда забрезжил рассвет и выступили вдали очертания горных вершин. Она стремилась к ним, как к убежищу, волнуемая особым чувством, – каким-то смешением душевной слабости и томления здорового тела, – вспыхнувшим после того, что произошло той ночью.
*
Гости приходили одни за другими. И где все они поместятся? В гостиной уже полно. Если придут еще, где их усадит хозяйка, наверное, в спальне… Звонок молчит, кажется, гостей больше не будет. Тревожно на душе. Здесь не то, что дома, – спокойно встречаешь и провожаешь гостей. Здесь все ждешь чего-то, будто вот-вот вспыхнет пожар. Сейчас хозяйка прикажет вносить блюда. А сколько их! Кушаний наготовлено, как на свадьбу, и все разные. Она берет блюда, поднимает, руки сейчас не дрожат, но зато как войдешь в гостиную, да встретят тебя чужие взгляды, не знаешь, как ступить. Хозяйка вроде веселая, но Тотка знает, что сейчас-то и надо смотреть в оба.
– Тотка! – зовет хозяйка.
Вот оно, начинается самое трудное. Надо носить по два блюда. Раз двадцать придется входить и выходить. Но смущаться не будет. Да и что ее смущает? Почему так пристально и как-то особенно разглядывает ее племянник Лесевой? Уже целую неделю здесь, поскорей бы уехал… Слава богу, в кухне стало пусто. До чего же хорошо быть одной. И ничего не делать. Хозяйка велела лечь спать, да как тут ляжешь. Она уже их знает, этих людей: и слов своих не придерживаются, раз говорят их таким, как она. Не ляжет она, покуда гости не разойдутся… А может, прилечь? Поздно уже. Утром ей рано вставать, она не может валяться в постели, как они. Они-то могут делать, что хотят, вот ночь в день и превращают.
– Ох, как спать хочется… Вернусь домой, отосплюсь. Неделю буду спать без просыпу…
Сквозь дрему слышала, как открылась дверь, кто-то вошел… Может, хозяйке что понадобилось? Забулькал кран… Тотка открыла глаза. Племянник Лесевой выпил стакан воды и помотал головой, будто стряхивая сонную одурь. Потом улыбнулся, глядя на Тотку, и она невольно улыбнулась… А он вдруг набросился, срывая с нее одеяло. Она открыла рот, чтобы закричать, но голос пропал. Отпрянула и сильно толкнула хозяйского племянника. Тот упал на пол.
– Госпожа, помогите… – только теперь закричала Тотка.
– Не ори! – сказал он, поднявшись.
– Уйдите, прошу вас, – прошептала Тотка.
Племянник хозяйки вышел из кухни.
На другой день он вообще уехал, но пальцы его будто что-то оставили в ее теле, поселилась там какая-то слабость. Испугалась Тотка ее, себя и решила вернуться в село. И вот идет себе одна, поглядывает на горы и синеющее небо…
*
Один за другим подходили гимназисты, собирались под большим вязом. Отсюда они вместе шли в город.
– В давние времена, еще при турках, разбойники грабили здесь прохожих, – сказал кто-то.
– В лесах уже и зайцев нет, не то что разбойников, а все равно каждый базарный день посылают караул, – заметил Герган.
Узкая тропинка огибала несколько больших камней, а потом шла прямо через лес. Недалеко от ручья ребята догнали Митю Христова. Он оглянулся и поспешно застегнул доверху новенькую куртку.
– Эй, ученые, пойдем вместе, что ли, – пренебрежительно бросил он ребятам.
– Ну что ж, пойдем, – сбавил шаг Здравко.
Митю Христов, поколебавшись, посторонился и пропустил вперед Здравко и Гергана. Он всегда испытывал неприязнь к тем ребятам, которые имели возможность учиться в гимназии. Но сейчас, покосившись на серебристый погон, он самодовольно улыбнулся – почувствовал себя выше их. Вскоре он вспотел, но даже жесткий воротник куртки не расстегнул, – боялся, что если будет видна его домотканая рубаха, исчезнет чувство превосходства, доставлявшее ему сейчас такое удовольствие.
Спустя некоторое время они снова вышли на шоссе.
– Жарко, – лениво промолвил Герган.
– Могли полежать в лесу, покуда не станет прохладнее.
– А уроки ваши кто будет учить? – неизвестно почему спросил их Митю. Над маленькой вереницей снова легла тягостная тишина. И только камешки хрустели под подкованными ботинками.
Митю Христов шел позади Гергана, ощупывая его взглядом. Хрупкий, нежный, и лицом больше похож на городского. «Нет у него караколювской силы, не сможет он бороться с землей», – удовлетворенно подумал Митю.








