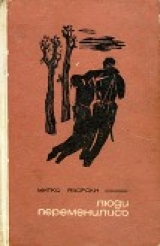
Текст книги "Люди переменились"
Автор книги: Автор Неизвестен
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц)
Позади над возвышенностью поднялся клуб пыли. Скоро показался грузовик. Гимназисты обернулись на шум мотора и подняли руки. Из кабины высунулся полицейский.
– Эй, новичок, садись!
Митю Христов глянул на запыленные носки своих сапог и подбежал к кабине. Еще когда грузовик подъезжал к ним, он заметил, что между шофером и полицейским есть место и для него.
– Наверх, – кивком головы показал полицейский.
Митю Христов прикусил губу, злое напряжение поднялось в его груди. Он быстро влез в кузов и облегченно вздохнул. «А эти пускай пройдутся!» – решил вдруг Митю и забарабанил кулаками по кабине.
– Готово!
Грузовик сразу тронулся. Никто из ребят не успел забраться в кузов. Некоторые из них побежали за грузовиком, но скоро отстали. Митю сразу полегчало: он как бы переложил на ребят обиду, которую нанес ему полицейский. Лоб его разгладился и узкий, как щель, рот, растянулся в довольной усмешке.
*
Здравко и Герган жили в городе у Ивана Косева, который сдавал комнату только учащимся-ремсистам.
– Ну что, насосались молочка? – шутливо встретила их жена хозяина Радка.
Герган ковырнул ногой рыхлую землю грядки, возле мощеной дорожки дворика, надул щеки, собираясь ответить, но вместо этого смущенно улыбнулся. Косев ласково потрепал его по плечу и строго заметил жене:
– Не до шуток сейчас.
– А ты что, хочешь сразу за серьезные дела приняться? – слегка обиделась она.
– Что, провал? – деловито спросил Здравко.
– Нет, – успокоил его Косев. – Поручили нам распространить марки для сбора средств в помощь политзаключенным.
– Это мы сделаем.
– Спрячь их пока где-нибудь.
– Надежнее всего спрячем, если сразу же раздадим их.
Пока Здравко разносил марки, наступил «гимназический час»[7]7
«Гимназический час» – после восьми часов вечера гимназистам не разрешалось ходить по улицам.
[Закрыть].
С порученным делом он справился легко, и теперь возвращался к себе по темным улочкам. Вдруг навстречу ему вышли из переулка двое полицейских. Здравко украдкой огляделся по сторонам – спрятаться было негде – и на всякий случай сорвал свой гимназический номер.
– У гимназисточки какой засиделся, а? – насмешливо спросил один из полицейских.
– Угадали! – с напускной веселостью ответил Здравко.
– Самое время тебе сейчас, – и полицейский завистливо посмотрел на него, будто хотел сказать: «Живется же вам!».
Во втором полицейском Здравко узнал Митю Христова.
– Второй раз сегодня встречаемся.
– Знаешь его? – обернулся первый.
– Земляки, из одного села, – поспешил сказать Здравко.
– А мы на свадьбу, сослуживец наш женится, – сказал полицейский, почувствовав расположение к этому высокому, ладному гимназисту, который приходился земляком его приятелю.
– Старшина Иван Венков женится, – добавил Митю Христов и пошел дальше.
Его приятель кивнул Здравко и поспешил вслед за Митю Христовым.
«Номера срывают, начинают с этого, а после, – скрипели в мозгу Митю чужие слова, – устои подрывать принимаются». – Слова напирали с неосознанной злобой, и он сказал:
– Богатея одного сынок, сколько мне приходилось на них работать. Они летом дынями торгуют, а я…
– Тебе не случалось подцепить гимназисточку?
Митю Христов удивленно уставился на приятеля.
– Ну, пощупать, – пояснил тот.
Митю прищурился.
– Не доводилось, – признался он.
– Мне тоже. А некоторым из наших удавалось…
Дошли до квартиры Ивана Венкова.
Митю Христова смутили обращенные на него взгляды сослуживцев, и он поспешил сесть на предложенное ему место. Расхлябанная сетка матраца глубоко осела под ним, и он ухватился за латунные шишечки железной кровати. Понемногу освоившись, он оглядел комнату. От стен с накатанным валиком узором веяло свежестью недавней побелки. На одной стене висел портрет царской семьи, на другой – зеркало в деревянной рамке, какие продают на ярмарках троянские ремесленники. С него свисало белое полотенце. Митю посмотрел на молодую в шерстяном сукмане. Городская жизнь еще не наложила на нее своего отпечатка. Она тоже смущалась, чувствуя устремленные на нее взгляды мужчин. Заливалась густым румянцем, неловко подливала в рюмки. Кувшин словно пьяный покачивался в ее руках. «Стыд-то у них все на щеки вылезает», – вспомнив Тотку, подумал Митю и залпом осушил рюмку.
*
Летней порой звезды недолго задерживаются в ночном небе и гаснут прежде, чем к ним прикоснется заря. И подобно им, крестьяне тоже не залеживаются в постели.
Мглистая пелена спадала с Крутой-Стены, обнажались вершины гор, и пока Караколювец возился с буйволами, совсем рассвело.
– Немного косить осталось. Косу вчера отбил, сегодня поработает; бабку и молоток брать не буду, – говорил сам с собой дед Габю, топчась по гумну. Вскинул косовище на плечо и крикнул в открытое окно дома:
– Про буйволов не забудьте, не то испекутся они в хлеву!
Никто не ответил.
– Старуха, не слышишь, что ли? – заорал он.
– Да что мы, первый год буйволов держим! – высунулась Габювица из окна.
– Гляди, не забудь, – и Караколювец пошел к воротам.
Разгребая дорожную пыль широкими постолами, он покашливал, досадовал, что нет попутчиков, не с кем поговорить. Тропка показалась ему слишком крутой, и он пошел отлогим проселком. Но и по дороге никого не нагнал, хоть бы поздороваться с кем, а то прямо во рту пересохло. Вот и луг. Припозднился. Быстро насадил косу на косовище. Прошел несколько рядов, и коса начала цепляться за траву. «До болота дойду, там ее отобью». Посмотрел в соседний луг.
– Трифон, а Трифон, нет ли у тебя бабки да молотка? Вчера отбивал, да трава болотная притупила жало.
– Под дубом лежат.
Дед Габю сдвинул шапку на затылок, утер рукавом вспотевший лоб и пошел к дубу. Скоро молоток зазвенел о стальное лезвие косы. «Недовижу, могу и защербить». Пот тонкими струйками остывал по согнутой спине. «Петкану бы взять на себя всю работу, а я не могу… Сила уже не та», – думал он. Посмотрел на Бияза. Тот мерно взмахивал косой. За ним тянулся ровный ряд скошенной травы.
Спустя некоторое время Бияз вскинул косу на плечо и направился к дубу.
– Притомился? – радостно встретил его Караколювец.
– Задел об кротовину… Да разве это коса, совсем искосилась. Дед Габю, дай и твою отобью.
– Вот и ладно, а то недовижу я.
Трифон Бияз сел, положил косу на бабку, взял молоток, и под дубом словно колокольчик зазвенел. Караколювец растянулся на траве.
– Червячки, всякая мелочь копошатся в земле, рыхлят ее, а железо ее не берет.
Бияз свистнул и весело сказал:
– Готово.
– Мне мало осталось, давай подсоблю тебе, – предложил Караколювец.
Бияз поглядел на него, словно оценивал его силу.
– Коли так, давай вместе возьмемся, скорей управимся.
Дед Габю переступал за Биязом. Следом ложилась пластом скошенная трава.
Жара пошла на убыль, и на западе от распаренного горизонта поползла легкая вечерняя тень. Биязу осталось на завтра докосить возле болота.
*
Спешил он или нет, утро всякий раз заставало Караколювца на гумне. Пока установит на телеге высокие грядки для возки сена, смажет оси дегтем, глядишь, солнце уже коснулось верхушки шелковицы.
– Запоздал, края нет, все поразбалтывалось. – Открыл калитку гумна и нетерпеливо крикнул:
– Куда вы там подевались, эй! Веди буйволов!
– Давай, давай, – уговаривала еще сонных буйволов Габювица, ударяла их по рогам занозой, заставляя сунуть шеи в ярмо.
– Не дразни, ткнет тебя, и не встанешь! – крикнул дед Габю и вырвал у нее из рук поводья. Телега легко застучала по спекшейся от жары земле.
– Стой, стой, мешок положила?
Из кухни выглянула Вагрила, руки по локоть в муке.
– Я принесу, пройду прямиком и раньше тебя буду.
Дед Габю прикрикнул на буйволов, перекрестился, и скоро колеса врезались в глубокую дорожную пыль.
– Бог в помощь, – здоровались с ним возницы. Он всем отвечал:
– На помощь бог.
– Хлеба узревают.
– Скоро жать будем… – Они обменивались скупыми словами, пока разминутся по тесной дороге.
По обочинам молчаливо стояли кусты боярышника и терновника, припорошенные пылью. Между телегами с косой в руке пробирался Мишо Бочваров. Вернулся сегодня утром. Все были в поле, и на улице никого не встретил. Дома и часу не усидел.
– Луг возле болота некошен остался, – понимающе сказала ему мать.
Он спешил: было стыдно идти на косьбу в такой поздний час. По дороге соседи с ним здоровались, расспрашивали, надолго ли его отпустили, как идет служба, и за разговорами запаздывал еще больше.
Дед Габю, сидя на передке, цокал языком, помахивал хворостиной.
Мишо Бочваров его нагнал и на свою голову поздоровался. Дед Габю вгляделся в него:
– Да не ты ли будешь Стояницы Бочваровой сын?
– Я и есть. На побывку пришел.
– Не признал я сразу. Глаза-то у меня слепнут… На побывку, значит… Нас когда-то тоже пускали на побывку в страду. Как там у вас, не знаю, но в наше время, говорю, строго было. За дисциплиной глядели – будь здоров. Ты не смотри, что я сейчас тяжеловат, все годы; а тогда-то я был полегче и в кавалерии служил. Был у нас один вахмистр, так он нам все говаривал. «Дисциплина, – говорит, – войску мать. Солдат, который ее не чтит, не солдат, а дерьмо». Как сейчас помню.
– Да, верно, – поддакивал Мишо, деваться ему было некуда. И рад бы улизнуть, да как, когда Караколювец погонял буйволов, не отставая от него, и продолжал:
– Недовижу я. Может, пастушата тебе сказывали. Буйволов своих в стаде не могу узнать, вот и вешаю им ботала. На уши-то, вишь, не жалуюсь, по боталу буйволов узнаю.
– Я вот на луг спешу, матери хочу помочь, – сказал Мишо.
– И захочешь, в селе не можешь усидеть. В полдень хоть нагишом пройди по улице, никто смотреть не станет, – некому.
– Знамо дело, – отвечал Мишо.
Дед Габю подгонял буйволов хворостиной и оплетал Мишо новыми словами.
– Был бы жив твой отец, царство ему небесное, по-другому было бы. Камнем ему спину переломило в карьере. Мы дом, что ли, ставили тогда. Ты-то был мал, где тебе его помнить.
Мысли деда цеплялись то за одно, то за другое.
– На Лазарев день не было тебя в селе. Да что я говорю, вас ведь и на рождество-то не отпускают. Но слышал, небось, праздник-то трезвенники устроили. Видел там Биязову Тотку, такая стала – не узнать.
– Ну? – вздрогнул Мишо и убавил шаг; телега поравнялась с ним.
– Стой, куда рвешься, опрокинешь телегу! – заругался дед на буйволов. – Да, про трезвенников говорили. Хорошо это, конечно, – не пить. Да не верю я им: нынче не пьют, а завтра как прорвет – не нальешь вином, словно рассохшуюся бочку. Небывалого сторонись. Иди себе торной дорогой, вкуси от всего, сколько можешь. Тогда крепнет душа в человеке и труднее ее одолеть греху… – Караколювец неопределенно махнул рукой; слово, будто непромолотое, осталось на языке, и дед ненадолго замолк.
«Значит, Тотка приходила на игрище». – До свиданья, до свиданья! – Мишо прямиком зашагал через луг. «Трудно матери», – прошептал он и ускорил шаг. «Приходила в село, Тотка приходила на Лазарский праздник», – вспоминал он слова Караколювца.
Скоро коса ужом засвистела в его крепких руках, и жесткая трава стала покорно ложиться под ноги. Дошел до болота, где кончался их луг, и воткнул косу рукояткой в землю. Сжал губы, прищурил глаза, и по лезвию косы засвистел брусок. На шее Мишо, покрытой свежим загаром, выступили капельки пота. Поднял руку, утирая пот, и только тогда огляделся. Над лугами трепещущими волнами стояло серебристое марево. Пастушата отгоняли скот от гривы межи, за которой начинались хлеба. На лугу за дубом ворошили сено только две женщины. На одной из них белел платок, как флаг.
– Стой, да стой же! – раздался крик деда Габю. Мишо Бочваров положил брус в тыкву с водой и снова принялся косить.
Караколювец поставил телегу в тень под дубом и прогнал буйволов пастись на лугу.
– В такую жару и ворошить нечего, само просохнет, – крикнул он женщинам. Вагрила и Тотка только посмотрели на него и ничего не ответили. Он побежал вернуть буйволов с соседнего поля.
Вагрила шла впереди, перед Тоткой мелькала ее выгоревшая кофта. Сама Тотка двигалась в шаге от нее, время от времени в душном воздухе одиноким колокольчиком звенел ее смех. Белый платок, надвинутый на глаза, словно стреха, бросал тень на загорелые щеки.
Трифон Бияз с утра досадовал, что придется опять тащить с собой косу из-за пол-охапки жесткой болотной травы. Но пришел на луг – и успокоился. Сама работа была ему в радость. Только раз пробормотал под нос:
– Надо было пустить скот, пусть бы выпас ее!
Маленькая птичка взмыла вверх. Ее крылья тревожно прохлопали над головами женщин. «Что-то стряслось», – сказала себе Вагрила и побежала к Биязу.
– Что там? – пустилась догонять ее и Тотка. Тихий ветерок развевал ее ситцевое платье. Вагрила нагнулась к Биязу. В его черной, как ком земли, ладони, лежал разрезанный косой птенец.
– Что ты наделал, Трифон, что наделал, – укоряла его Вагрила.
Бияз встал, бросил птенца; взял косу и с сожалением посмотрел на капельки крови, запекшиеся на ее лезвии. Пошел к дубу.
– Батя, что же не смотрел?
– Как тут увидишь? – буркнул Бияз.
Вагрила невольно подумала о других птенцах. Она разыскала в траве двух, положила одного на ладонь.
– Махонький еще, без матери пропадет. Давай уйдем, а то пугаем ее. – Она положила птенца в траву и тихо отошла.
«Глазки светились, как живые», – вспомнила она мертвого птенчика на ладони Бияза. Она вздрогнула, запахнула на груди ситцевую кофту, словно стало холодно, и взглянула на небо. Серое и жаркое, оно ничего не сулило ей, но с тех пор, как убили Влади, Вагриле все казалось: грозит ли какая беда – всегда ее что-то предупреждает, а она не понимает.
– Ох, боже, боже, – вздохнула она.
Бияз тщательно стер с лезвия капли крови, словно хотел стереть самую память о случившемся, и прилег. Мысли, неясные и тоскливые, отгоняли сон.
– Эй, Трифон, уснул, что ли? Печет-то как, погорит сено, – пробасил дед Габю.
– Зовет меня кто? – вздрогнул Бияз и поднял голову.
– Спи, спи себе.
– Не сплю я. – Бияз сел. – Птенчика косой зарезал.
– Ну так что? – удивился дед Габю.
– Да жалко.
– Да ты газет не читаешь, что ли. Не знаешь, что по всей Европе творится. А в Балканскую войну что было! Как загремит эта самая артиллерия, – так снаряды людей в клочья рвут…
– Так-то оно так, да что ни говори, человека загубить своими руками все тяжелей, чем пулей. Там выстрелишь – и не видишь, и не слышишь. В селе не упомню, чтобы человека топором убили.
– Я о другом. Мы, люди, такие, – кур жалко, а когда людей тысячами убивают, слушаем про это, будто про свадьбу рассказывают.
– Тварь малая, дед Габю, и она душу имеет… Ну откуда же было знать, что он здесь вывелся.
– Тебе вот сейчас птенца жалко, а завтра человека зарежешь, а сам все такой же будешь, ни лучше, ни хуже. То, отчего человек ожесточается, оно, как ветер, на всех дует.
Караколювец, прервав свои рассуждения, вскочил и пустился бежать, чтобы вернуть буйволиц, которые направлялись к болоту. Он не давал им пить стоячую воду, чтобы не болели глистами. Вернувшись под дуб, он продолжал:
– Трифон, человек забывает о худом. Ежели бы не забывал, жить бы нельзя было. А так только тверже становится от пережитого.
С неба дождем лился зной. Вагрила и Тотка, кончив ворошить сено, сели в тени под дубом.
– Поедим, что ли?
– Что, уже полдень?
– Давно уж!
– Когда голодный, да есть что пожевать, оно всегда полдень, – радостно задрожал голос Караколювца. Не вставая, дед подвинулся, пристально осмотрел разложенную на платке еду и стал хлебать взвар.
– Брынзу ешь, – предложила Тотка.
– Меня ложка кормит.
Трифон Бияз жевал сухую брынзу и молчал.
– Трифон, смочи горло.
Бияз отхлебнул из глиняного горшка и недовольно пробормотал:
– Сахару не положили, несладко.
– Эх, Трифон, мало на свете сладкого-то, на всех не хватает, вот люди за него и грызутся. Оно, почитай, то же, что кость для собаки. Ведь и Стояновы дела все из-за того же.
– Ты Стояна не трогай! – прервала его Вагрила.
Дед Габю хлопнул себя по морщинистой, как у черепахи, шее, и поймал остервенело кусавшего его слепня.
– Припекает, может, дождь пойдет.
Бияз оглядел обвитые маревом хребты.
– Белые облака дождя не носят.
– Да много ли ему надо, летнему-то дню, – по привычке возразил Караколювец и тоже поглядел на облака.
– Правда, белые.
Буйволица направилась к лежавшему рядом полю. Когда узревают хлеба, Караколювец не дает ногой ступить на поле. Потому, не проглотив куска, побежал ее прогонять. Буйволица жадно щипала траву на меже, и он отталкивал ее, тянул за рога – хворостина осталась под дубом. «И у скотинки страха нет, когда ты на нее с голыми руками…» – размышлял он, медленно возвращаясь в тень. По дороге поднял голову – далекая буря сорвала белое облако с чела Юмрукчала и погнала по выжженному небу. Облако росло и скоро закрыло солнце. Темная тень упала на луга. Мухи остервенело кусали за щеки, за руки. Оборвался сиплый голос какой-то птахи. На болоте закричали лягушки.
– Эй, люди, дождь будет! – громко, словно предупреждая все поле, закричал дед Габю. Женщины схватили грабли и принялись сгребать сено в копны. Туча снизилась, точно ястреб, крона дуба потемнела, поле затихло в трепетном ожидании. Умолкли лягушки, исчезли мухи, не перепархивали птицы. Первые капли дробно застучали по сухой земле, и луга встрепенулись в трепетном ожидании.
– Не поспеть уже, – первым бросил грабли Караколювец.
Женщины, накрыв головы снятыми передниками, побежали к дубу.
– Эк собралось, может, зарядит, – цыкнул языком Караколювец. На темном небе белой змеей изогнулась молния. Дуб вздрогнул, сильные порывы ветра разметали намокшее сено, гнули недокошенную траву. Гром, поднявшись снизу, раскатился по всему небу. Женщины вздрогнули и перекрестились.
Какая-то одинокая птица кружила низко над землей. Вагрила вздохнула:
– Детей ищет.
По себе знала, что только мать в грозу не испугается за себя. Слезы застлали ей глаза. Тотка не стерпела, спросила:
– Что с тобой?
– Молода еще, не понять тебе. Ничего, ничего, – тыльной стороной ладони Вагрила вытерла глаза и через силу улыбнулась.
Бияз приставил ладонь козырьком ко лбу и долго глядел на одинокую птицу.
Босиком, с мешками на головах и подвернутыми штанинами к дубу подбежали двое косарей.
– Ну и льет, промочило так, что и до завтра не обсохнешь, – Стоян Влаев сдернул мешок с головы.
– День добрый, – тихо поздоровался Мишо Бочваров и принялся выжимать мокрый мешок.
– Идите сюда, тут сухо, – сказала Вагрила.
– И ты здесь? – насмешливо сказал Стоян. Он не мог забыть, как Вагрила отнеслась к нему в участке, и все старался как-то уколоть ее.
– Где же мне быть-то, не на пуховиках выросла. Здесь, на поле, и умру, – пожала плечами Вагрила..
– Да, от ненастья мы не гарантированы!
Дед Габю хмуро глянул на Стояна Влаева.
– Да где ты найдешь такой банк, чтобы тебе гарантировал погоду, жизнь да труды. Нету поручителей за жизнь человеческую. Взять деда Бижо, как сейчас его помню. Пасли мы вместе с ним скот возле свяченого вяза. Вечером воротились, попрощались и разошлись. Не успел торбу с плеча снять, идет его старуха: «Габю, – говорит, – Бижо лег и помер».
– Зачем сейчас о таком говорить, – заметила Вагрила.
– А ты что, боишься, что ли? – усмехнулся Стоян.
Вагрила не ответила, только строго посмотрела на него.
Со стороны гор донеслись раскаты грома. Дождь начал ослабевать.
– Уходит, – глядя на тучу, сказал Караколювец.
Показалось солнце, и по зубчатому гребню горы заструилась золотая речка.
Мишо Бочваров смотрел на Тотку. Смущенный румянец заливал ее кроткое приветливое лицо. Глаза у нее большие, смотрят мягко. «Добрая она, безобидная», – думал Мишо.
Бияз покусывал губы, хмурил лоб. «Все труды пошли прахом. Начинай теперь сначала, ничего не поделаешь».
– Стоян, могут ли люди когда-нибудь такое придумать, чтобы жить да не работать? – спросил он.
– Придумают такое, чтобы поменьше болтать.
– Никогда такого не будет, – вмешалась в разговор Вагрила. – Видишь, всякая тварь себе пропитание добывает, даже трава, и та семена выращивает.
– Так уж свет устроен, – задумчиво произнес дед Габю.
– Худо он устроен. Одни работают, под дождем мокнут, а другие живут себе припеваючи, даже не знают, как хлеб растет.
– К чему эти разговоры, – укоризненно сказала Вагрила.
Мишо толкнул Стояна, чтобы тот замолчал. Стоян только сердито вздохнул.
Дождь прошел. Прибитая трава быстро распрямлялась. Мухи появились снова, но уже не кусались. Порхали птицы, ныряя в воздухе как рыбки в прозрачном ручье.
Тотка не смотрела на Мишо, да ей и не надо было его видеть. В ее душе, словно только что вылупившийся птенец, зашевелилась тихая, до сих пор незнакомая сердцу радость, и этой радости отдавалась она сейчас.
Мишо медленно пошел через луг. Он уносил с собой воздух, которым только что дышал вместе с Тоткой, и тихо улыбался. За ним следом шел Стоян Влаев, который все еще не мог успокоиться.
– Задиристая баба!
– Кто?
– Да Вагрила. Все хочет по-своему перевернуть. Да если бы не случилось такого с Влади, я бы ей и про участок напомнил.
Мишо смотрел на него, будто не видел, и вместо ответа замурлыкал веселую песенку.
– В воскресенье приходи, поговорим, – на прощанье сказал Стоян Влаев и пошел своей дорогой.
Телеги шли пустые. С Крутой-Стены робко спускался летний вечер. Темнота заполнила ложбины, коснулась холмов. На лугах и полях лежала тишина. На синем небе высыпали неспокойные звезды, словно немигающие глаза.
*
Целую неделю с неба лился белый зной. Поспели хлеба. Все село вышло в поле. На желтой стерне, как часовые, встали крестцы.
Бияз жал вместе с дочерью. Жена его и в это лето не вышла в поле, все хворает. А у других хозяев вон сколько на полях бабьих платков белеет…
Два добрых жнеца могли убрать хлеб на его поле за один день, а сейчас он боялся, что не успеют: Тотка с трудом могла за ним угнаться, да и поздно начали сегодня.
– Хоть при звездах, да дожнем.
– Успеем, рано еще, – не думая ответила дочь и посмотрела на солнце – огненное, горячее, разливающее жар по всему небу. Над увядшим лесом лениво трепетал зной. Птицы, нахохлившись, сидели по веткам – отдыхали. Там, где прошли жнецы, поле поблекло, словно осиротело. Тотка снова взялась за серп.
Спустя некоторое время вдали в знойном мареве показалась женщина в черном сукмане, рядом с ней – мальчик в белой рубашке. Чуждая полю и жнецам, всему плодородию земному, ее фигура привлекла взгляд Бияза.
– Она, – зло подумал Бияз и повернулся к дочери. – Тота, что не сказала матери, чтобы не приходила? Смотри, ведь почернела вся.
– Да откуда мне знать, батя, что она придет, – кротко ответила дочь.
Бияз закусил губу, загреб горсть колосьев, взмахнул серпом.
Биязиха уже сколько лет не брала в руки серпа. От пустоты и тишины, ложившихся в селе с ранней зари, она чувствовала себя еще хуже. Даже на улицу не хотелось выходить. Но как припекло посильнее солнце, да как посмотрела на золотившиеся поля, на согнувшихся жнецов, которые передвигались по ним, словно жуки, не устояла. Ее тянул к себе запах хлеба. Ноги ее быстро уставали, и она часто всем телом опиралась на клюку.
Бияз не хотел ее видеть, даже думать о ней не хотел и сильнее налегал на серп. Но все же краешком глаза посмотрел. Мальчик подбежал к ним.
– Не мешай мне, – прикрикнула на брата Тотка.
Биязиха подошла. Лицо ее озарила тихая радость. Снопы лежали, словно спящие люди. Она растерла в ладонях колос:
– Ядреное зерно, – и несколько раз перекрестилась.
– Смотри ты, крестится, будто в церкви, – взорвался Бияз.
– Батя! – укорила его Тотка.
– Бог в помощь! – пожелала Биязиха.
– Мама, поставь два снопа и сядь в тени, – предложила Тотка.
– Очень нужно было приходить, знаешь ведь свои силы, не годишься уже для поля, – заметил Бияз.
– Легко тебе говорить, Трифон. А ты спроси, каково лежать в такое время. Если к месту привяжут – помрешь. В селе-то остались только хромая Нача да я.
– Иди, иди, послушайся Тотку, – подгонял ее Бияз, – а то черное жар притягивает, и мы с тобой сгорим.
– А я все зябну. Не греет кровь-то, – пожаловалась Биязиха.
Тотка отложила серп, поставила снопы:
– Сядь, мама!
– Эй, парень! – крикнул Бияз сыну. – Ступай принеси холодной воды. Кувшин на меже лежит, под кустом.
Мальчик выплюнул соломинку, через которую пытался пускать пузыри, и зачастил босыми ногами по твердой спекшейся тропинке. Сухой зной не мог пробиться к ручью, затененному вербой и ракитником. Мальчик подставил кувшин под желоб и вошел в теплую воду. У его ног блуждала мелкая рыбешка. Он ее подстерегал и прижимал ладошками к каменистому дну.
– Ах ты негодник, сонную рыбу ловишь! – вздрогнул он от сердитого голоса, невольно выпустил пойманную рыбку и поднял голову.
– А, это ты! – узнал он Мишо Бочварова.
– А кто же?
– Я думал, сторож.
– Бери кувшин, видишь, давным-давно полон. Вот отец тебе задаст, – выговаривал ему Мишо Бочваров, подставляя свой кувшин под желоб и недовольно вздыхая, глядя на тонкую струйку воды.
Скоро Мишо нагнал мальчика на тропинке.
– Ты не биязовский ли?
– Да, а что? Отцу, что, ли, скажешь про рыбу?
«В кого он такой озорной? Отец и Тотка – люди смирные», – подумал Мишо и спросил:
– Сестра твоя в поле?
– Видно, приятелями станем. В поле.
– А не боится она загореть? Ишь, как печет.
– А она в платке, даже нос спрятала.
– Привет ей передай. Знаешь, кто я?
– Ага! – кивнул мальчик и побежал.
Бияз прильнул губами к кувшину, вода шумно забулькала у него в горле. Поглядев на мужа, Биязиха перевела взгляд на свои ноги и горестно промолвила:
– Господи, за что насылаешь на нас немочь!
– Пей, мама! – поставил перед ней кувшин Биязенок.
– Дай сперва ей напиться, – кивнула она на дочь.
– Сестрица, испей водички.
– Не хочу, не мешай…
– Один парень привет тебе передает.
Тотка почему-то сразу поняла, что этот парень – Мишо. Ее полные розовые губы дрогнули в улыбке. Вскоре, продолжая жать, она затянула песню, но тут же оборвала себя и смущенно взглянула на мать, неподвижно сидевшую в тени снопов. Но ничто уже не могло остановить песню, она просто рвалась из груди. И Тотка снова запела. Биязиха послушала и вздохнула: весело поет Тотка, а песня эта печальная. Да что ей сказать – молода еще, не поймет. Встала, опираясь на клюку, собираясь уйти. Любо ей было слушать дочь, но сейчас она будто отдалилась от нее. Ласково взглянула на мужа. Бияз уже жалел, что встретил ее так сердито.
– Зачем было приходить, мало разве у тебя делов. Да и можно разве дом без человека оставлять…
Биязиха медленно побрела к селу. Тотка поглядела ей вслед:
– Смотри, мама, не упади!
– Да что я, бегом бегу? – отозвалась Биязиха.
«Привет Мишо передал», – звенело в груди Тотки, она снова запела, горячий пот орошал радостный румянец, игравший на ее лице.
– Пошевеливайся, времени мало! – подгонял ее Бияз.
Тотка жала споро, захватывая колосья деревянной рукавицей на левой руке, и взмахивала серпом. От реки тенью надвигался летний вечер.
– Бог в помощь, Трифон, – сказали проходившие мимо женщины.
Одна из них посмотрела на Биязиху, бредущую к селу.
– Хворая она, а девка и знать не хочет, поет себе.
– А когда же петь, как не сейчас. Выйдет замуж, навалятся заботы, и захочет запеть – времени не найдет.
– Молодость-то своего требует…
Постепенно поля обезлюдели. На стерне остались одни крестцы. Застрекотали кузнечики. В низине у реки перемигивались светлячки.
Мишо Бочваров и его мать обо всем уже переговорили и ужинали молча. Вокруг лампы кружилась мошкара. На золотые полосы света во дворе отбрасывала ленивую тень шелковица. Мишо Бочваров умылся, сменил рубаху и вышел. У калитки его догнали слова матери:
– Не запаздывай, завтра рано вставать, не выспишься!
– Завтра воскресенье.
– В страду праздников не бывает.
– Ладно, – ответил он и захлопнул за собой калитку.
– Ох-ох, нога занемела, – устало потянулась старая Бочвариха. – Здесь болит, там болит, где вы, годы молодые…
Прибрала со стола с трещиной поперек столешницы, разулась и легла. В ее усталом мозгу, словно мошки вокруг лампового стекла, вились неясные для нее самой мысли; скоро она уснула.
Мишо Бочваров вышел на площадь. У общинного правления горел фонарь. В кругу света стояли кучками парни и девушки. Услышав непристойную шутку, девушки прыскали, зажимая рот ладонью, переглядывались смущенно, а парни заливались смехом. Мишо сел на скамейку, закурил. На душе было пусто, как на сжатой полосе: не грустно и не радостно. Чьи-то корявые руки охватили его голову, Мишо ощутил терпкий запах пропитанной потом рубахи.
– Не балуй, пусти.
– Так замечтался, что и не услышал, как я подошел, – засмеялся Стоян Влаев и сел рядом.
– А я было подумал, что кто-то из парней дурака валяет.
Стоян виновато улыбнулся и спросил:
– Когда кончается отпуск?
– Через неделю.
– Скоро молотить начнем.
– Коли не успею, отработаю сейчас кому загодя за молотьбу, маме все легче потом будет.
– Как привезешь снопы на гумно, считай, что с хлебом.
Когда говорили о крестьянских делах, Стоян Влаев повторял слова стариков, и от этого ему было как-то неловко.
Парни привели музыканта – пастуха Марина. Он встал посреди площади, перебирая клапаны кларнета, и заиграл. Вокруг него ярким осенним букетом закружилось хоро.
– Пойдем, что ли, по домам, – сказал Мишо.
– Успеется, – отозвался Стоян. Он задумчиво смотрел на танцующих… Процессы, аресты, тюрьма… и не увидел, как прокатились годы. Стареть начал. Раньше гордился собой, а сейчас в душе, против воли, завидовал чужой молодости.
Неслышно ступая, подошел Филю.
– Что, дядя Стоян, дома не сидится, на хоро пришел, как молодой.
– Молодость свою пришел вспомнить, парень. Наработался сегодня так, что всего ломает, а вот пришел. Молодость – самое большое богатство. Да только понимает это человек, когда начинает стареть.
– Уж не думаешь ли ты, Стоян, что за меня кто-то другой работал? – пренебрежительно усмехнулся Филю.
Донка первая заметила Мишо Бочварова и радостно шепнула подружке:
– Ты знаешь, Мишо здесь.
– Где ты его видела? – спросила Тотка, чувствуя, как кровь приливает к щекам.
– Да вон они со Стояном на скамейке. Давай, пройдемся по шоссе.
Тотка вроде бы и неохотно пошла, увлекаемая подругой. Они плечо к плечу прошли по шоссе. Тотка увидела Мишо, и к сердцу подступила горячая волна.
– Ищут кого-то, – заметил девушек Стоян.
– Донкиного здесь нету, – сказал Филю, – а кого ищет Тотка, не знаю.
– Как же это она без ухажера осталась? – спросил Стоян.
– Кто ее знает. Может, не нашла никого по сердцу.
Мишо Бочваров весело улыбнулся про себя и обернулся к Филю.
– Ты-то откуда знаешь?
– Было бы что, сразу бы стало известно.
Немного погодя Мишо встал и пошел к танцующим, влился в цепочку хоро, взял Тотку за руку, перебирая ногами, поймал такт. Он плясал, поглядывая искоса на Тотку. Она чувствовала это. Мишо сжимал руку девушки, снова рождались в его сердце ласковые слова, как тогда в городе…








