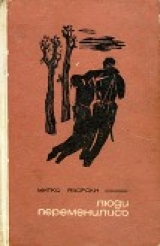
Текст книги "Люди переменились"
Автор книги: Автор Неизвестен
Жанр:
Военная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 20 (всего у книги 22 страниц)
– Малыш пускай ничего не ведает, – шепнул Бияз жене, выходя из горницы.
Тихо вошли в спальню. На широкой кровати посапывал ребенок. Биязиха поклонилась в угол, где стояли иконы, и перекрестилась. Словно спохватившись, Бияз тоже перекрестился.
Некоторое время они сидели на кровати, потом прилегли. Беззвучно шевеля губами молились, чтобы ничто не нарушило тишину.
Тянулись минуты, долгие как часы: часы, долгие как вечность. Ребенок пошевелился и сладко зевнул. Это словно разбудило тишину. Где-то залаяла собака, за ней другая, третья…
– Что это, Трифон! – голос Биязихи дрожал как пламя догорающей лампадки.
Бияз метнулся к окошку и прильнул к нему в трепетном ожидании чего-то страшного. По улице шли, конвоируемые полицейскими, связанные по-двое, человек десять мужчин, за ними – женщина с ребенком на руках… Бияз с трудом перевел дыхание… Пожалуй, с ней не случится ничего страшного, ведь она с ребенком… И ему полегчало. Он направился к двери, словно подгоняемый неведомой силой.
– Трифон! – тихо окликнула его Биязиха, но он уже затворил за собой дверь. Выйдя со двора, он прислонился спиной к калитке, постоял немного, силясь успокоиться и вернуться домой. Но его неудержимо потянуло за связанными людьми, и он крадучись пошел следом, держась тени плетней.
Лай постепенно затих. На село снова опустилась тишина. Полицейские вели арестованных по шоссе. «Наверно, ведут в город», – подумал успокаиваясь Бияз. Только теперь он осознал, что он пошел за ними тревожась за их судьбу. Но как ему теперь вернуться? Хоть бы его никто не заметил! Он содрогнулся от страха, продолжая следить за конвоем… Вдруг Бияз насторожился, увидев что полицейские, наставив штыки, заставили арестованных свернуть с дороги и погнали куда-то через луг. У Бияза сжалось сердце, замер в горле беззвучный вопль. Он последовал за ними, прячась за деревьями.
Полицейские подвели арестованных к одинокому дубу, среди луга.
«Здесь я нечаянно снес голову птенцу», – вспомнил Бияз, и в душе его воскресло неприятное чувство, которое он тогда испытал.
– Один, два, три… десять мужчин, женщина и ребенок! – услышал Бияз как пересчитывают задержанных. Полицейские отошли на несколько шагов от них, подняли винтовки и автоматы. Треск выстрелов заглушил возгласы и крики… Снова стало тихо. Полицейские неторопливо направились к шоссе. Бияз упал на землю ничком… Зачем он пришел сюда? Мало ли у него своих горестей… Да будет проклята та сила, которая привела его сюда…
А земля пахнет весной, она равнодушна к человеческому горю…
Тишина встрепенулась. Как круги от брошенного в воду камня, распространились вокруг звуки детского плача. Бияз поднял голову. Робкая надежда зародилась в нем. Та сила, что привела его сюда, снова толкнула его вперед, на детский крик.
– Тихо, не плачь! – зашептал он, едва шевеля губами. – Как бы не услышали, пусть они уйдут. Я тебя возьму к себе. Никто тебя не хватится… Молчи, не плачь…
Но ребенок не умолк, заплакал еще громче… Один из полицейских пошел обратно к дубу. Бияз снова приник к земле.
«Молчи, молчи!» – мысленно повторял он.
Полицейский остановился перед неподвижной грудой тел, и короткий огонек обрубил детский плач. У Бияза перехватило дыхание. Глаза его наполнились слезами. Как безумный он побежал через луг. Сердце горело в груди. Кто это сделал? Люди? Может быть, ему померещилось? Он ужасался тому, что и он человек.
…Бияз вошел в дом. Дверь спальни скрипнула и перед ним, как одинокий подснежник, предстала белая рубашка его сына.
– Тятя!
– Уйди, убью! – прошипел Бияз и, ужаснувшись сказанному, зажал себе рот. «Скорей в горницу… надо опередить полицейских… иначе убьют меня, сына, всех нас убьют!» – мелькало в его помраченном сознании. Вошел в горницу, нащупал под лавкой топорище. Владо открыл глаза, увидел блеск стали…
Вешняя заря, разливаясь половодьем, посеребрила улицы, крыши и дворы пробуждающегося села.
*
Бияз спал безмятежным сном. Растянувшись на полу возле очага он проспал беспробудно несколько часов. Солнечный луч, проскользнув через окно в кухню, заиграл на его морщинистом лбу. Бияз открыл глаза и потянулся. На крыльце его встретил чистый весенний день. Он взглянул на небо, высокое и ясное. Светит ласковое и доброе солнышко… Он почувствовал свое ничтожество перед природой, какую-то тяжесть на душе… и вдруг вспомнил все, что произошло ночью, сердце его пронзила нестерпимая боль. Он повалился на землю. Пусть ударит молния и испепелит его… Пусть придут товарищи Владо и покончат с ним. Он сдавил горло в тщетной попытке задушить себя… Медленно поднялся на ноги… Его потянуло на улицу. Он должен с кем: то поделиться давившим его бременем. С кем? Только с Вагрилой, она будет молчать…
Он распахнул калитку двора Караколювцев и, пошатываясь как пьяный, пошел по двору, не обращая внимания на кидающуюся на него собаку.
– Пошла прочь! – прикрикнула на нее Вагрила.
Бияз улыбнулся, обрадовавшись, что застал ее дома.
– Чему ты улыбаешься, Трифон? – недоумевающе спросила она, очень уж странной показалась ей эта улыбка.
– Бог в помощь! – приветствовал он Петкана, словно только ради этого и пришел.
– Садись! – сказала Вагрила, показывая на низенькую табуретку.
Здороваются, даже усаживают. Неужто не замечают, что он уже не тот. А может, не говорить, что он сделал ночью.
– В порядок его приводишь? – обратился он к Петкану, обмазывавшему глиной плетневую стену сарая.
– Хочешь, не хочешь, а надо, – отвечал тот.
– Это ты хорошо делаешь, – одобрил он, – надо его в порядок привести. – Он сел и закинул ногу на ногу.
– Вы слышали новость? – спросил Бияз немного погодя.
– О Мишо что-нибудь? – Вагрила даже подошла поближе.
– Третьего дня, ночью в городе убили Георгия…
– Кого?
– Партизана. Пятьсот полицейских с ним одним сражались. А он – словно из камня вытесан. Не берут его пули и все! Полицейские дом в кольцо взяли, плечом к плечу стояли, чтобы Георгий как-нибудь не выскользнул. Ну, после подожгли дом. А Георгий, как понял, что не уйти ему, облился керосином, вылез на крышу, да и вспыхнул над городом как флаг.
– Кто это тебе сказывал?
– Эту ночь Георгиевой люди звать станут… – Бияз замолчал. «Ведь муку свою пришел гасить, а говорю о другом…» Он невольно взглянул на небо, оно все также давило на него. Он поднялся и тихо заговорил:
– Я пришел сказать вам…
– О Мишо что-нибудь? – перебила его Вагрила, но почувствовала, что он скажет что-то другое, очень важное.
– Я ночью топором… человека порешил…
– Да что ты, Трифон! – вскрикнула, отступая от него. Вагрила.
– Он был товарищем Мишо и вашего Гергана.
– Трифон, да ты в своем уме?
– Я его укрывал.
– Неужто ты его… ради награды… – Вагрила впилась в него грозным взором.
– Нет… – твердо ответил Бияз. – Я его укрывал много раз вместе с Георгием, с тем самым, что сгорел. Вчера он пришел раненый. Старуха его перевязала… Ночью я видел как казнили людей и ребенка… И во мне что-то оборвалось… Как это вышло, я и сейчас в толк не могу взять… вот, как сказал… порешил я его.
– Ох, Трифон, Трифон, что ты наделал! – Вагрила положила руку ему на плечо и заплакала. И Бияз почувствовал, каким он становится маленьким, ничтожным перед нею.
– Где ж он сейчас? – спросила шепотом Вагрила, немного погодя.
– У нас.
– Пойдем!
Бияз сейчас понимал лучше, чем прежде, что он сделал, но ему от этого не стало тяжелее. Он шел позади Вагрилы, не смел поравняться с ней. Время от времени он только поднимал глаза на нее. Она знала его тайну, понимала его, и от этого ему становилось легче.
Слаб человек. Не может нести тяжесть совершенного самим же им злодеяния. Ищет с кем бы разделить эту тяжесть…
Слабым и ничтожным и ненужным чувствовал себя Бияз. Его путь уже подходит к концу. Вагрила только поддержит его, проведет еще немного и все… Но это его не пугало.
Бияз распахнул перед Вагрилой дверь. Она вошла в горницу и склонилась над убитым. Глаза его были открыты. «Это он, – узнала она Владо. Я тогда за руку с ним попрощалась…»
– Эх, Трифон, Трифон! – тихонько всхлипнула она. Бияз замер. Какой приговор она ему вынесет?
– Только бы они не узнали. Надо уберечь его от них.
– Убережем его, убережем..
Вагрила взглянула еще раз на мертвого Владо. «Не ожидал парень такой смерти, – подумала она, – боже мой, как он раненый, истекая кровью, добрался сюда, весь оборванный, на коленях полз, всю одежду изорвал».
– Обмыть его надобно, обрядить, свечку поставить…
Бияз принес все, о чем она сказала и это угнетало его. Она не кляла его, не пугала. «Вот, пришли бы сейчас товарищи Владо, схватили бы его, и ночью… Легче бы ему было… А так…»
– Ступай, Трифон, побудь на дворе, займись каким-нибудь делом, чтоб им невдомек было. Иначе нам несдобровать.
Бияз покорно вышел…
Вагрила смыла запекшуюся кровь с лица убитого, почистила ему ботинки, завязала шнурки, надела на него чистую белую рубаху, которую ей дал Бияз. Исполнилось желание Владо быть опрятным в смерти. Зажгла в изголовье несколько свечек. Бросила в кадильницу щепотку ладана, и горница наполнилась запахом похорон. Со двора прибежал Бияз.
– Пахнет! – тревожно сообщил он и опять ушел. Вагрила неохотно потушила кадильницу.
– Боже ты мой, чтобы нельзя было оплакивать его как положено, проводить, кто знает, где его мать… – бормотала она, захлебываясь слезами.
Не дай бог, и Герган ее… найдется ли кто, чтобы одеть его в белую рубаху, свечку зажечь у него в изголовье… Вагрила пригладила русые волосы покойника, оправила ворот белой рубахи…
Бияз приоткрыл дверь не решаясь войти, чтобы не побеспокоить Вагрилу. Она сидела, положив голову на скрещенные на груди руки Владо.
«Оплачет ли кто-нибудь так и моего?» – с болью подумала она.
– Бочвариха идет! – предупредил Бияз.
– Не говори ей!
Старуха с ребенком на руках вошла в кухню.
– Вот он где, дедуня, – сказала она ребенку, – поди к дедушке. Бияз спрятал руки за спину.
– Дедуня, дедуня, – повторяла старая Бочвариха. – Возьми же дитя!
– Руки у меня… тово… – бормотал Бияз, отступая к стене.
Старуха недоуменно взглянула на него и снова прижала к себе ребенка. Бияз с облегчением вздохнул.
– Уморилась я, – сообщила Бочвариха, оглядывая пустую кухню, и присела у погасшего очага.
Вагрила слышала все и перекрестилась.
– Трифон! – сказала немного погодя старая Бочвариха.
– Ну?
– Тише! Поди поближе. Видели нашего Мишо. Жив он и здоров.
– Ну и ладно, – ответил Бияз, словно это его не касалось.
Старая Бочвариха посидела еще немного и ушла. Бияз остался сам. Вокруг царила тишина. Он боялся тишины. В такой тишине все и случилось прошлой ночью.
Мрак охватил село и когда все утихло, Бияз и Вагрила вынесли Владо. Они похоронили его на видном месте под грушей, что приносила самые ранние плоды.
*
Солнце сражалось с тучей и на землю то ложилась густая тень, то лились потоки света. Кошка нежилась на солнцепеке у колодца. «Так его и не огородил Петкан, – подумала Вагрила, – того и гляди кто утонет». Два воробушка, распушив перья, дрались на качающейся ветке. Туча рассеялась, и открылось высокое, чистое, свежее, будто выкупанное небо.
– Кончил я с сараем, – сказал Петкан, встречая ее.
– Гляди ка, как настоящий дом получился.
– Сегодня заговенье, – напомнила свекровь.
– Что ж, встретим его, как люди!
В полдень приманили петуха кукурузным зерном и поймали. Когда Вагрила понесла его под навес, он отчаянно затрепыхался. Она положила его шеей на пень, сверкнул топор, и голова отскочила, глаза затянулись желтыми веками.
– У Гергана была легкая рука, – произнесла старуха, сложив на животе руки. «Как он глянул на меня, будто молил не губить его», – подумала Вагрила, у нее потемнело в глазах, дрожь пробежала по телу, она медленно опустилась на землю.
«И его такая судьба ждет… – подумала она о Гергане. – Ох, что я сделала, что я сделала!» Она медленно шевелила побелевшими губами, не издавая ни звука.
– Петко, Петко! – тревожно крикнула бабушка Габювица. Петкан прибежал с ведром, побрызгал Вагриле на лицо. Она открыла глаза. В них застыл ужас.
Вагрилу перенесли в дом, положили на кровать. На нее повеяло приятным запахом свежей известки от недавно побеленных стен. Она подумала, что пришел ей конец, это как бы придало ей силы. Она надела белую рубашку и снова легла.
«Не увидят его глаза мои… не пощадят его, нет… Что он для них? Что для нас курица…»
– Скорее бы конец, – простонала она.
– Что с тобой, сношенька? – спросила подойдя к ней свекровь, которая без толку бродила по комнате.
*
Наступил вечер, и Вагриле полегчало, но это только подсказало ей, что конец еще не пришел, что придется мучиться и дальше. На весело пылающем огне булькала кастрюля, в которой варился петух. Ее затошнило, она накрылась с головой одеялом и зажала уши руками. У нее уже не оставалось надежды, что Гергана пощадят, что его молодость пробудит чувство жалости у них…
– Иди ужинать, – позвала свекровь, не подозревая, что у снохи на душе.
– Мутит меня, – сказала Вагрила, зажимая рот ладонью и села в кровати.
Бабушка Габювица, по окончании ужина, убрала со стола, и Вагрила снова почувствовала свежий запах известки. Но она уже не думала что ей пришел конец.
Землю окутал мрак. Вагрила ворочалась с боку на бок и не могла уснуть. Она вспомнила, как к ней пришел Бияз и сама почувствовала потребность поделиться с кем-нибудь своей мукой, облегчить душу. Она вспомнила горе, выпавшее на долю Бияза из-за несчастья с Тоткой. Уснуть она не могла, но от этих мыслей перестала ворочаться в постели.
*
Вагрила нашла Тотку у входа в полицейской участок. Булыжник, который Тотка всюду таскала с собой был завернут теперь в разноцветные тряпки. Она была растрепана, одежда ее была в беспорядке, расширенные глаза казались стеклянными. Она каждое утро отсюда начинала свои скитания по городу.
– Точе, – ласково обратилась к ней Вагрила. – Это я, неужто ты меня не помнишь?
В глазах у Тотки промелькнуло выражение нежности, она что-то ласково шепнула камню и пошла. Вагрила пошла рядом с нею. Встречные уступали им дорогу, провожали сочувственными взглядами. Наконец пришли на рынок. Тотка стала рассматривать то, что было разложено на циновках перед крестьянками, торгующими разными продуктами. Вагрила следовала за ней. Тотка развязала узелок на платке и протянула монетку одной из женщин. Та зачерпнула мисочкой чернослива и высыпала его Тотке в карман, не взяв монетку. Через несколько шагов Тотка столкнулась с красивой дамой, на лоб которой свисал черный локон. Дама отпрянула, брезгливо поморщившись.
– Несчастная! – процедила она сквозь зубы. В глазах Вагрилы вспыхнул недобрый огонек. Круглый подбородок женщины и надменный взгляд напомнили ей что-то, и она схватила ее за пальто.
«Это та самая, которую я видела в участке!» – вспомнила она.
– Что вам угодно? Пустите меня! – сказала дама, высвобождая пальто из руки Вагрилы.
– Теперь и я живу без детей, – сказала Вагрила.
– Я вас не знаю… – ответила дама.
*
В больнице Митю Христов стал калекой, не смогли врачи спасти ногу. Культя зажила, ему сделали протез, но он так и не смог научиться ходить без костыля. Через месяц его выписали. Куда ему было деваться? Сообщили, что назначают его надзирателем в тюрьму областного города. День он провел в участке, а вечером сел в поезд. Покачивание вагона убаюкивало его, он то забывался сном, то просыпался и все думал о том, как это случилось… мгновение – а всю жизнь придется таскать костыль. Ранили его, а могли и убить. Врачи сказали, что его слишком поздно доставили в больницу. Если бы не увезли сперва партизан, наверное не было бы поздно.
Выйдя из поезда он зажмурился от блеска весеннего солнца, заливавшего город своими лучами. Веселые, оживленные люди заполняли улицы, а Митю Христов чувствовал себя несчастным, немощным, ковыляя к тюрьме.
Показал постовому приказ о назначении. Когда, немного спустя, он вошел в сумрак холодного, очень длинного коридора у него вырвался вздох облегчения. Казалось, он спешил сюда ради этих сумерек и прохлады.
Перед дверью в кабинет директора он положил на землю сумку с вещами, приставил к стене костыль и, стараясь принять молодцеватый вид, постучался.
Его встретил близорукий взгляд сидящего за письменным столом директора. Митю Христов подал ему приказ.
– А, новый надзиратель, – сказал директор, протягивая ему руку. Рука была гладкой и мягкой, как и все в кабинете. Стены, окрашенные в розовый цвет, портрет несовершеннолетнего царя, гладкий письменный стол, на котором не было ничего, кроме чернильницы. В углу – клетка с двумя канарейками. «Чересчур по-домашнему все, не деловой человек», – мысленно взвесил директора Митю Христов и стал ждать распоряжений.
– Если пожелаете, можете здесь жить. Для вас есть свободная комната, – сказал директор.
– Благодарствую, – согласился Митю Христов кланяясь. Он обрадовался, что ему не придется каждый день проходить по светлым городским улицам. Он почувствовал, что устал, нога давала о себе знать. Он еще раз поклонился и, пятясь, вышел из кабинета. Пошел по коридору, чувствуя себя свободно, как будто прожил здесь годы. В отведенной ему комнатке он нашел железную кровать, столик и стул. Попробовал кулаком матрац, не мягок ли, и сел на стул. На столике стояла пепельница и ваза с цветами. Он взял в руку пепельницу, она была чугунной, тяжелой. «Не курю, – подумал он, – незачем ей тут лежать, и ваза не нужна…» Он вынес пепельницу и вазу в коридор. Взял в руку цветы и, не зная, что с ними сделать, выглянул в окно. Внизу лежал серый, утоптанный как гумно двор, окруженный высокими зубчатыми стенами с башенками по углам, на которых стояли часовые. Вдоль стен тянулась узкая полоска травы. Во дворе шагали по кругу одетые в полосатую одежду заключенные. В середине круга стоял как столб надзиратель.
– Человек везде может приспособиться, – сказал Митю Христов сам себе и выбросил цветы за окно.
На следующее утро, с дюжиной ключей, висящих на кожаном поясном ремне, он отправился по узкому, мрачному и холодному коридору. Ему предстояло принять заключенных, над которыми он будет надзирать.
– В десяти одиночках – смертники, в двух общих камерах – остальные, – сказал ему директор.
Митю Христов начал обход смертников. Камеры, в которых они сидели, походили на ниши. Только высоко под потолком – забранное решеткой оконце. Одни из смертников лежали на узких нарах, другие перебирали как четки звенья цепи. «Чем же им и заниматься-то?» – подумал Митю Христов.
Поглядев в глазок последней камеры Митю Христов никого не увидел в ней. Поспешно отпер дверь. Обежал взглядом все углы, заглянул под нары – никого. Смертника не было. Неужели убежал? Послышался какой-то шорох, и он только теперь поднял голову. Оперевшись руками и ногами в противоположные стены камеры заключенный взобрался к окну. Успокоившись, что смертник не сбежал, Митю Христов беззлобно сказал:
– А ну, слезай!
Тот опустился, так же упираясь в стены, цепь звякнула об каменный пол. Митю Христов вышел и запер дверь.
Немного спустя он вернулся в камеру со стремянкой, краской и кистью. Забравшись на стремянку он закрасил окошко, оставив только узкую полоску чистого стекла. Он был очень доволен, что в первый же день сделал нечто полезное. Вытерев руки, он сказал оторопевшему заключенному:
– Нечего ни волю глядеть, понапрасну себя растравливать.
Герган – это был он – открыл было рот, собираясь что-то сказать, но тут Митю Христов узнал его и протянул ему руку:
– Здорово, земляк!
Он прислонил стремянку к стене и взгляд его остановился на переброшенной через плечо цепи, затем скользнул по ней вниз, к худой лодыжке Гергана, которую охватывал железный хомутик с заклепанными ушками. Затем он сочувственно произнес:
– Меня не было в городе, когда тебя судили, я об этом после узнал… Стало быть, ты еще живой…
– Живой, – ответил Герган, не зная радоваться ли ему этой встрече или нет.
– Вот как довелось встретиться, – продолжал Митю Христов. – Земляки мы с тобой, может, я тебе чем-нибудь и помогу. Скажи, чего тебе надо?
– Если можешь бумаги мне дать, я тебе по гроб буду благодарен.
– Это можно… А на что тебе бумага-то?
– Мысли свои записывать, – пояснил Герган.
– А на что тебе мысли записывать? – удивился Митю Христов.
– Чтобы сохранились.
– Ишь ты! – в недоумении произнес Митю Христов. – Помню, отец мой покойный, когда дом собирался строить, сырой кирпич черепицей покрывал, чтобы его дождем не размыло, сохранить его, значит, хотел. Это я понимаю. А мысли – для чего их тебе сохранять?
Митю Христов взял стремянку на плечо и, обернувшись в дверях, произнес:
– Бумаги я тебе дам, потому как мы с тобой земляки.
Герган шагнул к нему, чтобы пожать ему с благодарностью руку, но тот уже повернулся к нему спиной и вышел. Замок щелкнул.
Войдя к себе, Митю Христов заметил на столе сложенную бумажку. Развернул ее, подошел к окошку и увидел, что это телеграмма. Брат звал его в село, сообщал что мать их тяжело больна.
«Поеду домой!» – подумал он и лег отдохнуть, набраться сил перед дорогой.
*
«Эх, кабы его помиловали!» – подумала Вагрила, но все-таки достала из сундука ненадеванную белую рубаху, встряхнула ее, завернула в бумагу. Сделав пакет, она написала адрес тюрьмы, но тут ей вдруг стало жутко. А вдруг его и впрямь помилуют? Она положила пакет в сундук. Несколько раз она доставала его, собираясь отправить, но каждый раз снова прятала.
Ночью Вагрила спала крепко и утром встала необычно бодрой. Быстро оделась и вышла во двор. Рассвет золотил листья на верхушке шелковицы. Покрытый снегом горный хребет празднично сверкал на солнце, небо было ясным, обещая погожий день. Она вывела буйволов из хлева. Петкан собирался пахать. Она проводила его, заперла за ним ворота, но ей не хотелось возвращаться в приспособленный под жилье сарай. Ей не хотелось расставаться с безотчетным радостным чувством, которое, однако пугало ее своей неожиданностью. Она искала, чем бы заняться. Пошла в курятник проверить, нет ли яиц. Нашла несколько штук, причем одно из них вроде орешка. Она положила и его в передник и задумалась. Ей случалось порой находить такие маленькие яйца, но сейчас она подумала, что это неспроста. Оно, верно, предвещает несчастье, которого она все время ожидает. Ну что же, чему быть, того не миновать. Она оделась, взяла посылку с рубахой и отправилась на почту. В воротах она наткнулась на Бияза, шедшего к ней. Она заранее знала, что он скажет.
– Я пришел спросить, не приходили они?
– Нет.
Бияз тяжело вздохнул.
– Не могу больше так жить. Хоть бы пришли скорей, чтобы я им все сказал, а там – пусть делают со мной что хотят. Любую кару приму… Только скорей бы, а то сил моих больше нет…
– Найдем их, Трифон, ты не кручинься. Найдем, и все им поведаем. У меня есть небольшое дело. Как покончу с ним – займусь твоим, других дел у меня на свете нет.
Бияз не понял ее и сказал:
– Слышно, наш Мишо в этих краях побывал.
– Лишь бы был жив, найдем и его.
– Я тебя задержал.
– Ничего, ничего, – машинально ответила Вагрила, глядя на дорогу.
С пригорка брел по дороге какой-то калека, опираясь на костыль.
– Это не наш человек, – подумала вслух Вагрила.
Бияз посмотрел на дорогу, и в тот же миг они оба узнали Митю Христова. Словно увидев змею, они вошли во двор и захлопнули калитку. Митю проковылял мимо. Было слышно как постукивал костыль о дорогу и, поскрипывал протез.
– Ему хорошо, он не убил человека, как я… – И Бияз посмотрел на свои руки, словно они были чужие.
– Найдем их, найдем! – снова повторила Вагрила. – А я запаздываю по своему делу. – И с этими словами она заспешила вслед за хромым Митю Христовым. Она обогнала его, пройдя по обочине и, делая вид что не замечает его, направилась в общинное правление, где помешалась почта.
– Отправь этот пакет, да так, чтобы его получили как можно скорее, – сказала она почтовому служащему.
*
Митю Христов вошел в родной дом ни на что не глядя, будто он не отсутствовал несколько месяцев, а только выходил на минутку. На кухне, он на мгновенье задержал взгляд на пламени в очаге и произнес:
– Добрый вечер.
– Добро пожаловать, Митю, – встретила его невестка.
– Спасибо, – ответил он и сел у очага.
– Мать сильно захворала, – сказал ему брат.
– Да, знаю, – пробормотал он, поднимаясь. – Потому и приехал.
– Ты костыль-то оставь здесь! – сказала невестка и, видя, что он не понимает, пояснила: – Чтоб маму не огорчать.
Брат вошел в комнату первым, прикрывая его от взгляда матери. Подойдя к кровати он сказал, наклоняясь к ней:
– Мама! Ты хотела Митю видеть. Вот он здесь, приехал.
Одеяло пошевелилось, и старуха уставилась на Митю выцветшими глазами. Он наклонился и поцеловал высохшую холодную руку матери, но не спросил ее, как она себя чувствует. На него нахлынули воспоминания… Он представил себе, что сейчас, вот придут звать его, копать землю Караколювцев. И он, против своей воли, пойдет… «И чего я приехал?» – подумал он, упрекая себя и стараясь не смотреть на испитое лицо матери.
– Митю, ты ли это, сынок? – прошамкала она, пошевелив пальцами.
– Я, а кто же! – ответил неожиданно громко Митю, не глядя на мать.
– Голос твой узнаю, такой же как прежде, – с трудом проговорила она и, словно истратив на это последние силы, закрыла глаза и стала дышать ровнее.
– Голос тот же, да я сам не прежний, – так же громко сказал Митю.
Мать тяжело дышала. Он еще немного посидел возле матери и встал. Немного спустя, постукивая костылем, он уже ковылял к корчме Портного.
Иван Портной встретил его молча и неприветливо. Он чувствовал куда ветер дует и, в ожидании событий, совсем не радовался встрече с Митю Христовым. Немного утешало его то, что в корчме не было никого, кроме деда Цоню.
На душе у Митю Христова было тяжело, это было не просто забота о том, как спасти шкуру. Он прислонил костыль к столику и подпер голову кулаком, точь-в-точь как тогда, когда Портной уговаривал его стать полицейским. Но об этом он и не вспомнил. Вообще-то он был человеком непьющим, почему же ему так хочется сейчас выпить?
– Дай двойную! – заказал он, подняв голову, и снова подпер ее кулаком. Ему вспомнилось, как он давеча, у постели матери, почувствовал себя прежним Митю. Это было обманное чувство, он далеко не прежний, и именно это его мучило…
Иван Портной за прилавком молчал, довольный тем, что Митю не заговаривает с ним. Дед Цоню поднял стопку.
– Будь здоров, Митю!
Митю обрадовался, что его приветствуют.
– Поди сюда, дедушка Цоню! – пригласил он старика.
Дед Цоню, отпил глоток и подсел к Митю.
– Мать проведать приехал? – спросил он.
– Мать, – коротко ответил Митю, ожидая другого вопроса.
– Вижу я, костыль у тебя, – продолжал дед Цоню.
– Дай еще двойную, – сказал Митю, не отвечая.
Портной поставил стакан на стол и поспешил отойти.
– Никак ты выпивать стал, – заметил дед Цоню.
Митю Христов не отвечая, выпил залпом.
– Ты с меня пример не бери. Берегись, чтобы не пристраститься, а то тебе трудно придется. Похудел ты, гляжу я, быстро хмелеть будешь.
– Как же человеку жить, ежели он ни к чему пристрастия не имеет и ничего не любит, дед Цоню.
– А ты, верно, слезы любишь?
– Нет, не припомню, чтобы я когда плакал, – не поняв, ответил Митю Христов.
Он вдруг схватил костыль, оперся на стол и, с неожиданной ловкостью взобрался на него. Дед Цоню прихватил стопку, чтобы Митю не опрокинул ее и с изумлением глядел на него. Митю Христов вдруг заговорил, громко, словно перед тысячной толпой:
– Я, – он стукнул себя кулаком в грудь, – выпускаю и запираю по несколько раз на дню пятьдесят человек. Они мне подчиняются. У тебя были когда-нибудь подчиненные, знаешь ты, что это такое пятьдесят человек под своим началом иметь?
Дед Цоню, не допив вино, встал, положил на стол деньги и пошел к дверям.
– Придушить бы тебя, гада, да некому, – пробормотал он себе под нос уже в дверях, перекрестился и вышел.
– Пятьдесят человек я выпускаю и запираю! – злобно кричал ему вслед Митю Христов, но тот уже закрыл за собой дверь.
Митю Христов обмяк, опустился на стол, несвязно бормотал:
– Трудно мне словами сказать, а я все понимаю… Только как это людям объяснить, чтобы поняли… Я всегда за правду стоял… – он схватил себя за куртку и рванул ее, будто она его душила.
Портной молча выглядывал из-за стойки. Митю Христов снова встал на столе, хотел снова что-то сказать, но вдруг почувствовал вокруг себя пустоту и промолчал.
На дворе была уже ночь.
*
Митю Христов пришел домой.
– Мама как увидела тебя, так ей полегчало, – сказал ему брат, когда он вошел в кухню.
– Я уезжаю.
– Чего ж так скоро?
– Служба…
– Поужинай хотя бы, – сказала невестка и стала собирать на стол.
Митю Христов подумал, прикинул что-то в уме и сел за стол. Ел молча и торопливо. Встал, опираясь на костыль и ушел. Брат проводил его до ворот, уговаривая взять еды на дорогу, но Митю предпочел ничего не взять, чтобы руки были свободны.
Он вышел на шоссе у общинного правления. На лавке сидели, покуривая и беседуя крестьяне. Митю Христов, ни с кем не здороваясь, оперся на костыль и стал терпеливо ждать. Заболела нога, костыль больно давил под мышкой, не он не пошевелился. Наконец затарахтела, подъезжая, телега. Митю Христов вышел на середину шоссе. Возница, молодой паренек, остановил лошадей.
– Откуда ты? – спросил его Митю Христов.
– Из Драгановцев.
– А куда едешь?
– В город…
Митю Христов взобрался на телегу и устроился поудобнее на сене.
Луна сияла как улыбка на девичьем лице. Было светло и листья придорожных тополей серебрились под легким ветерком. От земли дурманяще пахло весной.
Парень забыл о седоке и вздрогнул, услышав его громкий голос.
– Гони быстрей! – Митю Христов опустил голову на грудь.
Парень тщетно пытался разгадать, кого он везет. Он ехал по обочине, где толстый слой пыли поглощал шум колес и смягчал тряску. Седок молчал, и парень вернулся к своим мыслям.
С неба сорвалась звезда, черкнув по небосклону. Парень ахнул.
– Чего ты, с дороги сбился?
– Звезда померла.
– Звезды не помирают, а гаснут, – назидательно сказал Митю Христов.
– А мне одна баба как-то сказывала, будто звезды – это души людей.
Заднее колесо въехало в кювет, телегу тряхнуло, и она накренилась.
– Осторожней, ты! Чего доброго, вывалишь меня.
– Я на небо глядел, – оправдывался парень.
– Когда телегой правишь, ты только на дорогу гляди.
Когда Митю Христов был молод, как этот парень, он тоже заглядывался на звезды, а теперь – на что они ему сдались!
– Гони побыстрей!
Очень ему было нужно ездить в село! Будто мать могла выздороветь от его приезда. Смешно! И как это он поддался? Ему не терпелось вернуться в тюрьму. Он мечтал о том, как войдет в прохладный полумрак коридора, и ему станет легче дышать.
– Быстрее, паря, быстрее! – повторял он.








