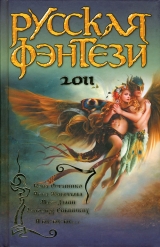
Текст книги "Русская фэнтези 2011"
Автор книги: Наталья Колесова
Соавторы: Максим Далин,Инна Живетьева,Юлия Остапенко,Александр Сивинских,Юстина Южная,Артем Белоглазов,Лора Андронова,Людмила Коротич,Лариса Рябова,Юлия Чернова
Жанр:
Классическое фэнтези
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 33 страниц)
Закралась у Ильи скверная мысль, да гнал он ее, словно чумную собаку. К чему напасть кликать?
– Елизарыч, есть хочешь? А я хочу. Садись-ка, нечего слоняться.
Наспех сварганив обед, Илья вскипятил чайник, поел и основательно взялся за кума. Переменил тому замызганную одежду, вымыл лицо, руки и, силком накормив жаренными с тушенкой макаронами, отвел в зал, где попытался выспросить. С тем же успехом можно было допытаться правды у сипло мякавшего Василия, который, почуяв запах мясного, выл не переставая и заткнулся, лишь получив законную долю.
На Фрола внезапно напала икота – может, с жирного, может, с макарон. Кто ведает-то? Илья безрезультатно обшарил несколько отделений в шкафу, разыскивая что-нибудь от несварения, как вдруг на глаза попались сложенные стопочкой деньги. Много денег.
Дикое подозрение обожгло крутым кипятком. Цокая когтями, чумная собака вошла в дом, раззявила смрадную пасть.
– Рехнулся?! За Обормота плату брать? Экие деньжищи! – Илья влепил икающему Фролу увесистую оплеуху. Тот упал; рыдая, елозил по полу, скреб ногтями истертый линолеум.
Зато богатый, осклабилась беда, злорадно щерясь. Фрол плакал, вздрагивая дородным телом. Илья удрученно вздыхал: жалость брала за горло, стискивала удушьем. Был мужик и сплыл, только название осталось. Не мужик – размазня бестолковая. Ну да слезами делу не поможешь.
– Будя, будя, – успокаивал он кума, поднимая на ноги. – Хуже дитяти неразумного. Эк тебя, олуха, угораздило.
Фрол повозился и вскоре затих, посапывая. Илья уложил его на диван, накрыв байковым одеялом, а сам уже хотел идти узнавать по дворам, что стряслось, как в окно робко постучали.
Илья бросил взгляд на часы – натикало четверть пятого, – подоткнул Фролу сползшее с края одеяло и пошел открывать.
– Ба! Николай. Тебе чего?
У крыльца, теребя картуз и уставясь в землю, мялся Коля Чумак, здешний плотник. Изрытое оспинами лицо выражало смущение, пышные усы уныло обвисли. Николая знали везде, спроси первого встречного – и то знает. Плотничал Чумак справно: кому баньку срубить, кому сарай поставить, кому – избу. Не всем кирпич люб, не каждому по карману.
– Виноватиться пришел, – отрывисто сказал Николай. Поднял глаза. – Ты выслушай! – заголосил, отпрянув.
– Проходи. – Илья посторонился, каменея лицом.
История оказалась незатейливой, как и все, что творится по дурости, от великого ума.
У Николая, как и обычно по субботам, гостил племяш из города, Димка. Женился еще когда, двоих детей настрогал, а навещает дядьку-то, в хозяйстве помогает – чин чинарем. Сирота он, родителей в малолетстве лишился, кроме дядьки родных и нет. Парень хороший, башковитый, да с дурной компанией связался. С ними, гавриками, и прикатил. Две машины бездельников: набиты, что огурцы семечками, и баба грудастая. Из-за нее, шалашовки, свара и приключилась.
Димка перед дружбанами баней похвалялся, настоящей, деревенской. Те и загорелись. Племянник дядьке наказал веники заготовить, истопить как следует и встречать. Он, Чумак, устроил все наилучшим образом, а эти паршивцы сразу квасить начали. Стол под навесом поставили, ящики с пойлом принесли, шашлыки жарят – смеются: природа-матушка располагает. Ну и набубенились до зарезу. Какая, в задницу, баня! Сморит – и дух вон.
А девка, охальница, раздевается при народе без стеснения, мол, кто со мной париться? Гости залетные лыка не вяжут, так она: Дима, потри мне спинку? Племянничек бараном на прелести ее вылупился, потру, блеет, и ест негодницу поедом.
Тут главный в компании распрочухался. Куда, ревет, намылилась, сучка?! Выцарапывает из-под одежки пистолет и айда шмалять в белый свет, как в копеечку. Баба визжит, что твоя порося, да не будь дура – юрк в предбанник. А Димка не успел, зацепило. Колдыри орут, бегают, пушку у вожака отнимают. Он самого шустрого и хлопнул. Эта публика залпом протрезвела, бледные, губы трясутся. За аптечкой полезли – бинты, йод, перекись. Жгуты смастрячили: кровь останавливать.
– А я – к Фролу. Бегом, – завершил рассказ плотник.
– Ты что, гнида? – Илья свирепо раздул ноздри. – Мертвого? Сбрендил?!
– Племяша… – Николай запинался и клацал зубами. – Лечить то есть. Ему плечо разворотило. А гаврик… жив еще был. Я Димку! по правилам! Стол от харчей ломился… Ели они! Сына нет… Он мне как родной! – выкрикнул с надрывом. – Рубец… через полчаса неприметный рубец…
– При чужих? – Илья толкнул Чумака пятерней в лицо. – Удавлю, мразь!
Николай сжался, поскуливая.
– Видели они? – подытожил Илья.
Чумак мелко закивал.
– У-у, чалдон! Погодить бы тебе, уехали бы… Дальше что?
– Шустрик посинел, кровью харкает, – промямлил, деревенея языком, плотник. – Того смотри преставится. Ну… старшой Фролу ворох налички сунул, из бумажника вытряхнул и по карманам распихал. Елизарыч – на дыбы, отказывается. Так ему вдвое сверху набавили, а затем в шею вытурили: не ерепенься, дятел, по понятиям разрулили.
– Отобрали? Обормота отобрали?! Но как…
– Да ведь ели они! И кота Фрол принес!
Илья сжимал и разжимал кулаки, с трудом усмиряя позыв садануть горе-лекарю в челюсть.
– Я упреждал – нельзя. Подряд – нельзя! Расплачиваться – нельзя! Разве слушают? – Николай горестно всплеснул руками.
– Вразрез закона спроворили? И как, вылечили?
– Шут знает. Встал гаврик, нормальный вроде, только кожа землистая и в мурашках, будто в полынье купался. Холодно, говорит, пацаны. Мерзну. Ахнул стакан – порозовел чуток. Гоп-компания манатки сгребла – и ходу: попрыгали в легковушки, сорвались в момент. Торопились, психовали, Димку забыли и эту курву, Людку. Девка-то в бане тихарилась, а Димку я придержал. Выбег он – пылища на дороге, вонь, обочина колесами изрыта. Не догнать. И плечо щупает, не верит. Я ему: проспись, балда, права от лева не отличаешь.
В кухне с просительной миной на физиономии нарисовался Обормот, унюхал разлитое между людьми напряжение и завернул оглобли.
– Что Фрол? – Николай прятал глаза, с напускным вниманием изучая рисунок на обоях.
– Спит.
– Плох?
– Хуже ребенка.
– Если ходит… – Чумак осекся. – А он… соображает?
– Нет. В уме повредился.
– Паршиво…
– Или в больницу его? – неуверенно предложил Илья. – В город?
– Забудь, бесполезно. Надо… м-м… в общем, надо тебе…
– Почему бесполезно?
– Митяй-пасечник гутарил, – Чумак понизил голос, – в овраге, аккурат за топью, две машины вчера с моста навернулись. Взорвались, как по телику кажут, и сгорели. По грибы Митяй настропалился, увидел этакое дело – сей же час в штаны наклал. Вот тебе и суд.
Илья отрешенно барабанил пальцами по колену. В тишине, звенящей комарами, с перебоями тарахтел холодильник.
– Грибы? – Пальцы растопырились крючьями. – Откуда в урмане…
– Да не те грибы! – Чумак аж подскочил с табурета. – Вот и тебе – туда дорога.
– К лесным, значит? – Илья облизнул сухие губы.
– На поклон, – зачастил Николай. – Просить. Небось не звери.
– Так и не люди. Пропаду… – Илья осуждающе глядел на плотника.
– Не… – выпершил Чумак. – Ни в боже мой. Виноват, признаю. А пойти – не обессудь. – Он встал и, меряя шагами тесную кухню, бубнил, путаясь и спотыкаясь. – Самолично. Доброй волей. На страх и риск.
Илья вяло наблюдал за его метаниями. В комнате грохнула дверь, послышалось косноязычное «а-уу».
– Фрол? – обмирая, спросил Чумак.
– Он, – подтвердил Илья.
– Ты поспеши. Не учудил бы чего.
– Сгину ведь ни за грош.
Чумак с хрустом сплел пальцы; левое веко дергалось, на лбу обозначились складки.
– Это… – прохрипел Николай и умолк, судорожно сглатывая. В душе его будто происходила некая борьба. Илья ждал.
– Навеселе иди, – хмуро сказал Чумак. – Меньше забоишься. А помрешь – не поймешь.
– Где ума набрался? Советовать. – Илья сурово зыркнул на плотника из-под кустистых бровей.
– Лукич сказывал. Дед Лукич, а не Захар. Он… – Николай запнулся, коря себя за несдержанность. – Знает он. Я… научу. Что говорить, как отвечать. Но ты сам. Сам, понял?! Я… н-не… Выпить есть у тебя, ну… у Фрола? Нет? Ты обожди, я мигом.
Николай обернулся действительно мигом. Посидел, собираясь с мыслями, и оттарабанил как на духу кучу заковыристых премудростей, из которых Илья запомнил, дай бог, штук десять.
– Ты время-то не канитель, – предупредил напоследок Чумак. – До ночи чтоб. Ночью гаплык.
– А сейчас?
– Сейчас всяко получше, авось свезет, – огорошил плотник.
– Дык, может… завтра?
– Как хошь. Фрол-то не мне кум. – Чумак топтался в сенях, грюкая щеколдой. – Ежели принесешь, разговорить старайся, не то проку шиш. И это, утром выпускай – привяжешь. До того не трожь, по темноте-то. Никуда не денется.
Перед уходом Илья разогрел остатки макарон и, кое-как впихнув ужин в апатичного, пускающего слюни Фрола, запер того в комнате. Эхма, тяпнуть не закусывая – и с божьей помощью… Сердце ныло горьким предчувствием. Не буди лихо… Илья откупорил бутыль с первачом, достал из буфета посуду. Ну, с почином.
Рюмку – для храбрости, рюмку – на удачу, третью – чтоб держаться твердо, пятую и шестую – еще за что-то, седьмую – для верности. На посошок опять же.
И остатнюю – ради беспамятства. Ну ее, память, к лешему. Не спи потом, мучайся.
Короб на плечо и вперед. Не чаяли, вражьи дети? Здрасьте!
Вы куражиться? Так у меня кураж в крови играет. Потягаемся?
Есть
Дождь зарядил поздним вечером, проливной, яростный. Крупные капли щелкали по фуфайке, пропитывая влагой, знобкими ручейками стекали за шиворот; под ногами отчаянно хлюпало. Илья с чавканьем выдирал сапоги из хляби и шаг за шагом брел краем леса. Наугад. К дороге.
Хмель еще гулял в голове, чугунной, неповоротливой, и Илья слабо понимал, где он и что он. Вроде живой, вроде возвращается. Урман позади, кошмар тоже. Ливень стегал кнутом, подгоняя: быстрее, быстрее. Кожа зудела, словно болотный гнус забрался-таки под одежду и кусал не переставая. Бросало в жар. Илья обморочно всхлипывал, переставляя неподъемные, налитые страшной тяжестью ноги, с которых срывались и падали огромные комья грязи. Усталость довлела такая, будто он мельничный жернов на горбу волочил.
В вышине ухал филин, провожая желтыми глазами смельчака, идущего прочь из гибельного урмана. Небо, обложенное тучами, не давало ни лучика света. За глухой облачной пеленой прятался бледный серпик месяца и хрупкие льдинки звезд, но внизу царила густая темень. Подобранная на болоте гнилушка давно перестала светить, и теперь Илья шел, чутко вслушиваясь в ночные шорохи, ловя в них звуки далекой деревни. В воскресенье спать поздно ложатся, особенно молодежь.
Наконец черными копешками на пути встали низкие холмы, слева размытыми пятнами белели силуэты редких березок. Отсюда уж рукой подать.
Дождь не утихал; остановившись, Илья подставил разгоряченное лицо невидимым струям, жадно хватая воду ртом. Переведя дыхание, снова зачавкал по бездорожью. За спиной, оттягивая плечи, висел короб. Лямки больно врезались в грудь, и приятное осознание сделанного теплом наполняло душу. Илья с натугой завел руку назад, поправил укрывающий короб половичок и, шумно сопя, полез вверх по склону.
Он не ошибся с направлением: было слышно, как за околицей воют собаки.
Живете
– Наше вам, – бросил от порога Илья. Подойдя едва ли не вплотную, расстелил половичок. Сел, вилы зубьями к потолку направил. Было не по себе, очень хотелось чихнуть.
– Грозишься, короед? – с ленцой ругнулись из угла. – Завтра неделя. Гуляй, пока добрый. Или грехи отмаливай. Цыганочку танцевать могёшь? Готовься.
Илья молчал, в углу тоже помалкивали. За семь дней разговоров пообвыклись, до обидных слов не лаялись, и чудн о поверить – насмешничали друг над другом. Привыкнув к сумраку, Илья различил знакомую малорослую фигуру, привязанную к столбу. Лесной не двигался, только глаза мерцали на темном, выразительном лице. Сверкали зелеными плошками, тускнея и вновь разгораясь, иногда – до пронзительно-голубого. На человека он глядел со слабым интересом, с опаской косился на вилы, но в целом был на удивление спокоен.
– Умолять станешь? – наконец спросил он. – В ноги падать?
– Выкуси. – Илья скрутил кукиш и ткнул в постную харю.
Недомерок засмеялся, обнажив мелкие зубы:
– Смел, да не съел!
– И ты не съешь.
Тот опять прыснул:
– Что я? Других нет? Кончилась твоя маета.
– Не свисти, далёко еще.
– Завтра, с рассветом.
– Тогда и празднуй.
Минуты текли неспешно. В сенной трухе, попискивая, шныряли крысы.
– Чуют, разбойники, – обронил Илья.
Лесной аж поперхнулся. Вздыбил пеструю шерстку; зрачки его расширились, из вертикальных делаясь круглыми.
– Хитришь, – утвердительно произнес он.
Илья усмехнулся, оглаживая бороду.
– Чего сел? Сел-то чего?! – Любопытство пробирало коротышку до печенок. – Задумал что?
– Учить буду.
– Кого? – всполошился пленник.
– Тебя. Азбуке.
Лесной озадаченно моргнул.
– Повторяй: аз – долговяз, буки – к докуке, веди…
– Забалтываешь? Пошто?
– Да погоди ты. – Илья проворно выудил из-за пазухи мешочек и, высыпав на ладонь что-то невесомое, мягкое, дунул в угол. Часть пушинок вспыхнула травяным цветом – ишь, глазастый, струхнул Илья, – однако прочие… Запах паленого шибанул в нос, и волей-неволей Илья чихнул.
– Шерсть?! – удивился лесной, тщетно пытаясь отряхнуться. – И кто тебе присоветовал? Лукич присоветовал? Зажился дед, пора ему… Ну давай, чего уж, обертывай. Посмотрим, кто кого сдюжит. Мало шерсти-то, ненадолго хва…
Илья поднялся, наклонился к оцепеневшему врагу, заглядывая в стеклянные глаза.
– Может, и мало: Обормота хрен удержишь, царапается, стервец, – и перерезал ремни. Наскоро обвязав чресла половиком, уперся в стену, вилы наперевес ухватил.
– …тит, – договорили отмершие губы. Неуловимо быстрым, кошачьим движением пленник очутился рядом. – Ослобонил? – надвинулся, выпуская когти. – Ну и зря.
Илья без замаха ударил вилами.
– Чего ты? Чего?! – взвизгнул, отпрыгивая, лесной.
– Каленые, – жестко сказал Илья. – Беда у меня. Чистый зарез.
– А кто не бедовал? – Из разорванного бока лесного струилась кровь. – Зря ты…
Охая и бранясь, он принялся зализывать бок, не спуская с человека светящихся буркал: раны постепенно затягивались. Потом опустился на корточки, точно к прыжку изготовился.
– Лукич-то, а? – клекотнул горлом. – Пес старый. Из кузни, да?
– Сам проболтался, третьего дня. Запамятовал?
– Я?..
– Ты! – расхохотался Илья прямо в растерянную морду.
Острые ушки того поникли, рожица сморщилась.
– Не говори, слышь?.. Не говори никому.
– Мое дело. Рот не огород, не затворишь ворот.
– Загрызу, – тоскливо произнес лесной. – Обоих. В урман утащу.
– Погодь в урман-то. Одолей сперва.
Коротышка насупился, глянул исподлобья.
– Гад ты. Ослобонил, да? Хитришь?
– Столковаться хочу.
– А как же укорот? Кому службу служить, а кому в лес итить? Чья взяла?
– Тьфу, – плюнул Илья, сподручнее беря вилы. – Ничья пока. Обломать? Вишь, свободен ты. Да не сам, и не в условленный срок. Помог я тебе, сегодня уйдешь.
– Помог он, – скривился лесной. – Просили тебя? Баш на баш? Тю!
– Не для себя ж стараюсь! – вспылил Илья. – Для кума! Лежит ведь, не дышит почти.
– Лежит, – жутко оскалясь, прошипел лесной. – Плати, дурак, за чужой пятак. Зачем супротив рассудка переть? Какого рожна обычаи нарушать?! – В гневно звучащий голос вплелось рычание хищного зверя, и свист ветра, и грохот стремнины. Глаза бешено пылали. Илья вжался в стену, мечтая оказаться за тридевять земель отсюда.
– Мертвого подняли! – Коготь обличающе уперся Илье в грудь и тут же отдернулся, словно обжегшись. – Он второй раз помер, а души не имеет. Уяснил, с кого возместится?
– Силой вынудили, – угрюмо ответил Илья. – Отняли, значит, кота…
– И что? Ваше дело. Мыслишь, ты мне, я – тебе? Вздор! Не стану подмену искать. Окочурится твой Фрол, а тебя – в урман!
– Вздор? Не желаешь миром разойтись?! – Илья засопел и, налившись дурной кровью, сатанея от ярости, принялся гвоздить вилами налево и направо.
Земля
Под утро ему приснился странный сон.
Он и Фрол в лесу. Очень светлом, с высокими, до кучерявых облаков, соснами. Облака плывут себе, пухлые, мягкие, играют золотистыми и перламутровыми бликами. Ни дать ни взять – лебеди по лазурной реке. Сосны безмятежно простирают разлапистые ветви, остро и свежо пахнет смолой, пружинит под шагами хвойный ковер. В кронах на разные лады перекликаются птицы, и ветер роняет порой с высоты клейкие продолговатые шишки и сизоватые хвоинки.
Илья в упоении раскидывает руки и замирает; сдвоенная иголочка, медленно кружась, опускается на ладонь. Мощные стволы сосен с коричневато-янтарной корой обступают надежными, родными стенами. Поодаль лес обрывается заболоченным лугом, с ним мирно соседствует ельник-черничник; вблизи – мшистые кочки. По лугу, среди упругой, жесткой травы, опустившись на четвереньки, ползает Фрол.
– Нашел! – кричит он, вскакивая, и бежит назад, что-то прижимая к груди.
Ельник, болото и луг исчезают. Вокруг привычный сосновый лес. Илья вскидывает голову к голубому потолку неба, смотрит на яичный желток солнца, на плавные изгибы облаков и с неизъяснимой отчетливостью понимает – он дома.
– Вылитый Обормот! – Фрол сияет надраенным до блеска самоваром. – И мурло такое же, наглое.
В руках у него трехцветный котенок. Острая мордочка на тоненькой шейке – копия Обормота в младенчестве. Котенок тычется носом, попискивает и сучит лапками.
– А где Василий? – недоумевая, спрашивает Илья.
– Василий мышей ловит, кончились его именины.
– Обормотушка. – Илья хочет погладить котенка, но почему-то никак не может дотянуться.
– В осоке нашел! – ликует товарищ, поднимая детеныша к солнцу.
Внезапно Фрол становится меньше ростом, обрастает шерстью, рыжеватой, с белыми и черными подпалинами, уши вытягиваются – на них видны длинные кисточки. Сузив ярко-зеленые глазищи, Фрол провозглашает:
– Земля-то обильна: всякого зверья здесь навалом.
Иже
От Лукича, который, по словам лесного, отжил свой век, Илья ничего путного не добился.
«Ась?» – переспрашивал дед, прикладывая морщинистую ладонь к уху, и сворачивал беседу, куда Макар телят не гонял. Венчики комковатого пуха, окружавшие лысину, и сама лысина, и обрюзгшее лицо, и крючковатый нос, и набрякшие веки лучились благостным спокойствием. Безуспешные попытки Ильи направить разговор в нужное русло оканчивались неизбежным «ась?». «Туговат на ухо, – шамкал дед, наводя тень на плетень и подслеповато щурясь. – Ты, что ли, Колька? Матвеевны внук?»
«Есть квас, да не про вас» – аршинными буквами читалось на покатом лбу. Иди-ка, хлопчик. Хлопчиками дед величал едва ли не полдеревни. Многие годились ему в праправнуки.
Другой бы начхал, отступился, тем более что Фрол полегоньку выздоравливал: глядел уже осмысленно, ложку мимо рта не проносил, нужду справлял не в постель, а как положено. Но упрямый Илья клещом вцепился в Чумака. Тот долго отнекивался, хмыкал в вислые усы, теребил плохо выбритый подбородок и, скорбно вздыхая, качал головой. Илья настаивал. Тогда Чумак свел его с тезкой, внуком Матвеевны, дряхлым и согбенным.
– Расскажи ему, дядь Коль, – попросил Чумак. – Про кота. Нехай знает.
– На что? – заартачился престарелый внук.
– Он лесного объегорил.
– Сам?! – Дядя Коля вытаращился на Илью, точно на заморскую диковину.
– Ну… я подсказал. Фрол-то загибался совсем, а я это… то есть виноватый я. Совесть мучила.
Старик поскреб в затылке, достал кисет, трубку, насыпал в нее табаку, затем степенно откашлялся и, раздувая впалые щеки и завивая дым колечками, пустился в воспоминания. Баял складно, будто воочию зрел. Тоже, поди, зажился, как и Лукич.
– Того кота выпросил на болотищах пастух из Дертычей, Савелием звали. Девяносто зим прокуковал, в следующую помирать надумал. Да безносая нейдет, а худо старику – хоть в петлю лезь: кости ломит, внутрях кавардак, пропадом человек пропадает. Он и собрался: чистое надел, долги отдал, на образа перекрестился. Как заведено. Прощевайте, говорит, люди добрые, пойду со смертушкой поздоровкаюсь. Зла не держите. Тут ему кто-то короб и сунул. Может, вернется? Не сожрут старого. А подфартит – и одарят? Не с пустым, выходит, брюхом.
Когда, спрашиваешь? Давно… не упомнить даже. В тайне историю-то хранили, секрет наследникам передавали. С котом. Известное дело, не утерпели, растрепали с годами.
Чесали языками… похож он был, на тех.Повадками. Не похож, от зависти врали. Окрасом только… глазами, и зубы мелкие, без единого клыка.
Долго мурлыка жил, да не вечно. Дети от него народились – беспородные, дикие, сплошь мальчики; в руки не давались, все в лес сбежать норовили. Однако силу имели. Невеликую, спору нет, мельчал дар. С каждым поколением. Оттого и правила измыслили.
Како
Сложить два и два – немудрено. Илья складывал: что сам знал, что увидел-услышал, что на ухо шепнули, что украдкой выведал.
Да слишком гладко получалось. Стели соломку – и падай с разбега.
Не стелили. Не падали. Опричь чересчур самонадеянных и тех, кого нужда погнала. На чужой каравай клюв не разевали. Концы с концами вяжутся? И ладно. А в урман – ни ногой. Господь с вами! Благодарим покорно! Ни молодые-ранние, ни старые-хворые.
Тишком-молчком жили, довольствуясь тем, что имели. И вроде не трусливого десятка, и претензии, если копнуть, найдутся, и мечты с упованиями – вот-де образуется, заживем о-го-го как. И мы не лыком шиты, не гребнем драны. Ан нет.
И, что странно, не советовались: если кто счастье пытал, то наособицу. Нет бы всем миром навалиться. Впрочем, дело хозяйское. Коля Чумак шибко веселился, когда Илья насчет этого полюбопытствовал. До слез хохотал. Отсмеялся и драться полез.
Воровала мышь сыр из мышеловки, хвост прищемила, тут ей и каюк настал. Ешь солому? – Иди к лесному. Бери пирог, дуй со всех ног. Без загвоздки не обошлось. Был, был подвох. Еще какой!
Ну дали, ну принес. Попробуй теперь укороти. Как – не подскажут. Ни ваши, ни наши. Ремень, щепа и половик в наличии – геройствуй. Ремнем – вязать, это, пожалуй, ясно. А что к угловому столбу – никто не намекнет. Щепа и половик для чего? Ну, употреби как-нибудь. Чем еще обуздывать? Как душеньке угодно, так и… А сроку – неделя.
Одолел? Проси – сбудется.
Не смог? Судьба-недоля – хлебнешь горя. Утащат лесные. Не себе просил, не для себя радел? И их уволокут. Помогал кто – тоже к ногтю. Спокон веку заведено давним уговором.
Вот он, подвох! Волчья яма. Этак чохом – в западню! Ловитесь, человеки, большие и маленькие.
Вдобавок кто сказал, что из урмана воротишься? Кого отпустили – те помалкивали. Ну а те, кому достался шиш да маленько, ничего уже рассказать не могли. Сгибли, и вся недолга.
Как повезет.
Люди
Везло немногим.
Ходили они пришибленные, дни считая, да жаловались на судьбу и дурость собственную. Подлинных «счастливчиков» – тех, кто лесного обломал и сокровенное затребовал, мало было, меньше, чем пальцев на руках. Остальные горемыки исчезали в положенное время, кто с любимыми, кто с друзьями, а кто и целыми семьями.
Везунчиков не любили – истово, как и подобает неудачникам, в конце концов понуждая уехать. Срывались те с насиженного места в огромный тревожный мир, в новую жизнь. Скатертью дорога, зубоскалили сельчане, свободней будет. Дома и скарб покупали, конечно, за бесценок, а то и вовсе за спасибо. Но нет-нет да и поглядывали в сторону болотищ, хмурили брови с затаенной мукой, шевелили губами, а потом вдруг, отважась, брал кто-нибудь короб и, надев бахилы, тайком брел в сумрак корявых елей и сосен.
По грибы.
За счастьем.
Ушедших не ждали.







