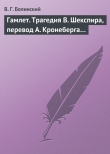Текст книги "Поэт и проза: книга о Пастернаке"
Автор книги: Наталья Фатеева
сообщить о нарушении
Текущая страница: 21 (всего у книги 29 страниц)
3.5. Краски мира Бориса Пастернака
…магия заключается в употреблении всех красок так, чтобы обнаружилась независимая от объекта игра отражений <…> взаимопроникновение цветов, отражение рефлексов, которые переливаются в другие отражения и носят столь мимолетный характер, что здесь начинается переход в музыку.
(Гегель)
А. Вознесенский [1989, 26] в книге «Мир Пастернака» написал, что «в визуальности» Пастернак «вобрал и предвосхитил» живопись XX в. Сам поэт в стихотворении «Нобелевская премия» заметил: Я весь мир заставил плакать Над красой земли моей.Тому, в каких красках и цветовых образах рисует «красу» России XX в. Б. Пастернак в поэзии и прозе, и посвящен этот раздел нашего исследования.
О теме «Пастернак и живопись» уже писали многие исследователи, достаточно назвать Д. Ди Симпличио, Вяч. Вс. Иванова, Е. Фарыно, С. Витт. Отмечалось также, что глагол «писать» у Пастернака многофункционален и развивает в его текстах свою многозначность: это и «писание стихов» и прозы, это и «писание» живописной картины или фрески (ср. прежде всего стихотворения «Ожившая фреска» и «Рождественская звезда», анализируемые в работах [Фарыно 1988, Bodin 1976, 74]), это и «писание»-«вышивание».
Однако мы сосредоточимся на частотном спектре цветов поэта, который мы получили, проведя статистический анализ стихотворного корпуса его произведений и прозаического и стихотворного текстов романа «Доктор Живаго». В суммирующих схемах мы, конечно, не можем дать всего разнообразия оттенков, которое присутствует в текстах Пастернака (например, серыйцвет включает в себя и седойи серебристый, красный – огненный, бордовый, багровый, рубиновыйи даже розовыйплюс описательные цвета – в куманике, в клюкве), однако вся богатая гамма красок не остается вне поля нашего исследования – она и составляет содержание данного раздела.
Доминирующие в частотном отношении цвета в поэзии Пастернака – черный и белый [115]115
Для сравнения приводим данные по другим поэтам: так, у Тютчева основные цвета – золотой (45) и сине-голубой (всего 52: синий – 6, лазоревый – 33, голубой – 13) [подсчеты Ю. Д. Тильман], у М. Кузмина доминируют белый (17 % от общего числа цветовых прилагательных) и зеленый (16 %) цвета; у Хлебникова – белый (24 %), синий и голубой (вместе 20 %), черный (18 %) [подсчеты А. В. Гик].
[Закрыть], в романе «Доктор Живаго» – белый и красный.
Начнем с поэзии. Хотя белый доминирует в основном корпусе – 75 против 68 черного, сравнение абсолютной частоты употреблений во всей книге, включая боковую линию, показывает обратный результат: 89 «черных» клеток против 86 «белых». Видимо, творческая работа Пастернака как раз и состояла в освобождении от «черноты» мира. Интересно, что в его «Повести» борьба «белого» и «черного» происходит на «перекрестке» улиц Садово-Кудринскойи Чернышевского [116]116
Позже подобный же прием цветовой символики используется в «Даре» (1937) В. Набокова. В то время, когда Достоевский в романе Годунова-Чердынцева решил бежать к «сердцу черноты» Чернышевскому, «густой дым повалил через Фонтанку по направлению к Чернышевупереулку, откуда вскоре поднялся новый черныйстолб…» [3, 239].
[Закрыть](символизирующих собой соответственно «Божий» (природный) и «Исторический» миры), и «белый» побеждает благодаря листве «тополей» – деревьев, с которыми поэт входил в «неслыханную веру», – ср.: Ночной дождь только что прошел. Что ни шаг, над серым, до черноты отсыревшим гранитом загоралось сверканье серебристых тополей. Темное небо было, как молоком, окроплено их беловатой листвой. <…> Чудилось, будто гроза, уйдя, возложила на эти деревья разбор последствий и все утро <…> – в их седой и свежей руке[4, 141].
Белыйцвет молодого Пастернака – это кипениеи раскаленность добела: весь мир бьет белым ключом,создавая белый кипеньоблаков, белогривый гребень, белое бешенство петельморской стихии; белый плеск зимней метели ( белой плескало копною).Растительный же мир и воздух «садовый», как соды настой, Шипучкой играет от горечи тополя,а далее белизна все более «озвучивается» – утро в степи «белеющим блеяньем тычется»(«Сестра моя – жизнь»). И такое кипящее белыми воплями«мирозданье» представляет собой первый этап сотворения мира поэта, когда весь мир – немутимо белый свет,возвышающийся над всем земным. Ср.:
Как белым ключом закипая в котле,
Уходит бранчливая влага,—
Смотрите, смотрите – нет места земле
От края небес до оврага.
(«Стрижи», 1915)
На втором круге творения – в поэмах благодаря слиянию и «перевертыванию» неба и земли белая рьяность волни белая пряность акацийпонемногу укрощается, и постепенно «замерзает», как музыка, и «перестает лишаться» жемчужных луж и речек акварель– ср.: Рядом сад холодел. Шелестя ледяным серебром(«905 год»); В зимней призрачной красе Дремлет рейд в рассветной мгле, Сонно кутаясь в туман Путаницей мачт И купаясь, как в росе, Оторопью рей В серебре и перламутре Полумертвых фонарей(«Лейтенант Шмидт»); Посеребренныхног роскошный шорох Пугал в полете сизых голубей, Волокся в дымеи висел во взорах Воздушным лесом елочных цепей(«Спекторский»). Все покрывается молочно-белой мглойи дымкой,порождая млечность матовых стекол,отражающих светло-серую грустьпоэта. И «серый», «седой» и «серебристый» цвет «рассвета» служит переходом от белого и черного ко всем остальным цветам (см. частотный спектр поэзии на схемах 7, 8 [117]117
В книге схема № 8 отсутствует. Скорее всего, допущена опечатка: либо в тексте книги, либо (что более вероятно) в нумерации схем. Прим. верст.
[Закрыть]).

В книге «Второе рождение» кипение вновь ненадолго оживает, и метель полночных маттиолкак бы достигает высшей фазы, чтобы затем окончательно усмирить белую магию пеныи черную магию водыв книге «На ранних поездах». Однако даже в книге «НРП», когда цвета поэта приобрели свою определенность (Я люблю их, грешным делом, Стаи хлопьев, холод губ, Небо в черном, землю в белом),«настоящая зима» нередко отбрасывает поэта в детство (Нас отбрасывала в детство Белокурая копна В черном котике кокетства И почти из полусна).Символ детства на языке «живописи» Пастернака – яйцо. В белок«окунает ноги» Пастернак при прощании с «летом» в стихотворении «Волны» и начиная новый поэтический круг: И все ж, то знак: зима при дверях, Почтим же лета эпилог. Простимся с ним, пойдем на берег И ноги окунем в белок.А дальше, рифмуя с Пушкиным «гусей и снег», поэт до очередной «весны» соперничает в «белизне» со «снегом». Так, в «Прозе 1936 года» читаем: Как яйцо в глазунью, выпущен в лужи синий, белооблачный полдень. Всю Страстную тут гоготали гуси, соперничая в белизнес последними сугробами. Но теперь тут ни гусей, ни снега.<…> Дворы всем околотком отвечают петуху, скрытому за поленницей[4, 259].
И именно при возвращении к детским зимним праздникам и сказкам образуется «белое царство» поэта, которое постепенно заполняет весь его «сад» и все чаще уже приходит «напоминаньем» о смерти и бессмертии: И белому мертвому царству, Бросавшему мысленно в дрожь, Я тихо шепчу: «Благодарствуй, Ты больше, чем просят, даешь».Это «царство» как бы «приближается» к состоянию искусства прошлого столетия, которое оказывается, как и «речек акварель», в «серо-белом» замерзшем состоянии: Октябрь серебристо-ореховый. Блеск заморозков оловянный. Осенние сумерки Чехова, Чайковского и Левитана(«Зима приближается», 1943). И тут же в «приближающейся зиме» поэт понимает, что «черный» цвет создан для оттенения «белого». Этот закон выведен им еще в «Охранной грамоте», где цветовые ощущения синтезированы с «запахами» и запечатлены через «царство цветов»: Это ярко, как до белизны разведенная настойка, пахли нарциссы. Но и тут всю эту бурю ревности побеждали черные кокарды фиалок. Скрытые и полусумасшедшие, как зрачки без белка, они гипнотизировали своим безучастием[4, 164]. Тут снова вспоминаются «глаза» Пастернака.
И действительно, «черный» цвет в мире Пастернака как бы задан «двумя черными солнцами», «бьющими из-под век»поэта. В то же время это цвет чернейшего демона, черных имен духоты, черных сводовдней, которые чернее иночеств.Это цвет «лагеря мрака», который всегда у Пастернака готов рассеяться. И тогда «свет» заполняет всю землю и еще ярче становятся видны все остальные краски мира: все «черное» становится «белым». Ср. в «Повести»: Выросши, подобно облаку, за Сережиной спиной, она, хотя и во всем черном, белена и дымиласьв закатной полосе нестерпимой крепости, которая била из-под сизо-лиловой тучи, наседавшей на сады переулка. Потоки света растворяли Анну вместе с паркетом, который едко клубился под ней, как что-то парообразное[4, 136]. Ведь начиная с ранних произведений «светлые стороны» мира привносятся в жизнь лирического «Я» поэта именно женщиной, черты которой рождаются в «туче», но затем она уподобляется «белому свету», с которой даже пожелтевший белый свет – белей белил.
Сизо-лиловаятуча же становится «водяным знаком» женщины и в ранних, и в поздних произведениях Пастернака, а фиолетовый налетчасто «рифмуется» с летом: в грозу лиловы глаза и газоны И пахнет сырой резедой горизонт.В спектре же цветов сиреневый-фиолетовый (а именно в сиреневой веткепоявляется Девочка книги «Сестра моя – жизнь») соседствует, с одной стороны, с цветом солнца, с другой – с цветом неба, образуя сиреневую синеву(«Второе рождение»). Ср. в прозе: По небу плыли легкие, цвета сирени и почтовой бумаги, облака(«Повесть») [4, 112]. Само же солнце превращается в синем небев ледяной лимон обеден,и «вкус» этого южного фрукта символизирует собой преображенье света,его поворот к лету: с его появлением наступает весна и все покрывается лимонной желтизною: пруды – желто-лимонны; пред ней[девушкой] и мной Зарей желто-лимонной – Простор, затопленный весной, Весной, весной бездонной(«Весеннею порою льда…», 1931) [118]118
Ср. также в «Весне» 1914 г.: Разве только птицы цедят, В синем небе щебеча, Ледяной лимон обеден Сквозь соломину луча?
[Закрыть].
При лом все три цвета в разных своих оттенках – голу-бой-синий, желтый-золотой и сиреневый-лиловый – становятся дольками единого «лица» жизни природы, а слова, их обозначающие, образуют «тесноту» стихового ряда: лбы голубее олив, небосвод лиловый низколоб, неба роговая синь, желтые очки промоин.«Зрение» природы все улучшается, прорезывается зеленая кожа рвов и стежек,и земля, «состав» которой «не знает грязи», становится «сладкой», как рыжий грязи шоколад,или покрывается особым блеском: Синее небо. Желтый янтарь, Блеск чернозема(«В низовьях»).
В то же время синий, золотой и зеленый для поэта составляют «извечный рождественский рельеф». Это и забрызганная синим парафином поверхность золоченого грецкого орехана елке в «Охранной грамоте»; и наборы цветовых прилагательных в «Вальсах» книги «На ранних поездах»:
Озолотитеее, осчастливьте,—
И не смигнет, но стыдливая скромница
В фольге лиловой и синейфинифти
Вам до скончания века запомнится.
(«Вальс со слезой»)
Эти же цвета, по собственному замечанию Пастернака, определяют «колорит ночной Венеции и ее водных отражений». Сама Венеция для поэта – это прежде всего венецианская живопись (И осталась живопись Венеции. Со вкусом ее горячих ключей я был знаком с детства[4, 206]), так что в первый раз сам город показался ему «почерневшей от времени живописью в качающейся раме»: Я не сразу понял, что это изображение Венеции и есть Венеция[4, 199].
При этом венецианская манера письма оказалась наиболее близкой творческому почерку молодого Пастернака, потому что ее мазки были как бы отражением неточной поэтической рифмы, свойственной поэту в 1920-е гг. Аналогия рифмы и манеры письма была отмечена еще А. К. Толстым [1964, 109]: « Приблизительностьрифмы в известных пределах<…> может <…> сравниться со смелыми мазками венецианской школы, которая своей неточностью, или, вернее, небрежностью <…> достигает эффектов, на которые не должен надеяться и Рафаэль при всей чистоте своего рисунка». Такие «мазки рифмы» находим, например, у Пастернака в варианте поэмы «Спекторский»:
По вечерам он выдувал стекло
Такой игры, что выгорали краски,
Цвели пруды, валился частокол,
И гуще шел народ по Черногрязской.
В самой же лирике поэта знакомые ему с детства названия красок органично вписались в природную цветовую гамму – ср.: Как обещало, не обманывая, Проникло солнце утром рано Косою полосой шафрановуюОт занавеси до дивана. Оно покрыло жаркой охроюСоседний лес, дома поселка…(«Август»).
Верхним основанием этой «восходящей» гаммы служит сочетание «золотого» и «синего» – ср.: лазурь Преображенская, золото второго Спаса.Это «божественное» сочетание стало так близко поэту, что даже «согревало» самые страшные страницы его романа «Доктор Живаго». Например, когда Живаго начинает писать «Рождественскую звезду» и «Зимнюю ночь», эта зимняя ночь, подчиняясь «живому» почерку поэта, начинает «голубеть», приобретая «рождественский рельеф»: Свет лампы спокойной желтизноюпадал на белые листы бумаги и золотистымплавал на поверхности чернил внутри чернильницы. За окном голубелазимняя морозная ночь. Юрий Андреевич шагнул в соседнюю холодную и неосвещенную комнату, откуда было виднее наружу, и посмотрел в окно. Свет полного месяца стягивал снежную поляну осязательной вязкостью яичного белка или клеевых белил. Роскошь морозной ночи была непередаваема. Мир был на душе у доктора. Он вернулся в светлую, тепло истопленную комнату и принялся за писание [119]119
Заметим, вслед за Е. Фарыно [1992, 41], что именно «клеевые белила» из «муки» используются для написания икон. См. об этом же фрагменте «ДЖ» как написании икон [Witt 2000, 42–44].
[Закрыть](ч. 14, гл. 8).
В «Божьем» же мире у Пастернака прежде всего цветы «соперничают» с естественными и уподобленными им источниками света: На дне сухого подполья разрывчато, как солнце, горели четыре репчатые молнии, и, соперничая с лампами, безумствовали в огромных лоханях, отобранные по колерам и породам, жаркие снопы пионов, желтых ромашек, тюльпанов и анемон. Они дышали и волновались, точно тягаясь друг с другом(«ОГ», [4, 164]). На пике «цветения» в мире поэта доминируют «красные» цветы, которые одного «колера» с маком – именно с ним ассимилирует себя Пастернак в разгар «пожара» святого лета «Сестры моей – жизни». Чтоб сделать «роскошь лета розовей», бурен и багров клевер,и другие цветы также «в жару»: Это огненный тюльпан, Полевой огонь бегоний Жадно нюхает толпа, Заслонив ладонью.И «благоухание» цветов также «одуряюще», как и их цвет, с которым гармонируют и летающие насекомые: красная балерина комара, пунцовые стрекозы.Краски накалены и при воспоминании о молодых годах в «Охранной грамоте»: сады пластом лежали на кузнечном зное, и только стебли роз, точно сейчас с наковальни, горделиво гнулись на синем медленном огне[4, 192].
Однако «пожар» этого святого лета 1917 г. оказался и предвестником исторических катаклизмов. И вместе с ними «красный» цвет все чаще приобретает на втором Историческом круге поэта «кровавые очертания». Эти очертания становятся особенно сильны в романе «Доктор Живаго», где «красный» цвет становится вторым после «белого» (см. Частотные спектры стихов и прозы романа на схеме 8). И хотя символом этого красно-белого сочетания являются здесь «ягоды рябины в снегу» и другие природные сущности, в частности закатное солнце, все краски «чужого» для Пастернака-Живаго мира оказались «подмененными»: Давно настала зима. Стояли трескучие морозы. Разорванные звуки и формы без видимой связи появлялись в морозном тумане, стояли, двигались, исчезали. Не то солнце, к которому привыкли на земле, а какое-то другое, подмененное, багровым шаромвисело в лесу(ч. 12, гл. 9).
Не случайно, что в центре романа Пастернака, описывающего время Гражданской войны, центральным цветовым образом оказывается «рябина на снегу» – красное на белом. Ветви рябины напоминают Живаго о Ларе, он слышит это сравнение «красной девицы» с «красой рябины» в народной песне у партизан. В этой же песне поется о схожести ягод с кровью на снегу, и последний раз это сравнение материализуется в сцене смерти Стрельникова: мелкие, в сторону брызнувшие капли крови скатались со снегом в красные шарики, похожие на ягоды мерзлой рябины(ч. 14, гл. 18).
Обращаясь ретроспективно к описанию этого исторического периода в стихах, замечаем, что в период с 1918 по конец 1920-х гг. у поэта стал доминировать «кроваво-кумачовый» «обледенелый» цвет, символизирующий «замерзание» и «разорванность» времени «на куски». Этот цветовой образ прошелся по стихам и поэмам « обледенелой красной нитью»: облака в куманике и клюкве, курящийся кровью мороз, бурный рубчик рубиновой зари; флаг – малинов, мрак – лилов; пунцовая стужа; снег, вливаясь в душу, рдели др. Этот «сплав» красного и белого преобразил всю природу и дорогу к дому так ( Дорожку к дому огненно наохрив, Вечерний сплав смертельно леденел, Как будто солнце ставили на погреб– «Спекторский»), что и «переразложился» весь «спектр» ощущений живого (И голая ненависть листьев и лоз Краснеет до корней волос).Ср. тот же образ более двадцати лет спустя в романе «Доктор Живаго»: Вдруг садящееся где-то за домами солнце стало из-за угла словно пальцем тыкать во все красноена улице: в красноверхиешапки драгун, в полотнище упавшего красного флага, в следы крови, протянувшиеся по снегу красненькиминиточками и точками(ч. 2, гл. 8).
В «спектре» стихов и прозы «Доктора Живаго» обращает на себя внимание и сочетание «красный-(черный) – серый-желтый», предшествующее всем остальным краскам и создающее палитру «горения» ( пожарыи погорелищасоставляют основу «пейзажа» «Исторического мира» – общая частотность – 37). Это – цвета предиката дымится,соотносимого, во-первых, с «чудовищем-змеем», с которым св. Георгий вступает в бой ( И в дыму багровом, застилавшем взор, Отдаленным зовом огласился бор– «Сказка»), и, во-вторых, с «тучей», надвигающейся над Москвой в день смерти Живаго, которая приобретает уже черно-лиловыйоттенок.
«Исчерна-багровый» дым как бы обволакивает «три круга» романа, подобно тому как «дракон» «обматывает хребет Девы» в «Сказке», и в итоге ведет к «задыханию» поэта Живаго. Сначала желто-багровый дым появляется в эпизоде, когда Стрельников решает идти на фронт: Неожиданное мерцание звезд затмилось, и двор с домом, лодкою и сидящим в ней Антиповым озарился резким, мечущимся светом<…> Это, выбрасывая в небо клубы желтого, огнем пронизанного дыма, шел мимо переезда на запад воинский поезд, как они без счету проходили тут днем и ночью, начиная с прошлого года.(ч. 4, гл. 6). И по художественной логике романа, Стрельников, двойник Живаго, оказывается «заколдованным» этим «змеем поезда» (см. [Фатеева 2000, 173–197]).
Следующий раз подобная цветовая картина возникает тогда, когда Живаго на фоне великолепия бытия наблюдает за митингом: За вороньими гнездами графининого сада показалась чудовищных размеров исчерна-багровая луна. Сначала она была похожа на кирпичную паровую мельницу в Зыбушине, а потом пожелтела, как бирючевская железнодорожная водокачка(ч. 5, гл. 7).
Символическое подобие «змея» возникает в доме Живаго и в разгар революционных боев на улицах Москвы: Скоро задымило так, что стало невозможно дышать. Сильный ветер загонял дым назад в комнату. В ней стояло облако черной копоти, как сказочное чудище посреди дремучего бора(ч. 6, гл. 7); Живаго в поисках выхода открыл форточку [120]120
Ср.: В форточку ворвался свежий воздух. Колыхнувшаяся оконная занавесь взвилась вверх. С письменного стола слетело несколько бумажек. Ветер хлопнул какою-то дальнею дверью и, кружась по всем углам, стал, как кошка за мышью, гоняться за остатками дыма(ч. 6, гл. 7).
[Закрыть]. Затем у сына Живаго Саши открылся ложный круп и он начал задыхаться. Этот эпизод можно считать символическим предзнаменованием для семьи доктора.
Серо-черно-огненные краски появляются у Пастернака и в эпилоге романа при описании Великой Отечественной войны; и эти краски теперь связаны с дочерью Живаго и Лары, которая так и не узнала своих родителей: Там сперва столбами и фонтанами, а потом ленивыми, отяжелевшими наплывами восходили к небу серые, черные, кирпично-красные, и дымно-огненные облакаподнятого на воздух мусора, расплывались, раскидывались султанами, рассеивались, оседали назад на землю(эпилог, ч. 16, гл. 3).
И даже «конь» Живаго «утром серогодня», когда он едет мимо «обледенелой водокачки», – это желтовато-дымчатая курчавая вятка(ч. 14, гл. 4). Этот «конь» и везет Живаго и Лару к «логовищу дракона» – оттуда Лара поедет уже одна вместе с «чудищем заурядности» Комаровским. Приезд Комаровского предвещал белый огонь, которым был объят и полыхал незатененный снег на свету месяцаи который «ослепил» Живаго. «Полыхание месяца» озвучивало «утробно-скулящее» завывание «серых волков». В тот день, когда Комаровский увозит Лару, «месяц» также становится «серым»: Прямо над свесом крыши, точно воткнутый острием в снег, стоял и горел серым жаром по серпяному вырезумолодой, только что народившийся полумесяц. Хотя был еще день и совсем светло, у доктора было такое чувство, точно он поздним вечером стоит в темном дремучем лесу своей жизни. Такой мрак был у него на душе, так ему было печально. И молодой месяц предвестием разлуки, образом одиночества почти на уровне его лица горел перед ним(ч. 14, гл. 11). А когда Живаго вспоминает, что он наделал, отпустив Лару (свою «музу»), и видит перед собой то место, где позапрошлою ночью стояли волки, то краски темно-пунцового солнцана фоне синей линии сугробовпостепенно приобретают оттенок багрово-бронзовых пятен зари(ч. 14, гл. 13).
И Живаго начинает писать о «волнах моря», в которых он видит свою любимую, и эти волны предвещают его возвращение в Москву и путь ко «второму рождению» его поэзии. Какую же картину находим мы в «Стихах Юрия Живаго»? До «Сказки» – это синий, черный, белыйи сизо-голубойцвета. Затем за багровым дымомпоявляется сам дракон, пламенем из зева рассевающий свет.После боя цветовая тональность меняется: Светел свод полдневный, Синева нежна.И на этой цветовой ноте мы попадаем в «Август» Преображения, где краски последовательно чередуются. Шафрановая полосапереходит в жаркую охруи загорается ясной, как знаменье, осенью,в которой светуже без пламени,и лишь имбирно-красный лес кладбищенскийгорит, как печатный пряник.Приходит смерть, перед лицом которой звучит «прежний, спокойный голос поэта», прощающийся с лазурью Преображенскойи золотом второго Спаса.Затем мы попадаем в «Зимнюю ночь», которую Живаго пишет при «спокойной желтизне лампы»: в ней высвечиваются блоковский « черный вечер», «белый снег»с серым оттенком (И все терялось в снежной мгле, Седой и белой),а в середине яркий свет свечии жар соблазна,вздымающий два крыла, с которыми поэт уже простился в «Августе». Но тут все «поворачивается вспять», и за «Разлукой» следует «Свидание», приносящее «озарение», после которого зажигается «Рождественская звезда»: Мерцала звезда по пути в Вифлеем. Она пламенела, как стог, в стороне От неба и Бога, Как отблеск поджога, Как хутор в огне и пожар на гумне. Она возвышалась горящей скирдойСоломы и сена Средь целой вселенной…
А далее вновь появляется «рождественский рельеф», но уже в поэтической интерпретации (…Все яблоки, все золотые шары),и морозная ночь «походит на сказку». За этим «гореньем» приходит «Рассвет», но круг «дурных дней» не заканчивается. В стихотворении «Чудо», как бы имплицитно вторящем «Чуду о Георгии и змие», вновь мелькают молнии и «не хватает свободы». На «Земле» та же смесь огня и жути,и Свинцовою тяжестью всею Легли на дворы небеса(«Дурные дни»). Цветовая «развязка» наступает только в «Гефсиманском саду», который очень похож на сад «неслыханной веры» «Начальной поры»: лишь вместо московского обветшало-серого«тополя» здесь седые серебристые маслины,которые соответствуют пейзажу библейской местности и так же, как тополя, пытаются «держать небо пред собой» (ср.: Седые серебристые маслины Пытались вдаль по воздуху шагнуть).
Так тополь вновь расчищает «черноту» (черные провалы)мира поэта, замыкая этот мир в круг. И если мы посмотрим на формы, в которые облекаются «краски мира» Пастернака, то безусловное первенство среди них получит, конечно, «круг»: так в «ДЖ» круг, полукруг, округлость, окружность, круговороти предикаты окружать, кружитьсяимеют абсолютную частотность 180, к ним можно приплюсовать и колесо(16), кольцо(6), шар(8). Для сравнения: квадрат(4), четырехугольник(3), треугольник(3), куб(2). Что касается геометрии прямых «линий» (сама линияимеет частотность 38, черта– 28, штрихи – 2, ломаные контуры– 4), вписанных в «круговорот» изобразительных метафор поэта, то прежде всего обращают на себя внимание рвущийся к небу«крест» (24) и знаменитые пастернаковские скрещенияи перекрестки(24) – ср. в «СЮЖ»: Скрещенья рук, скрещенья ног, Судьбы скрещенья; Слишком многим руки для объятья Ты раскинешь по краям креста.Таким образом, мы вновь приходим к очертаниям «мельницы» (см. схему 5), которая символично соединяет в себе два измерительных параметра Пастернака: огромный, крупный(43) и мелкий, мельчайший, маленький(145). Именно она и порождает изоморфность «мельчайших сотых долей» мира поэта и его целостного «поэтического очерка», к которым одинаково приложимо определение пастернаковский. Так своим именем поэт как бы отвечает на собственный же вопрос, заданный в книге «Сестра моя – жизнь»: Ты спросишь, кто велит, Чтоб август был велик, Кому ничто не мелко, Кто погружен в отделку Кленового листа И с дней экклезиаста Не покидал поста За теской алебастра?Ведь «краски» и каждого отдельного «листа», и всей кроны «дерева» Пастернака одинаково извлечены Богом из его сердца.