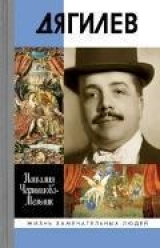
Текст книги "Дягилев"
Автор книги: Наталия Чернышова-Мельник
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 31 (всего у книги 38 страниц)
Заявление Лифаря окончательно вывело Маэстро из себя, хотя он и старался этого не показывать. На этот раз ему в Париже всё время приходилось преодолевать препятствия. Мало того что он вынужден был согласиться давать представления в таком непривлекательном, с его точки зрения, театре, так еще в последний момент выяснилось, что к началу сезона не может прибыть дирижер Юджин Гуссенс, на которого он очень рассчитывал. Хорошо еще, что в ответ на его отчаянный призыв откликнулся другой дирижер – Марк Сезар Скотто, знавший репертуар Русского балета. В итоге он оказал труппе неоценимую помощь. Но сколько же пришлось пережить волнений!
…Первым из новых спектаклей публика увидела балет «Зефир и Флора», который со дня премьеры в Монте-Карло был значительно улучшен. В тот же вечер анонсировали «Пульчинеллу» и «Волшебную лавку». Незадолго до начала спектакля между Долиным и Дягилевым произошло неприятное объяснение, и Патрик-Антон, готовясь в гримуборной к выступлению рядом с Лифарем, тихонько плакал. Англичанин явно не хотел покидать Русский балет. Но что он мог сделать, если всесильный директор нашел ему замену?
Однако Долин не таит зла на соперника. Он, как вспоминает С. Лифарь, «трогательно, заботливо, товарищески – я навсегда сохраню память об этом красивом его жесте – поправляет лавровый венок на моей голове». И в то же время на сцене они не уступают друг другу, каждый старается доказать, что именно он – лучший.
Париж принялЛифаря – и в первый, и во второй день. Маэстро горд и счастлив: сбываются его слова, что Серж «прекрасно зацветет». Но впереди – новые спектакли и связанные с ними волнения. Сергей Павлович нервничает и с надеждой смотрит на Баланчина. Как зрители отнесутся к его первому балету? Ведь от этого будет зависеть не только успех сезона, но и ответ на очень важный вопрос, действительно ли в труппе появился новый хореограф, которому можно доверить репертуар.
Наступило 17 июня. В этот день в программе стояли две премьеры: «Песнь соловья» в постановке Джорджа Баланчина и «Матросы» с хореографией Леонида Мясина. Первая постановка, переделанная когда-то Мясиным из оперы Игоря Стравинского «Соловей», давно исчезла из репертуара Русского балета, у зрителей сохранились о ней лишь смутные воспоминания, и нынешний балет, с совершенно другой хореографией, они восприняли как новый. Сложная партитура Стравинского стала своеобразным «пробным шаром» для молодого хореографа, проверкой его профессиональных качеств. И Баланчин успешно преодолел все трудности, заявив этой работой, что он обладает многообещающим талантом. Партию Смерти, как и раньше, превосходно танцевала Лидия Соколова, Императора – Сергей Григорьев (эту роль Дягилев считал лучшей в его репертуаре), а Соловья – юная Алисия Маркова. Оформление Анри Матисса было замечательным фоном, на котором разворачивалось действие. Балет имел большой успех, и импресарио вздохнул с облегчением: главное – хореограф есть!
Балет «Матросы» – веселый, с певучей и задорной музыкой Жоржа Орика, которому Дягилев в последнее время отдавал предпочтение перед всеми другими композиторами, тоже был очень хорошо принят публикой и прессой. В нем, утверждает С. Лифарь, оказалось много такого, что «должно было нравиться и что действительно было хорошо, и, прежде всего, бравурность вариаций, вызывающая на соперничество, на соревнование, необыкновенная свежесть и молодость, я бы сказал хореографическая бездумность, стремящаяся к танцу ради танца и наслаждающаяся танцем».
Сценарий, созданный Б. Кохно с помощью Дягилева, действительно до крайности прост: три молодца-матроса – испанец, американец и француз (в исполнении Л. Войциховского. Т. Славинского и С. Лифаря) – танцуют свои вариации, а затем исполняют общий номер на стульях. Живая и динамичная хореография Л. Мясина как нельзя лучше помогала высветить темперамент и характер каждого исполнителя. Лиричная и певучая вариация французского матроса оттеняла танцы двух других, где преобладала чечетка. С общим настроением балета гармонировали своей свежестью декорации и костюмы (красные с белым и черным), выполненные испанским художником П. Прюна.
Однако на премьере произошел казус, который едва не привел к производственной травме. Когда настал черед общего номера на стульях, выяснилось, что один из них расшатан. Лифарь, который только что приклеил за кулисами усики, как этого требовала роль, выбежал на сцену последним, схватил оставшийся стул и с ужасом обнаружил, что он ходит ходуном. «Матросы» начали свой танец, и Лифарь потерял сначала сиденье стула, а потом – ножку. Но во время танца он должен прыгнуть на стул! Летит в сторону вторая ножка… Непонятно, каким чудом танцор удержал равновесие – секунду-другую. Но когда раздался последний аккорд вариации, стул разлетелся на куски и танцовщик с грохотом упал на пол – под бешеные аплодисменты зала.
С тех пор по окончании каждого спектакля многочисленные почитатели забрасывали его цветами, подарками, письмами. Публике понравилась молодость Лифаря, его «стройная фигура, шутливое и элегантное воплощение французского национального характера». Друзья наперебой поздравляли Дягилева с «новым открытием», а сам он теперь почти после каждого представления дарил Сергею-младшему венок.
Единодушно хвалили исполнителей (прежде всего Лифаря) и в печати. Но о самих постановках большинство критиков писали, скорее, с осуждением и, сравнивая их с первыми балетами, составившими славу дягилевской антрепризы, отдавали тем решительное предпочтение. По-разному относились критики и к музыке новых балетов, но все подчеркивали ее не-танцевальность, вынуждавшую балетмейстеров «выходить из трудного положения путем прибегания к фокусам, к трюкам, которые еще больше определяли направление Русского балета к клоунаде, к цирку, мюзик-холлу и физкультуре», в чем рецензенты видели веяние нового времени. О Дягилеве в те дни писали, что он «бежит перед эпохой».
И всё же сезон прошел блестяще – и в Париже, и в Лондоне, куда труппа вернулась после выступлений в театре «Гете-лирик». В один из июньских дней в лондонском Мюзик-клубе был устроен прием в честь Маэстро и членов его труппы. Сергей Павлович, чувствовавший себя уверенно в тесном кругу друзей, как правило, на званых приемах просиживал в угрюмом молчании. Но в этот раз всё прошло прекрасно: он заранее подготовился и выступил с запомнившейся всем присутствующим речью «о русском балете и отчасти обо всём русском искусстве».
«Большой и счастливый» лондонский сезон завершился балетом «Свадьба Авроры». 2 августа труппа получила двухмесячный отпуск. Артисты его, конечно, заслужили, но больше всех – Сергей Павлович. Вместе со своим ближайшим окружением он отправился в Италию.
Он ездил туда каждое лето. Но раньше даже в этой «земле обетованной» Дягилев нередко страдал от одиночества и приступов тоски. Прожив всю жизнь холостяком, он неизменно испытывал жажду семейного тепла. Впрочем, стоит ли этому удивляться? Ведь с раннего детства, когда его называли Сергуном, он был окружен такой любовью и заботой близких, членов большой и дружной семьи, что, лишившись их, чувствовал себя потерянным. Ни слава, ни восторги поклонников, ни радость творчества не могли заменить обычного человеческого счастья, ощущения того, что ты любишь и любим.
Теперь, кроме преданного друга и кузена Павла Георгиевича, Бориса Кохно и нескольких близких людей, рядом с ним был Цыганенок, мальчик, который стал вместе с ними членом его семьи. Сергей Павлович, сравнивший его однажды с Алешей Карамазовым, и в сердце свое впустил его как героя Ф. М. Достоевского, поверил ему навек и на этом успокоился, не желая никаких перемен. Он хотел, чтобы этот юноша всегда оставался его Алешей – именно таким, каким Дягилев его полюбил. В минуты откровений и нежности, которых было немало в 1925 и 1926 годах, когда казалось, что мир создан только для них, грозный директор превращался в нежного Котушку, который с восторгом восклицал: «Сережа, ты рожден для меня, для нашей встречи!»
Лифарь действительно «всеми своими помыслами принадлежал ему». Но Сергей Павлович, страшась, что Сергей-младший, изменившись, уйдет от него, старался отдалить того от людей. До конца доверял он лишь Корибут-Кубитовичу, зная его преданность и кристальную честность. Только Павел Георгиевич, кроме самого Дягилева, имел право быть другом и опекуном юного танцовщика.
Но «великий творец Русского балета» вовсе не был законченным эгоистом! Он умел любить и трепетно заботиться о любимом человеке. Когда Сергей Павлович видел, что Цыганенок о чем-то грустит, он – громадный, располневший, – желая развеселить возлюбленного, начинал танцевать, исполняя балетные движения, подражая балеринам «на пальчиках», и приговаривать: «Вот посмотри, Кукса, как твой Котушка будет делать турчики с пируэтами»… Вид у него при этом был умопомрачительный: встав с постели, Маэстро долго не одевался, ходил по комнате в мягких войлочных туфлях и в длинных, до колен, сорочках, привезенных им еще из России. Сделав в таком одеянии несколько па, он обычно спрашивал: «Ну, что ж тебе еще показать? Хочешь посмотреть, как твой Котушка будет теперь делать твои вариации?» При этом он натыкался на мебель, которая с грохотом летела на пол. «Смотреть на эти балетные „экзерсисы“ Дягилева было для меня просто физическим наслаждением, – признается Лифарь. – Я хохотал от всей души, глядя на его танцующую фигуру, и в то же время умилялся, зная, что Сергей Павлович „танцует“ для меня, для того, чтобы развеселить меня, заставить меня улыбнуться».
В то же время, несмотря на любовь и нежность, бесконечные «разговорушки» об их общем будущем, Дягилев безумно ревновал Цыганенка – ко всем и всему. Он мог очень много дать близкому человеку, но и взамен требовал абсолютной преданности. Как вспоминал С. Лифарь, «тираническая ревность была в природе Дягилева: она распространялась на всех людей, с которыми он входил в какие бы то ни было отношения, но вырастала до невероятных размеров в отношении тех, кто ему был близок и дорог». Недаром впоследствии Лифарь признавался, что из тех многочисленных прозвищ, которые он давал в те счастливые дни Сергею Павловичу, больше всего ему подходило одно – «Отеллушка».
Конечно, у молодого, красивого, талантливого танцовщика соблазнов было немало. Ему оказывали знаки внимания как танцовщицы труппы, так и многочисленные поклонницы. Дягилев, заботясь об артистическом будущем своего фаворита и мечтая, чтобы тот танцевал с лучшими балеринами, приглашал их в антрепризу. Но стоило кому-нибудь из них выказать Лифарю знаки внимания, как директор тут же начинал хмуриться, сердиться и готов был, не обременяя себя лишними разбирательствами, расстаться с внушавшей подозрение балериной. Однажды он даже отдал приказ режиссеру Григорьеву: «Выгнать танцовщицу – зачем она кокетничает с Лифарем?»
Устраивал он бурные сцены и самому Цыганенку. Первая из них произошла вскоре после того, как Дягилев с Лифарем отправились на север Италии, в Стрезу. Там они осматривали озера, остановившись вдвоем на чудесной вилле, имевшей многовековую историю. Построенная в XVI веке, Вилла д’Эсте была сначала летней резиденцией кардинала Толомео Галлио, затем в течение многих лет здесь гостили представители европейской аристократии. А с 1873 года, когда вилла стала роскошным отелем с номерами, элегантно декорированными шелком, парчой, живописными полотнами и старинной мебелью, здесь стали останавливаться всемирно известные политики, выдающиеся деятели искусства и культуры.
Сергей Павлович был в чудесном расположении духа, жизнь после поистине блестящего сезона казалась прекрасной, упоительной. Он не раз вспоминал выражение, которое употребляют итальянцы в таких обстоятельствах: dolce vita (сладкая жизнь). Неужели и для него – после многолетних волнений, неудач, горестных расставаний с близкими людьми – возможно такое счастье? Гуляя с Сергеем-младшим по великолепному старинному парку, в котором живописный ландшафт прекрасно подчеркивает красота классических скульптур, романтических беседок и замысловатых цветочных композиций, он думал: идиллия, настоящая идиллия… Но в один из таких безмятежных дней Дягилев едва не разрушил ее собственными руками.
По соседству, в Серноббио, вспоминает С. Лифарь, «жили Д., и раз красавица Д. пригласила Сергея Павловича и меня обедать. За столом она разговаривала с Сергеем Павловичем, но смотрела больше на меня и обращалась ко мне с особенной ласковой внимательностью. Я вижу, что благодушный вначале Сергей Павлович начинает нервничать и уже едва сдерживает себя. После обеда наша красавица предлагает покататься на лодке по озеру Комо…». Дягилев, который из-за многолетнего суеверия боялся воды, вынужден был отказаться: «Нет, Вы уж покатайтесь вдвоем с Сергеем, а я пойду домой».
Сергей-младший очень мило провел время в обществе своей собеседницы, радуясь тому, что может говорить с ней по-русски, катаясь на лодке вдоль прекрасных берегов Комо. Когда же, проводив Д., он вернулся в отель, то услышал от консьержа: «Месье Дягилев уехал и велел Вам сказать, что Вы можете провести здесь все Ваши каникулы».
Цыганенок в полной растерянности: в комнате Сергея Павловича нет ни его самого, ни его вещей. Куда же он исчез, куда мог поехать, кроме… Милана? Лифарь лихорадочно собирает чемодан и мчится в Милан – в ту гостиницу, где обычно останавливается Сергей Павлович. К счастью, служащий отеля сообщает: «Месье Дягилев только что приехал, минуту назад».
Примирение было достигнуто в считаные минуты. Ведь Лифарь вовсе не хотел обидеть Сергея Павловича, да и его поспешный приезд говорил о многом… Теперь уже сам Дягилев стал раскаиваться в том, что уехал. Но самое главное – счастье продолжалось и, казалось, ему не будет конца… Они едут в Венецию, Флоренцию, Фьезоле, Рим, Неаполь, Сорренто, на остров Капри. Все красоты, достопримечательности Дягилев показывает возлюбленному «неутомимо-восторженно», гордясь тем, что может передать ему свое понимание искусства и любовь к нему. А Сергей-младший послушно и благодарно слушает Маэстро, впитывая каждое его слово. Он учится и на глазах растет.
Первого октября труппа собралась в Париже. До возвращения в Лондон, намеченного на конец месяца, Дягилев собирался заниматься репетициями – как старого репертуара, так и нового балета «Барабо» итальянского композитора Витторио Риети с декорациями и костюмами Мориса Утрилло. Маэстро больше не сомневался, кому поручить хореографию премьер-ной постановки: конечно Баланчину! После успеха «Песни соловья» Сергей Павлович возлагал на него большие надежды. Время покажет, что его творчество породит у Дягилева некоторую неудовлетворенность: изобретательный на всевозможные трюки и пародии, молодой хореограф почти не оставлял места академическому танцу. Он, конечно, значительно обогатил Русский балет, введя в свои постановки новые приемы, но некоторые открывавшиеся перед ним возможности так и не реализовал. Но как бы то ни было, именно Джордж Баланчин оставался хореографом труппы до самой смерти Маэстро.
После нескольких спектаклей в Бельгии артисты вернулись в Лондон. Здесь, в театре «Колизеум», менее чем за два месяца труппа дала 96 спектаклей – зачастую по два в день, и все они проходили с неизменным успехом. 11 декабря состоялась премьера «Барабо». Режиссер Григорьев вспоминает об этом знаменательном для Русского балета событии: «…„Барабо“ стал нашей удачей. Эскиз Утрилло был отлично воплощен превосходным театральным художником князем Шервашидзе; замечательна была музыка, опиравшаяся на итальянские народные мелодии, которые частично исполнял хор, располагавшийся прямо на сцене; хореография Баланчина, за исключением не вполне убедительного финала, оказалась интересной и оригинальной. В балете было три главные партии: самого Барабо в исполнении Войциховского, восхищавшего отточенной чеканкой движений, комедийно решенной молодой Крестьянки, которую танцевала Татьяна Шамье, и щеголя Сержанта в исполнении Лифаря».
Друг юности Дягилева Константин Сомов, посетив одно из представлений комического балета, пересказал его сюжет в письме своей сестре А. А. Михайловой в Ленинград: «Барабо, шинкарь и винодел, пьет, веселится и щупает поселянок, одетых в грубые чулки, в ботинки с эластиками, смешные юбки и шляпки. Приходят зеленые гусары, солдаты под предводительством сержанта в зеленом соблазнительном трико (Лифарь, премьер труппы и фаворит Дягилева). Они расталкивают Барабо и поселян, отнимают вино и, в свою очередь, щупают девиц и с ними гротескно танцуют. Чтобы отделаться от солдат, Барабо притворяется и изображает комическую скоропостижную смерть. Его начинают хоронить, а гусары разбегаются. Барабо воскресает и начинается общее веселье. Балет коротенький – скорее клоунада, чем танцы. Баланчивадзе оказался талантливым и изобретательным…»
Жаль только, что хор обходился очень дорого и поэтому Дягилев не мог давать «Барабо» так часто, как хотелось бы.
Длительный лондонский ангажемент завершила «Свадьба Авроры». На прощание благодарная публика буквально завалила сцену цветами, приветствуя бурными аплодисментами выход каждого артиста, а уже на следующее утро труппа выехала в Берлин.
1925 год, один из самых счастливых в жизни Дягилева, заканчивался так же безмятежно, как и начинался. В сочельник его ждал необычный подарок – елка, которую специально для него поставил и нарядил Лифарь. Сергей Павлович, растроганный таким вниманием, прослезился и признался, что это первая елка за все годы его пребывания за границей. Он стал вспоминать Россию, о которой никогда не мог говорить без слез. Но на этот раз слезы были светлыми. Елка, устроенная Сергеем-младшим, разбередила душу, заставила «мечтать о своем, невозможном домашнем уюте…». Ему так хотелось верить, что мечта начала сбываться!
Глава двадцать третья НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Всё изменилось за несколько дней до наступления нового, 1926 года. Маэстро планировал дать небольшие – всего две недели – гастроли в Немецком художественном театре. Он не сомневался, что выступления артистов принесут антрепризе существенную прибыль. В этом Дягилева уверял и местный импресарио. Действительно, в день премьеры театр был полон и казалось, аплодисментам и восторгам публики не будет конца. Но буквально со следующего дня зрители, словно сговорившись, охладели к спектаклям Русского балета. Театр изо дня в день был на три четверти пуст. Вскоре стало ясно, что полученных денег не хватит даже на дорогу до Монте-Карло, куда труппа должна была выехать в середине января. В чем же причина этого провала? То ли место оказалось неудачным, то ли репертуар подкачал… Вскоре выяснилось, что дело не в художественных просчетах импресарио, а в том, что почти все балеты были созданы французскими композиторами и художниками, а в Германии в то время повсюду ощущалась неприкрытая неприязнь к французам. Вот сотрудники дягилевской антрепризы и поплатились за инакомыслие.
Но беда, как Дягилев уже не раз убеждался, не приходит одна. Маэстро, пытаясь найти достойную партнершу для Сержа Лифаря, начал выдвигать талантливую и очень красивую молодую танцовщицу Алису Никитину. Выбор его оказался правильным: девушка, несомненно, была отмечена искрой божьей, и это заметили приветствовавшие ее зрители. Но ее успех не всем в труппе пришелся по вкусу. Зависть одной из ведущих танцовщиц, Веры Немчиновой, оказалась безграничной, и она решила покинуть антрепризу. Сделав вид, что отправилась в отпуск, она, не сказав никому ни слова, подписала контракт с лондонским импресарио Чарлзом Кокраном.
В середине января в Монако традиционно проходит фестиваль искусств, и артисты Русского балета должны были выступать на сцене Казино. Однако Немчинова, конечно, не вернулась. Сергей Павлович, оставшись без исполнительницы ряда ведущих партий, очень расстроился. Своим сотрудникам он сказал в сердцах: «Вера Немчинова больше никогда в жизни не будет в Русском балете» – и слово свое сдержал. Спустя два года, когда Маэстро случайно встретился с ней в Монте-Карло, он – впервые в жизни – не подал руки женщине.
А тогда, в начале 1926-го, надо было срочно искать выход. Деньги на проезд труппы в Монте-Карло Дягилев достал в Париже, даже несмотря на рождественские праздники, и тут же выслал В. Нувелю. Но ведь это – капля в море, на новые постановки нужны большие средства. Где же их взять?
«Думушки» Сергея Павловича были в ту пору безрадостными. Беспокоили последствия финансового краха в Берлине, то и дело давали о себе знать незадолго до этого обнаруженный у него врачами диабет и расстроенные нервы… Часами лежа в постели, он вел бесконечные «разговорушки» с самыми близкими людьми, пытаясь нащупать бесценную «нить Ариадны», которая могла бы помочь найти выход из тупика. Однажды, взвесив все за и против, Дягилев решил сделать последнюю ставку – на британского газетного магната лорда Ротермира. Этот «высокий дородный господин с приятным лицом английского типа» всячески выказывал заинтересованность в Русском балете и… балеринах.
Однажды «горячий почитатель» дягилевской труппы появился вместе с Маэстро на репетиции. Директор представил артистам высокого гостя, объявив, что лорд – давний поклонник труппы, всегда, когда позволяет время, посещающий спектакли Русского балета. А сейчас он хочет посмотреть, как создается новая постановка. С. Л. Григорьев вспоминает: «Дягилев и лорд Ротермир сели, и, как мы заметили, последний очень внимательно наблюдал за репетицией. Затем он приходил всё чаще и чаще, постепенно став регулярным свидетелем наших свершений и неудач – как в репетиционном зале, так и на сцене». Результатом этих посещений стало согласие поддержать антрепризу. Однако перейти от слов к делу Ротермир не спешил: проходили дни, недели, а обещанной помощи всё не было… Маэстро места себе не находил от волнения. Он давал ужины в честь британского аристократа – а после их окончания возвращался в отель «то с оживившейся надеждой, то в состоянии мрачного тупика». Бывало, он то и дело – чуть ли не каждые полчаса – звонил лорду Ротермиру домой, надеясь договориться о встрече, чтобы обсудить перспективу. Но газетный магнат то отсутствовал, то отменял свидание, порой в последнюю минуту.
Наконец, после долгих ожиданий, Сергей Павлович получил-таки обещанную ссуду – и тут же включился в работу: стал готовить парижский сезон. Видимо, помня о том, что его не раз критиковали за бессюжетность ряда балетов, на этот раз Дягилев решил обратиться к классике, интерпретировав ее по-своему. Желая заинтриговать приглашенного на беседу режиссера Григорьева, он сказал:
– Вы всегда утверждаете, Сергей Леонидович, что балетам нужен сюжет. Так Вы будете рады услышать, что наш следующий балет удовлетворит Вашим требованиям.
– A-а, хорошо. И какой же это будет балет?
Дягилев ответил, не скрывая радости:
– «Ромео и Джульетта». Конечно, сюжетную основу трагедии надо будет приспособить к балету, но всё же… Партитура уже написана англичанином Константом Ламбертом, а так как Шекспир не применял декораций, то и мы тоже не будем. Что я еще не решил, так это кому поручить хореографию. Вот я и хотел посоветоваться…
Григорьев, будучи опытным режиссером, поинтересовался, каким образом Маэстро собирается приспособить сюжет для балетного спектакля, и тут же с удивлением узнал, что «связь балета с Шекспиром фактически предельно слаба». Лишь в самом начале спектакля на сцене должны появиться танцовщики, которые будут репетировать эпизоды из знаменитой драмы. А потом персонажи Шекспира… исчезнут.
Возвращаясь к вопросу о постановщике спектакля, Дягилев, испытующе глядя на своего ближайшего помощника, сказал: «Ни Мясин, ни Баланчин, мне кажется, тут не подходят. Поэтому я подумал о том, не пригласить ли нам снова Нижинскую». Григорьев идею одобрил, добавив, что Бронислава Фоминична, несмотря на ссору с Дягилевым, по-прежнему готова с ним сотрудничать. Оставалось лишь дождаться марта, когда она будет свободна, и начать работу над «Ромео и Джульеттой». Что же касается других новых постановок, Маэстро, по его собственному признанию, хотел бы вновь сотрудничать со Стравинским, но пока что-то у них не заладилось. Поэтому, не пожелав попусту тратить время, он заказал французскому композитору Жоржу Орику, с которым уже имел опыт работы, музыку для балета «Пастораль». Дягилева также уже много лет привлекала музыка Эрика Сати – «тонкой штучки», по меткому замечанию Игоря Стравинского. Но около года назад одного из реформаторов европейской музыки не стало, и сотрудничество, казалось бы, подошло к логическому концу. Однако неожиданно помог случай: от одного из знакомых Сергей Павлович узнал, что клавиром Сати владеет граф Этьен де Бомонт. Атака на графа оказалась стремительной и успешной. Ведь стареющий «шармер» умел добиваться желаемого как никто другой! Вот и сейчас он уговорил Бомонта отдать клавир на благое дело, а получив его, тут же вручил бесценное приобретение для оркестровки Дариусу Мийо. Название для балета Маэстро придумал весьма оригинальное – «Чертик из табакерки».
Кроме того, в соответствии с пожеланием лорда Ротермира увидеть «английский балет», Дягилев заказал партитуру британскому композитору – лорду Д. Бернерсу (настоящее имя – Джералд Хью Тиритт-Уилсон). Того вдохновляли пан-томимы-феерии, которые были самой популярной формой представлений в Лондоне в начале Викторианской эпохи. Это нашло выражение в названии нового произведения – «Триумф Нептуна».
Энрико Чекетти, выйдя на пенсию, работал теперь в родной Италии, в Милане. Но Дягилев то и дело обращался к нему за помощью – просил дать уроки танцовщикам Русского балета. В феврале Маэстро отправил в Милан С. Лифаря под опекой П. Г. Корибут-Кубитовича. Когда в марте они вернулись в Париж, подготовка к новому сезону была в полном разгаре. Сергей Павлович уже договорился с Б. Нижинской о постановке ею нового балета и выписал Тамару Карсавину. Он хотел, чтобы именно она и Лифарь исполняли главные партии.
Перед отправкой Цыганенка и Бориса Кохно в Монте-Карло Дягилев попросил их съездить на Монмартр – посетить выставку художников-сюрреалистов Макса Эрнста и Жоана Миро. Молодые люди, оказавшись в студии, молча рассматривали картины и… ничего не понимали. На вокзале, словно невзначай, Сергей Павлович спросил: «Ну, как же вам понравились сюрреалисты?»
Кохно высказался в том смысле, что всё это, мол, ерунда и не стоило тратить время на посещение выставки. Сергей-младший был полностью согласен с ним, но всё же с опаской подумал: а вдруг это что-то значительное и они с Кохно просто ничего не поняли? Поэтому, отвечая на вопрос Дягилева, он выразился очень осторожно: «Мне не понравились Эрнст и Миро, и я ничего не понял в сюрреализме, но все-таки лучше пойдите сами и посмотрите».
Как выяснилось чуть позже, Дягилев внял совету своего фаворита. Прошло всего несколько дней, и он приехал в Монте-Карло… вместе с Эрнстом и Миро. Оказывается, посмотрев их картины, Маэстро предложил художникам сделать декорации для «Ромео и Джульетты» и так заинтересовался своими новыми друзьями, что, казалось, его теперь больше волновала не подготовка к сезону, а их «дружеские художественные беседы», продолжавшиеся порой с вечера до пяти часов утра. Дягилев, казалось, даже помолодел.
А в это время начался сбор труппы, приехали Карсавина и Нижинская. Бронислава Фоминична, как только узнала о том, что легендарная Тата должна танцевать в «Ромео и Джульетте» с Лифарем, тут же потребовала устроить ему экзамен (ведь для нее он был не первым танцовщиком труппы, а всего лишь бывшим учеником, которому именно она помогла проложить дорогу к Дягилеву), иначе она не согласится на то, чтобы Лифарь танцевал Ромео.
Сергей-младший вынужден был уступить. За рояль сел Николай Легат (в прошлом известный танцовщик Мариинского театра, ставший педагогом труппы Дягилева после ухода на пенсию Чекетти), и экзамен начался. Длился он полчаса. В конце испытания Легат вскочил и обнял Лифаря. Поздравил его с успехом и Сергей Павлович и тут же сказал смущенной Нижинской: «Завтра начинаем ставить».
Одна за другой шли «репетиции без декораций в двух частях». Дягилев действительно предполагал показывать балет практически без декораций: занавес должен открывать пустую сиену. Правда, в глубине он решил поместить два полотна, созданные Эрнстом и Миро без всякой связи с темой балета, а также стенды с изображением части комнаты, двора или балкона, которые должны были передвигать сами актеры. Предполагалось, что все исполнители будут выступать в репетиционной одежде: танцовщицы – в туниках песочного цвета, а танцовщики – в обычных трико. Лишь костюмы главных героев напоминали об эпохе Ренессанса.
Хореография Нижинской строилась в основном на экзерсисе у палки. Несмотря на то, что центром действия было па-де-де, которому сопутствовал ряд мимических сцен, танец в этой постановке почти отсутствовал. Как вспоминает С. Л. Григорьев, «вся концепция балета, казалось, строилась на желании шокировать публику. Спектакль состоял из двух частей, а между ними была сцена, которая шла с полуопущенным занавесом, не доходившим до планшета на несколько футов, так что зрители могли видеть только ноги танцовщиков». Такую «усеченную» хореографию – для одних лишь ног – поставил Баланчин. В финале спектакля появлялся Лифарь-Ромео, одетый в форму летчика, чтобы увезти с собой на самолете Карсавину-Джульетту.
Ссуда лорда Ротермира помогла решить некоторые проблемы, но, как вскоре выяснилось, далеко не все. За несколько дней до открытия сезона в Монте-Карло Дягилев сообщил режиссеру Григорьеву, что у него нет средств на постановку новых балетов. Сказался, конечно, финансовый провал в Берлине, к тому же Маэстро продолжал выплачивать задолженность лондонскому импресарио Э. Штолю. Как же поступить в такой ситуации? Сергей Павлович смущенно сказал Григорьеву: «Знаете, что я сделаю? Я продам занавес Пикассо к „Треуголке“ и его фигурные изображения, созданные для „Квадро фламенко“, которые все подписаны. Я уже нашел покупателя в Германии, а вырученные средства дадут мне возможность осуществить новые постановки».
Он вопросительно посмотрел на Сергея Леонидовича. Режиссера эта идея очень расстроила, и он высказал опасение, что их могут раскритиковать, если балет останется без занавеса. Но Дягилев лишь рассмеялся в ответ: «О, в таком случае мы скажем, что боимся его испортить, если станем и впредь использовать, и потому его убрали. Нет, я должен его продать. Итак, пожалуйста, завтра его мне достаньте. Я сам вырежу, что нужно».








