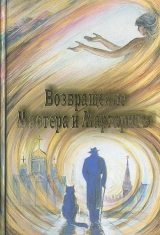
Текст книги "Возвращение мастера и Маргариты"
Автор книги: Мила Бояджиева
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 35 страниц)
– Ни чем не могу вам помочь, граждане. Расселение не планирую. Сведений о продаже жилплощади в моем доме не имею, – отчеканил триллерист, изучив персонажей и поднялся, что бы выпроводить их незамедлительно.
– Сведения имеем мы, – успокоил его покупатель. – Все, что необходимо, у нас есть. – Оторвав зад от кресла, он протянул руку и представился: – Литературный агент Эммануил Экстрактов.
Гаврила пренебрег рукопожатием и сделал брезгливо-насмешливое лицо. Литературный агент, нимало не смутившись, извлек из внутренних карманов эстрадного пиджака бумаги и метнул их на низкий стеклянный столик жестом молдаванской гадалки.
– С мэром Лозаньи списывались? О приглашении ходатайствовали? Получайте! Удовлетворил ваши пожелания синьор Поганчини. Зовет, ждет, встретит с распростертыми объятиями. Вот приглашение, личное письмо мэра, кредитная карточка Римского банка, паспорт с визой... Ну, и авиабилет до Милана рейсом Алиталиа. Вылет через час.
Глыбанин уставился на бумаги с мучительным непониманием, мотнул головой, припоминая, что и в каких дозах принимал вчера на торжестве по поводу кончины известного критика. И вспомнил, что напился не сильно, всего лишь до состояния бурного самовосхищения и вполне качественной продукцией. Вспомнил и то, что в ходе работы над новой книгой, в которой Ссученный внедряется в иностранную мафию, почувствовал острую необходимость в изучении местных нравов. О чем и написал в письмах, отправленных в разные точки Западной Европы, уже издавшие знаменитый труд его супруги и, в частности, в мэрию четырнадцати итальянских городов на южном побережье. Причем, всякий раз убеждал адресата, что именно в этом месте должно разворачиваться действие лучшего российско-итальянского (германского, бельгийского, французского и т. д.) бестселлера, и прилагал выдержки из прессы, свидетельствовавшие о масштабности дарования Глыбанина.
– Значит, ответили... – скупо бросил он, погружаясь в приятную истому воина, взявшего Рубикон.
– Оценили, – подтвердил агент. – Но с некоторым опозданием. Придется поспешить. Машенька собрала вещи, чемодан ждет в машине. Вот здесь распишитесь и в путь! – Ласково улыбаясь, он подсунул витавшему в грезах писателю какую-то бумагу, затем помог подняться и подтолкнул к двери.
– Я должен переодеться... – слабо запротестовал Гаврила, трогая пропотевшее розовое белье.
– Ни в коем разе. У них знаменитые литераторы теперь только так и летают – в шерстяном исподнем.
– А ноутбук? Я должен работать в пути, – капризничал триллерист, светясь улыбкой буккеровского избранника.
– Все упаковано. Рысью, рысью, голубчик. Вы же не хотите опоздать?
В холле коротышка молча набросил на отбывающего дубленку и рассовал по карманам документы, портмоне с паспортом и банковской карточкой. Наметанным писательским глазом Гаврила успел заметить, что желтые крючки в нагрудном кармане пиджака клыкастого вовсе не являлись колпачками пишущих ручек – из кармана торчали скрюченные, когтистые пальцы куриной ноги! Но вопрос по этому странному поводу триллерист задать не успел – плечистый обладатель огненной шевелюры выставил его за дверь. У лифта уводимый опомнился:
– А Марья Викторовна? Я запрашивал двойную визу.
– У девушки найдется масса дел в Москве. Кто будет готовить к изданию вашу едва завершенную рукопись "Страсть Ссученного"? И кроме того... прильнув к уху триллериста и ошарашив его запахом весьма пикантного парфюма, агент шепнул: – Вы осмыслите, голуба, стоит ли ехать в Тулу со своим самоваром?
В то время, как Глыбанина уносил к Шереметьеву-2 автомобиль агента Экстрактова, на кухне плакала юная поэтесса. Рыжий толстяк, оказавшийся частным детективом, предоставил ей документы (включая фото), исчерпывающе свидетельствующие о вопиющей неверности Гаврилы. И даже представил его письменное обязательство жениться по установлению факта вдовства, адресованное популярной певице. Певица эта, даже показанная одетой по телевизору, действовала на писателя сильнее, чем эротические верлибры Машеньки, зачитываемые во время альковных игр. Строфы в стихах Машеньки, естественно, не рифмовались, но завершались полными глубокого амбивалентного смысла многоточиями, которые каждый мог заменить понравившимися ему словами. Слова же в контексте, предложенном юным дарованием, напрашивались самые общеизвестные, но категорически в приличном обществе не произносимые. Гаврила утверждал, что сила Машенькиного таланта поднимает его творческий и мужской потенциал.
– Он лгал! Он использовал меня, словно Аиду... – Размазывала девушка несмываемую косметику на той части лица, которую успела освежить после душа.
– Изауру, – любезно подсказал детектив. – Она была рабыней и все мужчины стремились ее гнусно использовать. Вы достойны лучшего.
– Зачем я порвала с Фарингосептовым!? Он с горя уехал на Канары, прихватив очередную...(прозвучал купюрный фрагмент из последнего верлибра).
– Ах, ни с кем он не уехал! – всплеснул короткими ручками детектив. Манжеты его рубашки так обтрепались, что из-за бахромы совсем не было видно кистей. – Вчера виделись. Он, собственно, и привлек меня для прояснения вашей двусмысленной ситуации. А теперь ждет с томленьем упованья... Минуты верного свиданья.
– Это Пушкин, – всхлипнула поэтесса.
– И Фарингосептов тоже! Ведь он совсем как Пушкин. Пишет и ждет, – в знак искренности своего заверения посланец даже приложил руку к сердцу.
– Ждет на Канарах? – оживилась Маша.
– У себя в Перелыгино, где очистил помещение особняка от постороннего дамского присутствия. Этот человек знает, что такое настоящая любовь! вдохновенно сверкнув круглыми желтыми очками, воскликнул детектив. Вначале резко не понравившийся, он вызывал теперь у оскорбленной женщины чувство неограниченного доверия.
– "Кадиллак" у подъезда, опаснейшая! – желтоглазый отвесил театральный поклон.
– А вещи?... – с затуманенным взором прошептала обессилившая от переизбытка эмоций поэтесса.
– Мой помощник собрал. Сумки в машине. В таких делах необходима внезапность. Сами понимаете. "Шквал закружил безумную меня. Что можем мы? Я – все. Ты – не хрена", – продекламировал он без купюр последнее творение Машеньки. – Только тут верлибром и не пахнет. Вас обманули. Это классический сонет, милочка.
... Вскоре входная дверь захлопнулась вслед продолжавшей наперебой читать стихи парой. "Стальная женщина" прислушалась. Квартира не опустела, в ней кто-то ходил, чеканя тяжелые, глухие шаги. Шаги приблизились, замерли возле двери ее комнаты и та начала медленно открываться.
– А вот и я, – сказал некто в похоронном пиджаке с подмерзшей хризантемой в петлице. В руках гость держал букет в пандан – белые, круглые, как зефир, цветы свесили увядшие потемневшие головы, напоминая задушенных кур.
– Какая прелесть, – проворковала старуха юным, полным тонкого кокетства голосом. – На дворе морозит?
– Не удивительно. Начало декабря, Клавдия Сильвестровна.
– Какое число? – "стальная женщина" выпрямила спину.
– Четвертое-с. Сами понимаете – пора.
Старухам вскинула голову и, не смотря на робу из сурового серого полотна, которую ее многие годы заставлял носить супруг якобы из мемориально-лагерных и гигиенических соображений, достигла впечатления величия. Царственным жестом подняла руку:
– Мое синее панбархатное платье. Перчатки, чернобурку.
– В момент, – кивнул визитер и поковырял пальцем в воздухе. Произошло дуновение, шуршание, звон. Запахло духами "Красная Москва" и ветер задернул оконные шторы.
– О... – старуха поднесла к глазам обтянутые синим гипюром пальцы, вдохнула исходящий от перчаток забытый аромат.
– Хотите что-нибудь сыграть? – предложил галантный похоронный кавалер, кивнув на фортепиано и имея в виду, по всей вероятности, эпизод из мемуаров шпионки, свидетельствовавший о ее редкой музыкальности.
– Не обучалась. Он все наврал... Решительно все! – женщина в бальном туалете устремила на незнакомца горячо блеснувшие на мертвенном лице глаза. – Тогда на спектакле в Оперетте я получила записку... Это было предложение о сотрудничестве от самого... – Она вцепилась в пиджак рыжего и попыталась подняться. – Я должна сейчас же рассказать вам всю правду!
– Не мне, не здесь, не сейчас, – твердо отрезал джентльмен, освобождаясь от хватки гипюровых перчаток. – Вам необходим полный покой, мэм. Позвольте...
Он помог внезапно затихшей старухе поднять на постель ноги, расправил складки синего панбархата, сложил на груди успокоившиеся руки.
– Сон – лучшее средство сохранить вечную молодость. Поверьте мне – до сих пор не изобретено ничего более радикального. – Он провел рукой над лицом засыпающей и посмотрел на фортепиано – крышка откинулась и клавиши начали сами вдавливаться, неумело наигрывая ту часть си-бемоль минорной сонаты Шопена, которая обычно звучала в Колонном зале над ответственными покойниками.
Нечто незримое затрепетало в воздухе, забилось у стекла и вылетело через распахнувшуюся форточку в морозный декабрьский воздух. Посланец успел разглядеть очертания освободившегося Гнусария – старого, полуразбитого параличом. Ветеран сатанинской службы выпорхнул в блекнущее небо, оставив в комнате запах серы и гниющих цветов. Осыпав ложе почившей своими сомнительными хризантемами, убийца вышел, притворив за собой дверь...
В гостиной рыжий, кривя кирпичную физиономию, покосился на горящую дюжиной миньонов хрустальную люстру, рухнул в белое кресло и, орудуя куриной лапкой, как зубочисткой, прогнусавил:
– Объект нуждается в серьезной уборке.
Тем временем в разных концах столичного пригорода – на севере и на юге – произошли пренеприятные инциденты.
Первый случился в Перелыгино. Машенька, отбывшая к отставному любовнику прямо в банном халате, успела в машине привести лицо в полную боевую готовность и приготовить необходимые значительные фразы для трудного, но бурного примирения.
Высаженная детективом у ограды заснеженного сада, она тихо пробралась потайной тропинкой к дому, проникла на кухню, сбросила сапоги на шпильках, шубу, накинутую поверх халата и мягко заскользила по комнатам. Дом спал, выдавая признаки сумбурной холостяцкой жизни, проходящей в душевном смятении по поводу творческой непонятости. Художник высокого концептуального потенциала, Фарингосептов не захотел встраиваться в унизительный процесс коммерциализации литературы. В связи с этим похоронил свой талант на поприще банного бизнеса, пил, дебоширил, разнуздано менял женщин, заявляя во всеуслышанье, что еще не нашел той, Единственной.
Маша на цыпочках поднялась на второй этаж, стараясь не задевать пустые бутылки, чашки с заскорузлой кофейной гущей, тарелки, утыканные бычками, обрывки газет с остатками пищи и прочие признаки тоскливого одиночества. Дверь в спальню легко открылась, показав бордельно нарядную комнату с зеркалом на потолке и вместительным ложем под ним. Ковер, кресла, тумбочки беспорядочно покрывали детали верхнего и нижнего туалета, рассчитанные по меньшей мере на трех персон, и листы полусожженной рукописи. Под одеялом горбилось измученное ожиданием Единственной тело поэта.
Сбросив халат со стремительным профессионализмом, Маша юркнула под бок любимого, обняла его, нащупывая нужные для перемирия места и горячо шепча:
– Я пришла, твоя маленькая п...душечка...
Бок нащупался женский и интимные места тоже. Голос у облапанной дамы оказался скверный, но еще ужаснее было ее искаженное отеками и ужасом лицо. Из-под одеяла вынырнули еще две головы, причем только одна из них принадлежала Фарингосептову и по ней, размахнувшись не детским кулаком, съездила Единственная...
...На севере же, а именно в таможенном отделении Шереметьево-2, куда был доставлен литературным агентом знаменитый триллерист, дела обстояли куда серьезней.
Помахав ушедшему за турникет писателю, Экстрактов поспешил к телефону-автомату и противным голосом доложил начальнику смены – что, где, когда и у кого надо искать.
Наводка оказалась точной. Крутые парни таможенники, принявшие поначалу творца любимого героя Ссученного, как родного, попросили писателя достать ноутбук, затем собственноручно вскрыли нижнюю панель и глубоко вздохнули на стойку посыпались пакетики с белым порошком.
– Это не я! – нелепо возмутился Глыбанин. Но человек в начальственном мундире взглянул на него с нескрываемой тоской, словно своим поступком триллерист плюнул ему в душу. И пообещал голосом тени отца Гамлета:
– Разберутся. Но, помяните мое слово, разбираться будут долго и трудно...
... – И вот мы здесь, – закончили свой рассказ о расселении квартиры помощники того, кто называл себя Демосом Мефистовичем.
– Полагаю, вы не зря потрудились. Наши гости почувствовали некую странность и сейчас задают себе массу вопросов, – сказал он. – С этими симпатичными ребятами придется немного повозиться. Стало быть, пора устраиваться основательно.– Деймос вытянул ноги и размял колени. – У меня какое-то странное настроение. Тянет к покою, уюту...
– Рады-с! – хором отозвались остальные.
– Подыщем что-нибудь премиленькое для труда и коллективного проживания. Как, допусти, насчет бывшего адреса? – проявил энтузиазм Шарль.
– Увы, отпадает. Запомните: никогда не возвращайтесь туда, где вы были счастливы. Знаете, что сделать труднее всего? – Не попасть в свои собственные, как казалось, значительные следы. Они окажутся мелковатыми, а новые... новые и вовсе в сравнении с ними – нестоящими... Друзья! Мы начинаем новые приключения и станем заглядывать в прошлые лишь с теплой ностальгической слезой. Прежде всего – обновим досье – БАТОН, АМАРЕЛЛО, ШАРЛЬ. Прощу обращаться ко мне запросто – экселенц. А если официально, то, пожалуй, в качестве первой буквы я предпочту раскатистое Р-р-р...( " Р-рр..." – старательно – повторила свита.) Для проживания требуется нечто уютное, скромное. Здесь как то давит. Груз исторических ошибок чрезвычайно токсичен.
Роанд подошел к окну.
Короткий декабрьский день быстро угасал, сообщая панораме города печальное очарование. Кое-что тут угадывалось сразу – круглая ротонда на крыше дома Пашкова, башни и стены Кремля, золотые купола соборов за ними, трубы серой фабричной громады по правому берегу реки и особняки вдоль набережной, гигантский, горящий огнем шлем Храма Христа с огромным витым крестом.
Но было и новое, не московское: узкие башни, поднимающиеся над центральными кварталами, сплошь стеклянные, залитые изломанным ослепительным солнцем, монументальный монолит президентского отеля, похожий на многопалубный океанский лайнер, нечто гигантское, черное, торчащее на шипастой стелле прямо из вод Москвы-реки.
Чем ярче и обманчивей горело в окнах опускающееся за Воробьевыми горами солнце, тем сумрачней становилось в комнате.
– Займитесь устройством жилья. Мне надо отдохнуть, – переместив кресло к окну, Роланд извлек из папки с ботиночными шнурками измятые листы и, подставляя их бледному свету угасающего дня, начал читать.
"...Морозный день 5 декабря 1931 года приближался к середине..."
Глава 12
Морозный декабрьский день приближался к середине. Легкий дымок поднимался над московскими крышами, оранжевым шаром стояло в молочной пелене низкое солнце. Оно не слепило и не грело, лишь розовым райским отсветом заливало заиндевевший, словно из сахара вылепленный город.
На заснеженной набережной тихо и безлюдно. Заблаговременно огородили высоким забором Храм, выселили жильцов из близлежащих домов ветхой застройки, перекрыли ведущие к площадке улицы. Только рабочие в темных спецовках суетились у опустевшей громадины, переругиваясь и похрустывая морозным снежком.
С куполов Храма сорван позолоченный убор, выломаны двери и резные мраморные плиты, в провалы разбитых окон заметает снег. Весь в ранах, следах увечий и пыток, приговоренный стоял крепко, поднимая к декабрьскому небу кружевной остов обнаженной главы. В скорбном облике собора, лишенного праздничного убранства, резче обозначились черты сурового древнего зодчества. Опушенная инеем арматура куполов серебряным кружевом таяла в прозрачном воздухе, искрящиеся стены, залитые розовым солнцем, казались прозрачными. Глядящим на него сейчас людям являлась странная мысль: не разрушится Храм, вознесется. Оставит предавшую его землю, уйдет в тот мир, которому принадлежит по праву.
Люди толпились за пределами оцепленных улиц, потопывали валенками, колотили бока рукавицами и ждали. Кто-то молился, кто-то лузгал семечки, кто-то плакал...
К этому дню готовились давно. Он должен был стать всенародным праздником – праздником убиения Господня. Момент для истории страны крайне знаменательный.
14 июля 1931 года ТАСС с ликованием сообщил советскому народу: "Совнаркомом СССР принято решение о постройке Дворца Советов, в котором должны происходить съезды Советов, партии, профсоюзов и т.д., а так же массовые рабочие собрания. Местом постройки избрана площадь Храма Христа Спасителя. К подготовительным работам уже приступлено".
Специалисты заспорили о способах уничтожения огромного здания. Одни полагали, что строение надлежит разобрать по частям, сохранив в качестве музейных экспонатов кое-что из его отделки. Другие были настроены более практично и радикально. Когда речь идет о расправе с врагом сентимены и деликатность не уместны, действовать надо быстро и решительно. Расправа должна быть скорой, наглядной и постыдной, а в при таком раскладе лучшее средство – взрывчатка.
Президиум ВЦИК поручил Мособлисполкому произвести ликвидацию Храма в декадный срок. Пришлось поторопиться.
Всю осень вокруг обреченного Храма кипела работа. Словно муравьи облепили купола черные фигурки верхолазов, которым надлежало сорвать с крыши и куполов листы позолоченной обшивки. Из разоренных проемов огромных порталов вытаскивали мраморные статуи, обвязав веревками за шею, словно туши на бойне. Они остались лежать под дождем и снегом, погибая от ударов падающих с кровли листов.
В конце ноября на ободранных куполах вновь появились люди. Звеня пилами и стуча молотками они облепили основание семиметрового креста. Прохожие останавливались, задрав головы, стягивались из отдаленных районов любопытные: разнеслась весть – нынче будут валить крест.
Не простое это, как оказалось, дело. Вначале металл со всех сторон хорошенько подпилили, затем обвязали толстым канатом, а канат прикрепили к грузовику, стоящему во Всесвятском проезде. Осталось лишь хорошенько дернуть. Шофер откатил и, выжав до отказа газ, рванул вперед. Женщины в толпе взвизгнули, закрыв ладонями лица. Взревев, машина как тетиву натянула канат, задрожала от напряжения, отрывая от земли задние колеса. Но крест не шелохнулся.
Народ, толпившейся вокруг, охватило странное чувство. Задор поругания святыни, сладкий для нищего духом, сник. Увидели тут зеваки, как мизерны они рядом с Храмом, как ничтожны и жалки. Притихла галдевшая толпа, некоторые же, не сумевшие истребить в душе постыдное суеверие, пошли прочь, подгоняемые выкриками юродивого – по виду бывшего попа или бродяги. Дрожа и сотрясаясь от кашля, то заливаясь слезами, то хохоча, он воздевал кривой перст к небу:
– Велико терпение Всевышнего. Неисчерпаема мудрость и любовь Его. Тяжкое испытание посылает он вам, на краю стоящим! Так не гневите, не гневите Отца и Заступника! – стоя на коленях в затоптанной снежной каше, юродивый усердно крестился, ожидая, по-видимому, появления карающей десницы или сокрушающего огненного ливня. Но из облаков, плывущих за остовом купола, никто не явился, не метнулись в глумливых безбожников разящие стрелы.
Вновь завел шофер мотор грузовичка, снова взял разгон и рванул трос. Отшатнулась толпа. Но и во второй раз устоял крест.
Тогда подогнали еще один грузовик, нагрузили кузова камнями и рванули сообща. Рычание моторов огласило тишину, натянулся тетевой металлический трос. Сломился все же крест! Замер на мгновение и страшно рухнул, со скрежетом и железным лязгом. Скользнул вниз по металлическим прутьям каркаса, вздымая снежные фонтаны и фейерверк искр. В паутине арматуры застрял, тяжело раскачиваясь на ветру. Тихо стало внизу. Сотни глаз были прикованы к золотому сиянию креста, упорно не желавшего покидать свое место. Стукнув в последний раз о ребро остова, словно застонав, он заскользил вниз, рухнул наземь и исчез в столбе пыли...
4 декабря в праздник Введения во Храм Пресвятой Богородицы, сквозь выломанные порталы завезли внутрь семь тонн аммонала. Специалисты из Союзвзрывпрома разместили взрывчатку в соответствии с разработанным планом.
Взрыв назначили на двенадцать по полудню. К этому времени оцепила милиция улицы, тесня толпу. Разные здесь собрались элементы – кто веселится, кто молится, кто угрожает. Старушки черные, еле ползающие, матерые румяные здоровяки с пасмурным взглядом – то ли из бывших, то ли их нынешних бунтарей. Пацанье и всяческий люд, что при любых событиях присутствует, хоть то похороны, хоть Первомай, хоть пожар или открытие памятника – бузотеры. А среди них шастают беспризорники, интересуясь очисткой карманов.
Были среди толпы лица незаметные, но значительные. Потомки тех, кто строил и украшал Храм пришли проститься с ним и в немощи своей покаяться. Детям и внукам, что привели с собой, говорили: "Смотри, милый, душой запоминай. Расскажешь детям своим все, как было. Может и опомнятся люди".
Худющий слепой бородач, по виду из священнослужителей, напевно читал по памяти царский манифест: "Да простоит сей Храм многие веки, и да курится в нем перед святым престолом божьим кадило благодарности до позднейших родов, вместе с любовью и подражанием к делам их предков..."
Кашляя кровью и тряся бороденкой причитал что-то о неминуемой каре захудалый попик и рвался к Храму. Крепенький милиционер без особых усилий отволок его по грязному снегу к закрытой машине с красным крестом и сдал санитарам.
Ближе к намеченному сроку подтянулись к Храму чины из разных комиссий и важных организаций. Бригадир подрывников доложил и о полной готовности. Поспешили прочь начальники, покидая опасное место.
Оглядевшись, бригадир поманил к себе опытного сапера комсомольца Валентина Геншина:
– Неспокойно мне что-то, Валька. Всю ночь тут наряды дежурили, чтобы народ взрывчатку не растащил. Никаких инцидентов не отмечено. Разве что юродивый один, хрен замухрыщатый пытался парней против взрыва сагитировать, а потом рвался во внутрь помолиться. Не пустили, само собой, вызвали медпомощь, свезли в психушку... – Он жадно затянулся, пуская по ветру вонючий дым и щурясь. – Все путем вроде. А проверить не мешает. Сходи, Валька, глянь. Не сносить нам головы, если сорвем операцию.
Мужчины коротко взглянули в глаза друг другу и поняли многое. Про раскалывающуюся после ночного хмеля голову, про страхи смутные, про то, что вместо ящиков с динамитом вдруг обнаружится в шпурах пустая темень.
– Глянуть можно, – лихо сплюнул Геншин и пошел в Храм. Вразвалочку так, спокойненько, даже не замешкал в черном проломе портала. Шел и машинально считал секунды. Как обычно. Много повзрывал на своем коротком веку Геншин – гранитные карьеры, солевые шахты, разрушенные заводские корпуса. Взрывал лихо, с матерком, с посвистом, любил, когда смерть в затылок дышала. А когда узнал, что выпала ему честь очищать площадку под Дворец Советов, подал заявление в партию. Раз оказали ему коммунисты такое доверие, значит достоин.
Об этом надо думать, об этом. Чтобы кровь бурлила в жилах, отбивая победный ритм, а не леденела, отхлынывая от сердца. Темно в Храме. Пусто и гулко. Нанесло в разбитые окна снегу, страшно зияют раны от сорванных полотен, сгинувших статуй. Хрустит под ногами на плитах драгоценного мрамора обломки камня, щебень, мусор. Падает сквозь ободранный купол серебристый снег, покрывая саваном приговоренного на погибель.
Валька считал минуты. Не поднимая глаз на смотревшие со стен лики, проверил шпуры. Ящики стояли на местах. Капсулы, шнуры – все как положено. И понял он, что тайно хотел другого. Но чуда не случилось, и выходит исход предрешен. Раз сам Господь за Храм свой не заступается, значит, на совесть людей положился. А посему – ничто уже не спасет его, Вальку Геншина от вины и расплаты. Тогда прекратил сапер счет, вышел в центр под купол и поднял лицо к голубевшему сквозь прутья далекому небу. Рука сама сняла шапку и ею же, этой шапкой казенной с эмблемой "Дворцестроя" и висячими на ушах шнурками, широким крестом обмахнула грудь...
Все молча смотрели, как темный ватник подрывника медленно явился из дверного пролома и двинулся по искристому снежку к группе начальственного вида.
– Можно пускать, – сказал Валька сорвавшимся голосом и отвернулся, пряча глаза. Бригадир скомандовал:
– Внимание, запальный!
На Спасской башне начали бить Куранты. В тишине донесся из Кремля прощальный перезвон колоколов.
– Давай!!! – рявкнул бригадир парню, державшему ручку магнето и, заметив его нерешительность, добавил отчаянный трехэтажный мат.
Рвануло и загрохотало оглушительно, подняв галок с Кремлевских стен и отпугнув толпу. Ударная волна со звоном тряхнула стекла в окне. Варя отпрянула от подоконника, машинально втянув голову в плечи и жмурясь. Заплакал Миша на руках отца. Они стояли у окна гостиной, следя за происходящим с высоты десятого этажа.
Серафима Генриховна, сославшись на головную боль с утра закрылась в своей комнате. Оттуда доносилась музыка. Второй концерт Рахманинова звучал тревожно и мощно. Серафима играла и за фортепиано и за оркестр. Причем так, словно выступала на мировом конкурсе.
Клава, конечно же, пошла на набережную. Она уже нафаршировала яблоками купленную на рынке утку, уложила ее в чугунную жаровню, оставив место для картошки. К винегрету нашинковала, что положено, к паштету лук поджарила, горчицу с уксусом и маслом для селедки сбила, а когда хрен для холодца терла, ревела крокодиловыми слезами. Умылась, прифорсилась и, оживленная любопытством, побежала на набережную. Она, наверно, и визжала громче всех, когда прогрохотал взрыв и рухнул в столбе пыли один из четырех пилонов.
– Нет, нет, нет! Не понимаю я этого. Не понимаю! Зачем было так!? Варя яростно трясла головой, стиснув пальчиками виски.
– А как? – пробасил Лев, покачивая раскричавшегося сына.
– Не знаю. По-другому. Может, ночью. Что бы никто не видел.
– Только дурные дела свершают тайно, под покровом темноты. А здесь дело справедливое. Уверяю тебя, Варенька, эта махина не представляла никакой художественной ценности. К тому же исторически изжила себя. – Он улыбнулся притихшему ребенку. – Михаил все правильно поймет, когда вырастет и станет рассуждать о наших завоеваниях. Знаешь, что сказал адвокат Стасов – человек известный, эрудированный? Он отметил, что рядом с древними соборами Кремля Храм Христа смотрится как большая фальшивая брошь.
– Ну и что? Я вообще люблю брошки. И ведь это история! Для Мишеньки как музей полезный был бы.
– Милая, милая! Я тоже не варвар. Я инженер, я призван строить, а не разрушать! Я – коммунист, а не монархист. Я ненавижу всякую тиранию и само слово "диктатура"! Но как еще, если не силой, можно смести всю темень, убогость, мрак, что оставил нам в наследие старый режим? Пойми, я хочу ЛЮБИТЬ свою родину! Любить и гордиться, а не жалеть. И не краснеть от стыда перед всяким иностранишкой, подмечающим нашу темноту и варварство. – Лев повысил голос, стараясь заглушить плач вновь раскричавшегося младенца. Твой отец, к примеру, представитель просвещенной Российской интеллигенции. Но он не мог любить родину, ту темную варварскую царскую Россию, потому что был честным! Он умел видеть чужую беду. Огромную, всенародную беду. Ради того, что бы этой беды было меньше, он встал на сторону революционных реформ. И он – гуманист, математик, светлый созидательный ум – взял в руки оружие!.. Из которого, между прочим, стрелял...
Миша умолк. Варя смотрела затравленно из-под взлохмаченных светлых кудряшек. Лев погладил ее по голове и проговорил совсем тихо:
– Не дуйся, родная. Фальшивая это была красота, побрякушка с претензиями, – передав жене сына, он ринулся в кабинет и вернулся с толстой книгой.
Варя задумчиво смотрела в окно.
– Вот! Вот... Слушай. "История русского искусства", выпущена в 1921 году. Ученый Никольский пишет: "Храм Спасителя – это русифицированный Исаакиевский собор, гораздо более холодный, мертвый, чем петербургский образец. Ни Византии, ни Древней Руси здесь нет и следов; ...это просто "ряженый", замаскированный луковицами глав и кокошниками входов католический собор... грузный, грубый, чуждый всякой оригинальности по замыслу и воплощению"... Варенька, ты что?
Жена не слушала его, всматриваясь в окно.
– Гляди! Там что-то произошло! Храм стоит! Они решили не взрывать!
– Вероятно явился архангел Гавриил с армией защитников. Или Никола Чудотворец превратил взрывчатку в сахар, – мягко улыбнулся встревоженной жене Лев.
– Да нет же! Он в самом деле стоит! И люди радуются. Я знала, знала, что взрыва не будет. Сталин передумал и запретил! – Варя подпрыгнула и закружилась от радости.
Тут грянуло и зазвенело с ужасающей силой. Пронесся шквал, выбивая стекла в окнах низкорослых домов. Взобравшись на подоконник, Варя увидела, как стали оседать в клубах пыли стены Храма, взвился вверх белый, с черной примесью дым. И померещилось ей, что не дым это вовсе, а стая черных бесов кружила над поверженной громадой ликующим хороводом. Лев сгреб в охапку оторопевшую жену и прижал их обеих – ее и сыны – к своей надежной груди.
– Добили... – шептала Варя, всхлипывая.
Когда дым немного рассеялся, толпа внизу ахнула, увидав непреклонную главу купола, поднимающуюся над развалинами.
Бригадир подрывников севшим от волнения голосом кричал в трубку прямой связи с Кремлем:
– Никакого саботажа нет! Все идет в соответствии с планом работ. Специалисты рассчитывали на сорок пять минут. Мы действуем точно по инструкции. Интервалы между взрывами предусмотрены и оправданы технологически. Это ж не церквушка какая-нибудь, что б одним махом...
Кое-кому в Кремле не понравилась эта затянувшаяся агония. Ответственные лица нервничали, опасаясь недовольства масс. А еще больше гнева вождя.
Другим же долгая казнь доставила особое удовольствие. Одно дело отсечение головы, другое – четвертование. Наблюдавший в бинокль за взрывом с Боровицкого холма Лазарь Каганович, подбодрил взрывников по телефону: "Смелее, парни! Задерем-ка подол матушке Руси!" – он явно переживал минуты экстаза, возбужденный ликованием своего Гнусария.
И тут снова грохнуло оглушительно и страшно. Снесло голубой высокий забор, ограждавший Храм со стороны реки, сорвало крышу с трехэтажного дома на Волхонке. Сквозь пелену люди увидели, как тяжело накренился купольный барабан и рухнул, подняв густое серое облако. Когда оно рассеялось, на месте Храма лежала, дымясь, гора обломков. В толпе затянули: "Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног..." Юные голоса образовали хор.








