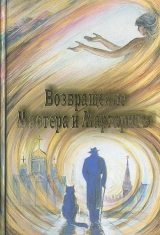
Текст книги "Возвращение мастера и Маргариты"
Автор книги: Мила Бояджиева
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 17 (всего у книги 35 страниц)
– Было дело, – сникнув, зябко ссутулившись, Жостов зашагал к дому.
– И говорят... – семеня сзади, продолжил Архитектор, – говорят вы долго упирались. Вроде даже кое-кому на вас поднажать пришлось. Убедить в правильности. Потом, значит, товарищ Жостов сориентировался верно, мнение коллег и специалистов о сносе Храма поддержал, а находящемуся в строении сумасшедшему попу протянул руку помощи.
– Ага... И это известно, – Николай Игнатьевич резко остановился и развернулся к своему спутнику, столкнувшись с ним. – Лазарь твой все наушничает. – Он прищурился и стиснул в карманах кулаки: – Много вы с ним дров наломали. Совесть-то не щемит, мальчики кровавые в глазах не являются?
– Резковато берете, уважаемый, – не поддержал назревающий конфликт архитектор. – Лес рубят, щепки летят. История нас рассудит. Народ оценит! привычной скороговоркой подвел он итог.
– Народ, говоришь?! Народ оценит! Вот о чем, значит, мечты возвышенные. Верно. Построишь Дворец и прогремишь на весь мир, в Историях будешь печататься. Со всех сторон станут кричать – мастер! Завистники и враги будут задницу лизать, а покровители медали вешать и премиями награждать. К этому ведь в конце концов сводятся любые рассуждения о бескорыстном служении народу. Мастер! – расхохотался Жостов противно, издевательски. – Не верь! Не верь никому, Боря. Ошиблись в небесной канцелярии, перепутали футляры. Ценный груз в кучу дерьма вложили. Талант твой жалко...
– Это уж слишком... Вы пьяны, товарищ Жостов! – потянув за поводок поджимавшую ноги собаку, Архитектор попытался обойти обидчика. Но тот, схватив его за грудки прижал к парапету. За спиной с втянутой в плечи головой светилось зеленью кремлевское окно.
– Постой. Давно у меня руки чесались. С того самого дня, как за решение это чертово проголосовал. Спасовал, понял – не устоять мне против твоей шайки. Словно шакалы оскалились, именем Сталина козыряли! Вы ж его, суки, в своих целях используете, – рука Жестова все туже скручивала архитекторское кашне. – А больше всех подзуживал Храм взрывать родственник твой – Лазарь. Да и ты постарался. Ты, "мастер"... – Хотел Жостов что-то добавить, но лишь махнул рукой, круто развернулся и зашагал прочь.
Архитектор повел шеей, расправил шарф, достал большой белый платок и старательно высморкался. Затем опустил веки и заставил себя дышать методически – выдох в два раза длиннее вдоха. Через пару минут он справился с кипевшим негодованием. Светилась окнами громада ЕГО Дома, в котором жили лучшие люди страны, а на листах ватмана уже рождался образ Дворца, увенчанного стометровой позолоченной статуей Ленина. Монумент невиданной мощи, в три раза выше статуи Свободы! Ширина в плечах – тридцать два метра! Объем головы почти в половину Колонного зала. Ильич будет возвышаться над облаками, а весь мир затаит дыхание от восторга и зависти. Никто, никогда, нигде не переплюнет мастера из Одессы, своими руками делающего историю...
– Мороз, Дуня, зверский, – Архитектор погладил жмущуюся к его ногам собаку. – Загулялись мы с тобой. Завтра банкет в Кремле. Товарищ Сталин, возможно, ходом дела интересоваться станет. А я – чихаю! Запомни, псина, никто, даже самый лучший из живущих на земле строителей, не может чихать на товарища Сталина... – Борис Михайлович Иофан уверенно зашагал к своему дому.
В кабинете Жостова горел свет. В кресле у письменного стола полулежала Варя, целясь в настольную лампу блестящей трубкой. По радио транслировали праздничный концерт. Молодой солист Большого театра Сергей Лемешев проникновенно пел "паду ли я стрелой пронзенный, иль мимо пролетит она..." Взволнованно шуршал программками и покашливал замерший зал.
– Ой, папка! Так тихо подкрался, я и не слышала. Увлеклась по уши! Нет, ну ты посмотри, посмотри сам! – Варя протянула отцу трубку. – Левчик подарок для Мишеньки сделал. Да ему такую штуковину пока в ручках не удержать.
Жостов взял блестящую трубку. Это был калейдоскоп, но не обычный, сделанный на фабрике детских игрушек или в кружке "умелые руки". Вещицу сработал профессионал, знакомый с передовым заводским производством.
– Хорошая работа, – одобрил Жостов без особого энтузиазма. Стычка с архитектором огорчила его. Нервы совсем ни к черту. Кипит что-то внутри, ворочается, как в жерле вулкана, а тут возьми да на Бориса вылейся. А ведь не его – себя шарфом душить надо было, себя клясть. Одна шайка-лейка, всем и ответ держать. Только кто-то знает о возмездии, а кто-то нет. Вот и живут спокойно, Дворцы проектируют. Тому же, кто сам с собой запутался, покоя нет, и не будет, как не крути.
Зачем, спрашивается, человек несгибаемой воли и железных убеждений ходил ночами в Храм к неприятному и неумному вовсе попу? Что ждал от него? Понятно в общем-то. Хотел проникнуться отвращением к служителю культа, укрепить веру в правоту государственной позиции. А что получил? Сомнения и жалость. Лаву эту в груди кипящую, ищущую выхода получил. Злобу и колебания...
– Ты меня не слушаешь, пап, – надулась Варя, хлопнув перед глазами Жостова ароматными розовыми ладошками. – Я говорю: трубку Левке из алюминия сделали, что для аэропланов идет, зеркальца специальные нарезали и внутри под углом склеили. А на донышко знаешь что насыпали? Да ты посмотри, посмотри сначала...
Жостов поднес трубку к глазу и словно нырнул в пестрый ярмарочный балаган, в детскую лоскутную яркость. Радужным светом залит манеж и выкатят на него вот-вот прямо из давних дней балерины в розовых пачках на смешных одноколесных велосипедах, выбегут рыжие клоуны, тяжело затопают, мотая хоботами, слоны...
Он слегка повернул трубку. Сместились цветные стеклышки, погрузив зеркальный дворец в прохладную синеву. В самый раз вспомнить Жюль-Верна. То ли небесная синева среди горных вершин, то ли океанские глубины, из которых вынырнет загадочный "Наутилус". А потом замелькали радужные миры, так точно, так хитро расчерченные цветными узорами...
– Я мальчишкой над этим прибором долго голову ломал, все думал, почему никогда ни один узор не повторяется. Может с той поры инженерией и увлекся. Теперь и вовсе не понятно. Ведь здесь внутри все картинки, как мгновения нашей жизни: сейчас одно, а едва изменишь угол зрения – все меняется. – Он отдал калейдоскоп дочери. – Хорошая вещица, Михаилу очень полезная.
– Похожа на дверь в другой мир. Приложишь к глазу – и заходи! Знаешь, пап, даже вроде музыка слышится и мысли всякие необычные приходят. Сегодня, конечно, все о Новом годе, о праздниках. Может, потому что стекляшки особые?
– Тяжелые.
– Тяжелые, но отличного качества, по специальным рецептам вареные. Левушка сказал. Как Храм разрушили, он там целую коробку насобирал. И еще приятелям своим роздал.
– Вот оно как. Значит, стекла, что в витражах были, тут прячутся...
– Да не волнуйся, там собирать не запрещают. Рабочие завалы разбирают, что на свалку, что куда. И мальчишки ватагами пасутся. Все равно – мусор.
– Мусор, – Жостов тяжело опустился на диван.
– Устал? Мама легла, Клавдия ванну принимает, Мишенька давно спит, а супруг мой, естественно, на трудовой вахте. Видать, в большие начальники выбивается. – Сидя на отвале дивана, Варя покачивала ножкой и любовалась новеньким тапочком из синего атласа с мохнатым помпоном. Взглянув на отца недовольно нахмурилась:
– Вид у тебя усталый. Не скажешь, что едва из санатория. Может, чаю попьем, а?
– Я лучше тут посижу. Хорошо, тихо... И шторы ты, дочка, кстати повесила. Заслонился от всего и сидишь тут как в башне.
– Я в твоем кабинете в последнюю очередь похозяйничала. Отважилась: а вдруг приглянутся? Ничего, что бархатные? – Варины руки обвили шею отца.
– А что? Суконные что ли надо или марлевые?
– Не знаю. Владимир Маяковский против. Он вообще против быта. Против уюта всякого и мещанской привязанности к жилью. Мы с этим бархатом, да с мраморным Бетховеном вроде клопов, засевших в щелях.
– Глупости говорил ваш "горлан". Это – раз. Да и нет его больше – это два. Многих нет и много, чего нет. Это – три... Если задуматься хорошенько, может тут собака и зарыта.
– Ой, не выношу твои мрачности! – чмокнув отца в щеку, Варя выпорхнула в коридор, оставив весенний аромат жасмина и пульсирующие нарывом сомнения.
Николай Игнатьевич приставил к глазу трубку, повернул. Тихо зашуршали внутри цветные стекляшки. По радио звучали ликующие голоса: "Предновогодний рапорт продолжают работники искусства. Говорит председатель МОССОЛИТа товарищ Берлиоз:
– Все мы помним слова великого Сталина, о том, что надо уметь распознать и победить врага. Благодаря бдительности наших коммунистических писателей Союзу литераторов удалось выявить в своих рядах около двух десятков врагов народа и их подголосков..."
Засопев, Жостов выключил радио, отложил калейдоскоп, достал из потайного шкафчика бутылку, быстро опорожнил полстакана коньяка и закурил папиросу.
– Что, дрожат у бывшего комиссара поджилки? – раздался рядом ехидный голос. – Мало ты врагов народа своей рукой в расход пустил? А теперь расквасился, дал себя скрутить вражеской пропаганде.
– Да пошел ты!... – сквозь зубы прошипел Жостов. Он догадался еще летом, что страдает раздвоением личности. Но к врачам обращаться не торопился – уж больно опасные разговоры затевал его навязчивый собеседник. Мало того, появились и зрительные галлюцинации. Частенько Жостову виделся в сумеречных раздумьях мерзейший бес со свиной наглой харей. Он нашептывал пакости, чесался и даже похрюкивал, словно боров.
Обострилось заболевание тринадцатого июля, когда на заседании Совнаркома Жостов проголосовал за снос Храма. Возникло это решение спонтанно, для самого Николая Игнатьевича неожиданно. Еще утром в результате мучительной борьбы с самим собой Жостов сделал твердые выводы разрушению Храма противостоять. С таким настроем на заседание и явился. И вот стали выступать ответственные товарищи, приводить весомые аргументы. Было сказано, что место под строительство Дворца Советов определил сам товарищ Сталин после обстоятельной беседы со специалистами. А когда присутствующие начали подниматься руки и ведущий собрание вопросительно уставился на сидевшего с непроницаемой миной Жостова, кто-то шепнул ему проникновенно и веско: "Товарищ Сталин так решил! Товарищ Сталин никогда не ошибается. Если начнешь сомневаться в этом – ты враг. А все, что до этого делал – ошибка". Гаденький, гаденький был голос! Рука Жостова поднялась словно против его воли, и тут же стало тяжело и мерзко в груди. Тошно, больно, словно втиснулся прямо под ребра когтистый чертяка. Сунув под язык валидол и хватая ртом воздух, Николай Игнатьевич вышел из зала.
Загрудинные спазмы стали повторяться все чаще, врачи склонились к диагнозу – грудная жаба, хотя и заявили, что заболевание протекает не типично. Никогда не отдыхавший Жестов совету подлечиться в кавказском санатории обрадовался и поспешил отбыть туда в самый неподходящий сезон – в конце ноября. Струсил, не хотел он видеть, как будут взрывать Храм. На Кавказе вроде полегчало, но стоило вернуться домой и увидеть из окна руины, как начались приступы с явным раздвоением личности. Жестов и не заметил сам, что взглянув на развалины, трижды перекрестился – ведь был он рожден и выращен в православной семье. При этом грудь разорвала острая боль, показалось, что рядом шмыгнул и забился под диван то ли козел, то ли худой боров. Николай Игнатьевич прибег к испытанному средству, приняв не медля полстакана коньяка и завел с боровом противную беседу.
Да, не ошибся Всемерзейший, предсказав Гнусарию Жостову тяжелую участь. Хоть и удалось Мелкому бесу сломить сопротивление подопечного, чуть не собственными копытами поднимая его руку при голосовании, удалось в результате этой победы разместиться в его утробе и обрести статус Гнусария, а полюбовное проживание не складывалось! Вместо того, чтобы покатиться по намеченной наклонной дорожке в сторону общегосударственного сатанизма, бывший комиссар затеял форменную внутреннюю войну. Гнусарию никак не удавалось укрепить свои позиции и приходилось даже временами обосабливаться, поскольку была опасность попасть под влияние Жостова.
Сцена на мосту с Архитектором произвела на Гнусария самое мрачное впечатление. Он едва дотянул до кабинета в клокотавшей праведным гневом груди Жостова, обособился и шмыгнул под диван. Тяжкая была обстановка в этой комнате, да еще появились в алюминиевой трубе стекляшки из Храма предметы для беса крайне вредные. От них спазмы кишки так и закручивают, вся шерсть дыбом встает. А бороться надо.
– Так, выходит, ты Вождю народов, самому товарищу Сталину не веришь? прошипел вконец озлобившийся Гнусарий провокационный вопрос и с удовольствием наблюдал, как исказила растерянность мужественные черты Жестова.
– Его могли использовать в своих целях враги государства... – без обычной уверенности заявил Николай Игнатьевич.
– Могли. Но не Сталина. Иосиф Виссарионович – мудрый и добрый человек. Понял – Добрый человек! Ему приходится быть жестоким, что бы в борьбе с чуждыми элементами построить новое общество – общество всеобщего счастья. А это и есть высшее Добро. – Воспользовавшись замешательством Жостова, Гнусарий выбрался из-под дивана и спрятался за спинку хозяйского кресла. Ты ведь знаешь, как любит советский народ своего вождя. Миллионы отдадут за него свою жизнь не колеблясь.
– И я отдам, – Жостов прикрыл ладонью глаза. – Сталин – добрый человек.
– А теперь, будь любезен, сунь эту алюминиевую трубку в ящик стола и сделай выдох. Потеснись, комиссар, – Гнусарий превратился в тяжелое черное облачко и это облачно вместе с дымом папиросы вдохнул Николай Игнатьевич."
Глава 32
Новый год для россиянина – что пиршественный стол для бедолаги, страдающего тяжкими хроническими заболеваниями. Заболевания, тихо тлеющие при скудном рационе диет и прочих ограничений, разгораются в полную мощь на просторе праздничной вседозволенности. Обостряется все, что затаилось, болит все, что еще может болеть. Но тяжелее всего приходится голове. Мозг попеременно затопляют волны эйфории и депрессивного психоза.
Но вот остается позади незримый порог, время переваливает через опасную черту, а вместе с ним и страна. Вскоре оказывается, что пациент скорее жив, чем мертв, что глава государства не подал в отставку, не загремел в ЦКБ, как ожидалось, а благополучно отметил праздник в кругу семьи и подмосковной природы.
Эта новогодняя ночь прошла не столь гладко. В Москве оказалось не мало людей, ставших причиной странных происшествий.
Отправившаяся на прогулку троица устроилась на черепичном коньке своего флигелька. Шарль был все в том же парчовом пиджаке, кривоногий Амарелло в своем мундире и белых лосинах, Батон – в шерстяном обличие кота. Как явились из дома на крышу, так и сидели. Но никто из троицы не зяб на зимнем ветру. Снег облетал их стороной, словно скользя по невидимому куполу.
Дворик и переулки были белы, чисты и пустынны. Весело глядели в ночь окна цековской башни. Там сквозь шторы мелькали экраны телевизоров и светились разноцветные огни елок – устраивали свой маленький праздник заключенные в коробках квартир люди. При желании стены становились прозрачными, дома превращались в пестрые пчелиные ульи из которых выплывал, увеличиваясь в масштабе, отдельный интересующий объект. Причем, не зависимо от того, на каком расстоянии от крыши флигелька он находился – хоть в Карибском бассейне.
Задумав поразвлечься, роландовская свита наметила адреса знакомых по текущей прессе лиц. Этими лицами, что вполне понятно, оказались лица государственные, примелькавшиеся, праздновавшие Новый год в загородных резиденциях. Одни – в одних, другие – в других, третьи – в третьих. Показатели комфортности проживания госдеятелей и личные симпатии членов свиты зачастую оказывались обманчивыми. Не все жили согласно доходам, а доходы – явные и скрытые – далеко не всегда соответствовали занимаемой должности и популярности лидера.
Смешливого Батона больше всего тянуло к энергичному политику, бодро выкрикивающему лозунги, в том числе малопонятные и мало приличные в кругу супруги и печального сына.
– Душить их надо, душить! Однозначно! Все отобрать и поделить! Поровну среди своих. Никаких привилегий чужим, блин! – размышлял он вслух, откушивая иноземные деликатесы.
– Котов душить призывает! – взволновался Батон, наблюдавший за жилищем кудрявого.
– Он сумасшедший. У меня есть справка, – заступился Шарль и действительно предъявил бланк с печатями и штемпелями, на котором выделялось непонятное определение "вялотекущая паранойя".
– Я хочу к президенту. Люблю президентов, – канючил Амарелло сверкая праздничным люминисцентным бельмом.
– Э-э... старик. Экселенц сказал – без глупостей. Кеннеди – это не умно. И Линкольн тоже. Постреляют тут без тебя. – У Шарля все еще, несмотря на починенное пенсне, было гнусное настроение.
– Если к президенту нельзя, хочу к бородавчатому. И к рябому, упортвовал Амарелло.
– Зациклился на политике, – присвистнул кот, отчего снег полетел с веток ясеней и во дворике образовалась метель. – Давайте так: всем раздадим поровну, как советовал кудрявый. Да и лысый, что в Мавзолее отдыхает. Но только по списку. Провернем все быстренько и пройдемся по бабам.
– А и правда, хрен с ними, с политиками, – махнул рукой Шарль. – Кого они здесь колышет?
– Голосуем за блиц-программу "шестьсот секунд". Все за, – шустро свернул прения Батон. – Внимание – пуск!
Тут же в разных концах Москвы и даже в пригороде, в жилищах, оборудованных драгоценной импортной вечной сантехникой, заурчало в трубах и донеслась к праздничному столу невообразимая даже для привокзального российского сортира вонь.
– Глянь, откуда тянет, – прервал кудрявый свои парламентские речи прямым обращение к жене. – Всех надо сажать. В вагоны и на Колыму! Пусть параши чистят, демократы гребаные.
– Вова! – взвизгнула в туалете женщина и, изменившись лицом, выскочила в коридор. Вслед за ней по дубовому паркету двигалась вулканическая масса фекалийного содержания.
Вызванная пострадавшими "Техпомощь" явилась не быстро.
– Ну что, засрались? – недовольно потянул носом прямо с порога специалист с кольцами толстой проволоки на плече. Лицо у него было открытое, мужественное, русское, как на плакатах, зовущих молодежь в Сибирь. И сам он был решительный, крепкий – из тех, кому по расчетам кудрявого, предстояло осуществлять его программу в действии.
– Тросов на вас не напасешься. По будням – на службе, в праздники дома. И все за свое – по уши в дерьме.
Шмякая сапогами в зловонной жиже, хмурый пролетарий двинулся к месту аварии. Оттуда донеслось гневное:
– Чего документы в сортир ложите? Во, говнюки! – показал он напарнику ком извлеченных из унитаза бланков с цветными портретами кудрявого.
– Заткни хайло! Я – представитель власти! – не щадя красного пиджака налетел с кулаками на испачкавшегося специалиста политик.
– Тем более. Пошел на хер, убийца, – с необоснованной яростью парировал рабочий, пренебрегая дракой. Широко размахивая своей проволокой, он со знанием дела шуровал ею в унитазе. Итальянский кафель, германские полотенца, зеркала и флакончики знаменитых во всем мире фирм щедро покрывались знаками справедливого возмездия.
Аналогичные инциденты произошли и у политических оппонентов кудрявого, о чем он не знал. Каждый полагал, что неприятности коснулись лишь его одного во время мирных возлияний, смакования домашнего пирога со стерлядью, умной беседы или десерта с интимом.
Среди затопленцев фекалийными массами даже оказался один, павший смерть храбрых при исполнении священного долга. Лидер партии Патриотических сил, будучи утомлен традиционным славянским ритуалом возлияний, почуял неладное не сразу и долго еще декламировал с нарастающим вдохновением "там русский дух, там Русью пахнет!", сидя в одиночестве под алыми стягами с паукообразной символикой. Когда лидер, роняя со стола посуду, нетвердо поднялся, что бы отсалютовать взметенной рукой портретам Сталина и Берии, его ботинки зашмякали в ползущей из коридора жиже. Страшное нашествие инородных сил, спровоцированное врагами отечества, стремилось опоганить святыни! Сорвав со стены атаманскую шашку, Каркашов бросился на врага и крушил все вокруг, выкрикивая под свист клинка: "Жидовская харя, армянская харя, чучмекское рыло, говнилы демократии!" Здесь, как выяснилось позже при вскрытии тела и судебном разбирательстве, воин поперхнулся отрыжкой, закашлялся, запутался в павших знаменах и свалился ничком в канализационные безобразия, где и был найден утром товарищами по оружию в бездыханным состоянии.
– Им это дерьмо еще долго разгребать придется, – отмахнулся Амарелло. – А нам то что с этого? Скучно.
Пауза затянулась. Сидели, скучая, вертя головами и разглядывая окружающие дома. Инициативу вновь проявил Батон.
– А как же с мафией? Я готовился! Я читал про мафию. Я ее даже видел!
– Ага. Пальцева и его гостей. Шелупонь, – невесело хмыкнул Шарль.
– Во, во! Пальнем по этим! Противные, – поддержал Кота Амарелло.
– У меня есть списки. Состав большой, подарчной массы не хватит. Московские коллекторы опорожнены на политиков... Надо запросить помощь в Европе. – Задумался Батон.
– Ё-моё! – Шарль схватился за голову. – Ну и праздничек... Вон в шестнадцатиэтажке распахнули окна и мечутся. Видать – из нашей клиентуры.
– Пахнет вонью, – лирически улыбнулся Амарелло. – Может пострелять тех, кто будет разбегаться?
– Узколобый примитивизм, – отрубил Шарль.
– Если мы будем спорить, то не уложимся в праздничную ночь. Как самый молодой и энергичный, как подлинный секс-символ группы, беру ответственность на себя. Три утра, господа! Я предлагаю вот что...– Батон хитро прищурился, прокручивая в остроухой голове новогодний сюрприз. Его соображения уловили и одобрили.
– Выпускай! – скомандовал Амарелло. Шарль молча кивнул.
С выполнением задумки Батона произошли накладки. Он не учел временных поясов и то, что российские мафиози предпочитают новогодничать в теплых краях.
В результате мирно завтракавший на террасе у моря человек – весь в белом, хлопковом, мнущемся, шуганул газетой неведомо откуда взявшегося в этих местах ворона. Но тот не улетел, а уселся на верчено-золоченую спинку кресла.
– Умная птичка, – просюсюкала завтракавшая с господином юная леди, ненавязчиво перетянутая кое-где по загорелому телу яркими жгутиками. И кинула птице кусочек омлета с рыжиками. – Смотри, Сева, грибов не ест, блин.
Сева Бароновский, известный в деловых кругах под кличкой Барон, поморщился – он не любил птиц. Не любил животных, людей, завтракавшую с ним красотку. Ее он хотел. Но слабо, для антуража. Зато очень сильно и по-настоящему хотел денег. Чем дальше – тем больше. Чем больше, тем свирепей. Деньги вдохновляли и составляли смысл. Ради них, не замечая ни синего моря, ни искательно прилипчивого солнца, ни дня, ни ночи, вертелся Барон, как наскипидаренный. Убрать, подставить, крутануть, хапнуть. Еще, еще, еще... Богатство не привилегия и не блажь – это судьба.
Ворон повел рубиновым глазом, уставился на господина в белом и отчетливо произнес:
– Сдохнешь, Сева. Как собака под забором. Такая ж трагедия, мамочка моя!... – птица взлетела, оставив на столе между вазочкой с орхидеями и кофейной чашкой музейного фарфора вырезку из газеты, где рядом с рекламой колготок Сан-Пеллегрино в разделе криминальной хроники сухо сообщалось о расстреле и зверском сожжении в собственной машине известного российского бизнесмена Бароновского. Указывалось имя, кличка и сфера деятельности. На фотографии был изображен Сева, снятый с бокалом на каком-то фуршете, а рядом запечатлено место происшествия, действительно, у невзрачного фабричного забора. Сбоку красным фломастером была проставлена дата. Барон пригляделся – не фломастер использовал писавший – свежую кровь. Тонко пискнув, он повалился на бок, потянув на себя скатерть. Кофе залил белую тенниску, украшенную всемирно знаменитым фирменным знаком...
...Десятки черных птиц, блестя гробовым оперением, накаркали в эту ночь скорую кончину не одному из бодрых хозяев жизни, предполагавших обитать на этой земле в том же статусе вечно. Увы, срок истекал. Сообщение мало кого радовало. Иногда вызывало лишь легкое замешательство, порой повергало в трепет и даже приводило к летальному исходу. Особенно не повезло тем, кто по странному стечению обстоятельств получил новогодние "подарки" от шутников по двум направлениям – и как госдеятели, и как мафиози. Им, сражающимся с канализационными лавами подобно жителям печально известной Помпеи, пришлось еще отбиваться от нападок воронья, кружившего над бедствием со своими не своевременными сообщениями.
– Ну, все! Спите спокойно, дорогие москвичи, – Батон отряхнул лапы, испачканные почему-то птичьим пометом. – Это ж не прогулка у нас вышла трудовая вахта какая-то. Всю ночь их дерьмо разгребали. Где звонкое веселье, где безудержная вакханалия чувств?
– Позвольте мне занять внимание на пару минут. Короткий репортаж вести с культурных полей, – деликатно предложил Шарль. Повинуясь его жесту, в ограждавшем свиту куполе открылось окно. Прямо в приемный покой клиники Склифософского. Дежурная бригада отделения экстренной помощи приняла нового пациента. Его принесли на носилках безмолвно-безденежные санитары и перевалили на операционный стол. Присмотревшись, хирург в марлевой повязке сказал: "Будем резать..."
После банкета в "Музе" Бася Мунро вернулся в хорошенькую, с прибамбасами бордельной роскоши, квартирку. И обнаружил, принимая ванну, что подаренные иностранцем серьги не снимаются. К утру уши покраснели, распухли, а серые жемчужины превратились в багровые нарывы. Предстояло, однако, новогоднее выступление в клубе "Феллини" за вполне основательные бабки. Бася решился на трудовой подвиг. Прикрыв нарывы клипсами в виде бабочек и не пожалев макияжа для освежения изможденного бессонницей лица, актер исполнил свой номер с неподдельным трагическим вдохновением. Изящно раскланялся перед бушевавшей публикой и уже в гримерке рухнул на диван, сжимая ладонями пульсирующие нарывы. Друг и аккомпаниатор Баси по прозвищу Везувий, увез стонущую супер-звезду в Склиф, где ей (звезде) и была оказана необходимая хирургическая помощь.
С забинтованной на манер "Чебурашка" головой, – на каждом ухе лежали пропитанные мазью Вишневского личные Басины памперсы ( марлевых салфеток в клинике почему-то не оказалось), певец королевства любви лежал в пятнадцатиместной палате, среди представителей мужского пола, получивших различные лицевые повреждения светлой новогодней ночью. Не до конца протрезвевший контингент в изысканных выражениях делился впечатлениями о случившемся. Бася старался не слушать, сосредоточиться на высоком, несуетном. Он почувствовал, что уже далеко не так молод и свеж, как хотелось бы и что перья и корсажы чем-то не соответствуют возросшей в результате пережитого потрясения эстетической требовательности. Он был готов переосмыслить свою творческую позицию и сменить художественное кредо. На гребне нового миропонимания пришла к Басе задумка новой программы под названием "Дитя пророка", где не будет ни стразов, ни ажурных колготок, а лишь голый эстетизм и глубина философии особой ориентации.
– Коварный ты, Шарль, – промурлыкал Батон. – Такую любовь опошлил!
Помолчали и решили заглянуть к Белле, известной в департаменте невозвращенке по имени Зелла.
Белле и без шуток бывших коллег приходилось не сладко. Невзгоды подкосили ее. Вначале все шло гладко и весело. Лина оказалась настолько противной, что ее заморозку можно было считать акцией по очистке окружающей среды. Накачивать спиртным ее не пришлось. Надралась до состояния риз по собственной инициативе и здорово поддала голожопой певичке – очевидно, по ошибочной наводке иностранца. Кроме того, бесчувственная Лина в процессе стаскивания ее по лестнице, умудрилась сильно укусить супруга за щиколотку. Что вдохновило Берта на решительные действия. Он лично упаковал свою лапушку в морозильную камеру и выставил терморегулятор на предельный холод. Но чертовке не пришлось насладиться завершением дела. Когда в дверях кладовой появилась Мара, ее сразило видение. Увидела она пустынный берег реки и человека в одеяниях палача. Рядом стояли четверо спешившихся всадников, в ботфортах и шляпах с перьями. Один из них – граф де ла Фер говорил тяжело и сумрачно. После чего кивнул палачу и увел друзей. А палач из Лилля поднял над головой меч... Пленница рванулась, что есть сил стараясь освободиться от пут, но не успела. Лезвие обрушилось с тяжелым свистом. Покатилась в траву белокурая отсеченная голова...
...Инцидент с Линой благополучно разрешился благодаря вмешательству Шарля. Но госпожа Левичек стала задумчивой и неприятной в общении. Альберт по телефону говорил задушенным голосом, очевидно, боялся лежавшей дома супруги. Мара вообще, помолчав, опустила трубку, в результате чего восхитительная Изабелла Левичек осталась новогодней ночью один на один с бутылкой водки "Абсолют".
В Лейпциг ей звонить не хотелось, дочь и бывший муж казались совершенно чужими людьми, а всякие, вполне достойные кандидаты на интим, вызывали омерзение. Белла не сомневалась, что среди них снова появиться тот, кто разыскал лилльского палача. И предпочла одиночество.
– Эк ее разобрало... – покачал головой Амарелло, огорченный состоянием Беллы. – Экселенц прав, пусть еще с населением поработает. На кухне я как-нибудь справлюсь. Господину Пальцеву, поди, не легче сейчас приходится. Га-га-га! – оживился клыкастый. – Ну и праздничек у них вышел!
Альберту Владленовичу, и правда, веселиться было не с чего. Что-то вмешалось в его планы, что-то необъяснимое. Изабеллу словно подменили. Куда подевалась восхитительная чертовка, обожавшая рискованную игру, презиравшая опасность? Это она изобрела рискованный способ расправы с Линой под носом у веселящихся гостей и пронырливой обслуги. Утверждала, что ликвидация соперницы в бытовых условиях – акция унизительная для всех участников и, прежде всего, для жертвы. Финалу предстояло прозвучать мощно и значительно. Утром нового года они должны были извлечь заледеневший труп и увезти в лес для произведения церемонии величественного захоронения.
И вот теперь неудачливый убийца сидит у кровати простуженной жены ничего, к счастью, не помнящей о происшествии и принявшей версию Шарля. Напоив супругу снотворным, Альберт закрылся в кабинете и достал коньяк. Он имел право расслабиться хотя бы под утро, ведь наступил не какой-нибудь, а судьбоносный для России и лично для него год.
После нескольких рюмок Пальцеву отчетливо представилось, как устроится жизнь страны под мудрым руководством нового Главы государства. Естественно, никаких "концепций развития", программ, экономических экспериментов больше не будет. Лишь жесткая рука абсолютной власти способна в короткий срок поднять политический и экономический статус страны. Что для этого надо? Послушание и единомыслие. Нужна масса, объединенная общей целью и страхом.








