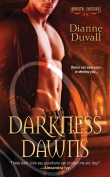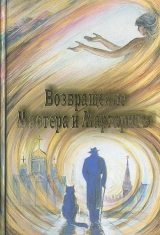
Текст книги "Возвращение мастера и Маргариты"
Автор книги: Мила Бояджиева
Жанр:
Прочие любовные романы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 35 страниц)
На территорию, объятую классовой бойней, присылали все новые и новые десанты Мелких бесов. В богооставленной стране самое время разгуляться! С лицами крупными работали опытные профессионалы, к персонам помельче прикреплялся способный молодняк.
Гнус подавал надежды еще будучи слушателем старшей Бесовской школы, написав научный труд "О принципах работы с вольномыслящей интеллигенцией (На примере деятельности демократов-разночинцев)". В восемнадцатом, попав по распределению в Россию, он сделал правильный выбор, прикрепившись к комиссару Жостову. Ясно было, что идет отрекшийся от Бога красный комиссар прямым путем в Гнусовы объятия. Но атеист – позиция пограничная, нейтральная, с нее еще надо уметь увести в нужном направлении. В эти дни многие клиенты сами прямо в руки шли. Среди комиссаров таких было не мало. Только не из той породы оказался Жостов. Пронеслась война, промелькнули смутные годы, а Николай Игнатьевич Жостов беса к себе так и не пустил. Потому что, если в человеке есть совесть, если вдохновлен он доброделанием, если сохранились в нем порывы жертвенности и милосердия, то труден для беса доступ к его душе. Ищи тогда лазейку обходным путем, действуй через завись, гордыню, тщеславие, дави на прелюбодеяния и прочие смертные грехи, среди которым, между прочим, значатся и лень, и сребролюбие и гордыня и уныние. Но даже таковых слабостей не было в Жостове. И вместо того, что бы расположиться в командирской душе с хозяйским комфортом, обитал Гнус обособленно, в самом низкосортном статусе.
Ростом с большую собаку, по виду – исхудавшая свинья. Шерсть черная козлиная, вонючая, от сырости преющая, клочьями торчит. Хвост голый с махром на конце все время приходится к брюху поджимать, что бы мальчишки камнями не закидали. Рогов-то и копыт в темноте не очень заметно, как и свиного черного рыла. Посему выходить Гнусу из подвала в доме Жостова приходилось только под покровом ночи. Ночные прогулки подшефного опасений не вызывали – Храм разрушен, попран и святого одухотворения на атеиста навеять не может. Зато уж какая польза, если забредет лысый к стройке социализма! Большая в ней сатанинская сила кроется. Вроде, высокими идеями горят товарищи, для народного блага радеют, а катятся прямиком в гнусовские сети. Здесь для непреклонного доброхота Жостова имелся самый верный капкан. Да и в других направлениях обрисовывались некие приятные перспективы преуспевшие старшие товарищи обещали помочь Гнусу. У них там на самом верху затевалась широкомасштабная операция. Намекали, может что и Гнусу обломится, если он сильно постарается делу помочь. А говорили-то как! Сторонясь, поглядывая косо и нос затыкая, мол, смердит от тебя, шелудивый. Каково пресмыкаться и содействия выпрашивать, когда сопляки моложе тебя уже на самом верху сидят? Кремль вон рядом. Бесы там кишмя кишат и даже некоторые, кто не в пример Гнусу, без всяких способностей обучались и надежд в продвижении не подавали, уже в чине Старшего Гнусария ходят шерсть так и блестит, волосок к волоску. А копыта черной ваксой до рояльного глянца нашвабрены!
– Эхма! Ну прямо заклинило!– поскуливал Гнус, клацая зубами блох и принюхиваясь к следам Жостова. – Давно уже он моими словами про светлое будущее и свободный народ изъясняется. А подлости не делает, костлявая сволочь. Вот заполоню я тебя и раскормлю до двухсот кило – тогда ночами зря по улицам шастать не станешь. А уж это, будьте уверены, скоренько случится. На правительственном-то пайке да при полном отсутствии совести наступает, как показывает эмпирика, окончательное торжество эгоистического жизнелюбия и животных страстей! А значит, харч по самые рога и теплое гнездышко. Только бы главное дело выгорело...
Плутая темными дворами и мечтая о скорых позитивных сдвигах, Гнус плелся к ненавистному подвалу. Впереди размашисто и твердо шагал Жостов руки в карманах пальто не прячет, воротник не поднимает и даже шарфа не носит – так и прет под мартовским дождем, подставив пронзительному ветру свою храбрую командирскую грудь.
Глава 5
...Федул Степанович отложил листы, нахмурился. Прав Альберт – не спроста подсунул им камзольный господин сии вирши. Издалека решил подступиться, намеками – на страх давить, а может, на совесть...Вот уж напрасная игра, хлопотная. Федул задумчиво обошел апартаменты, заглянул в спальню с пышной, манящей плотскими усладами кроватью, изучил содержание холодильника, состоящее из богатого ассортимента фирменных бутылок, но ничего крепкого пить не стал. Открыл какое-то "Шато", посмотрел бокал на свет и решил, что пользоваться текущим мгновением жизнь его выучила. Не напрягать извилины глобальными проблемами и не обременять нутро нравственными терзаниями. А если и пригрелся внутри потрохов какой-нибудь Гнусик, озабоченный блокировкой чувствительных зон федуловой души, то ему за такие старания глубочайшая благодарность...
– За персонального Гнусария! – провозгласил Федул над бокалом "Шато", теша себя мыслью, что стал добычей крупного бесовского чина. Продегустировав напиток и отметив, что все французские заморочки с винами игра для простаков, духовное лицо продолжило чтение.
"...Прибывший в СССР бесовский десант укреплял свои позиции среди населения. Способы воздействия на объекты и обработки сознания достигли небывалой изощренности – приходилось работать с мыслящими слоями просвещенной интеллигенции и, что особенно увлекательно, с людьми талантливыми, наделенными Светлым даром.
Как подступиться к такому благодетелю человечества? Да самым прямым образом. Расклад-то простой: тому, кто предается мечтам бурно и целеустремленно, необходимо претворять их в жизнь. И способен такой доброхот ради своего дела отречься от многого: от чуткой совести, от сомнений щепетильного разума, от бессмертной души.
Ощущая мощь и силу дара, мечтатель воспаряет столь высоко, что говорит себе: "А ведь совсем не трудно быть Богом, сукин ты сын! Во всяком случае мне". При этом воспаривший в гордыне не осознает, что беседует не с собственным просветленным Великой идеей разумом, а с Гнусарием, засевшим глубоко и прочно.
Мелкий бес прицепился к Архитектору на поприще тонких чувств и любви к прекрасному еще в Италии, куда прибыл юноша из Одессы для освоения местной школы зодчества. Изнеженный был бесенок, глумливый и легкомысленный, взращенный под южным солнцем. Присоседился он к веселому одесситу, ходившему среди древних развалин с альбомами и карандашами и стал нашептывать гнусности, да так удачно совмещал их с собственными соображениями художника, что тот, рисуя храмы Божии, воспылал неукротимым вольномыслием и даже вступил в ряды Итальянской Компартии. Вернулся на родину в 1924, партийность не медля переменил на отечественную и бурно взялся за архитектурное обустройство нового социалистического общества. Да с каким неистовым жаром человеколюбия! Отправился юноша в дальнюю область, что бы выстроить там дома для шахтеров, и не какие-нибудь, а непременно с ванной, двусторонним проветриванием, обширным холлом и итальянскими окнами. Взгрустнул бесенок от такого поворота дел, пустился во все тяжкие, связался с шабашниками, рыскавшими по разгромленным церквушкам, подсоблял им в свободное от работы с Архитектором время. Но здесь вызвали его подопечного в столицу и стали поручать ответственные стройки. Очень быстро дело дошло до проектирования на берегу Москвы-реки небывалого по размаху архитектурной мысли жилищного комплекса. Вот здесь и разгулялся итальянский Гнус! Какие пошли знакомства, какие планы завертелись! Уже не он, а сам Архитектор, опираясь на заложенное Гнусом учение о торжестве коммунизма, приходил к замечательным, выдающимся по размаху нелепости идеям.
В то время, как на набережной кипела работа по возведению жилого комплекса, создатель его – Великий Архитектор – грезил над новым проектом. Энергичный человек тридцати девяти лет, опыта и образования недюжинного, знал способ преобразования творческого кипения не в гудок, не в трескучие фантасмагорические лозунги, которыми были богаты те годы, а в реальное дело. Его паровоз летел вперед к главному месту назначения – Коммуне. А сердцем коммунистического общества, его центральной Трибуной, алтарем мыслей и чаяний должен был стать Дворец Советов – самый монументальнейший из монументальных, самый значительный из значительных Памятников Великой Эпохи. Здесь каждое слово следует писать с большой буквы, а после каждой точки кричать "Ура!". Так оно и происходило, отчего шум вокруг Дворца стоял огромный.
Архитектор не был утопистом, но он предусмотрел и комплекс зданий, обрамляющий площадь для митингов, шествий, манифестаций, с трибунами для правительства, а так же с мачтами для аэропланов. Залы внутри оснастил новейшими техническими достижениями – аппаратами для кондиционирования воздуха, системой трансформации площадок в водный бассейн или ледяной каток, вмещающий до двух тысяч исполнителей. Рассчитал досконально со всех сторон устройство гигантских амфитеатров с трюмами, системой накатных вращающихся площадок, которые выдвигались на уровень зала мощными гидравлическими прессами. Как кипела мысль, как колотилось сердце и захватывало дух от собственной беспримерной смелости!
Пылая огнем самосожжения на алтаре великого дела, он привык к адскому жару в груди и к беспокойному бесенку, пристраивавшемуся непременно под боком. Чернявый поросенок с копытцами и рожками, каких рисуют в окнах РОСТа, бичуя религиозные предрассудки, не оставлял Архитектора. Забавная мелюзга, но как разбирается в тонкостях дела, как умеет ценить мастерство, новаторство, размах! Какие смелые советы дает, а порой даже хватается за карандаш, меняя размеры сооружения, придавая масштабы помыслам. Взял, например, и пририсовал лишний ноль к размерам статуи вождя мирового пролетариата, венчавшей Дворец Советов. Было десять метров, а стало сто! Чертовски верная поправка!
Архитекторского Гнуса за консультации в проектировании Дворца наградили и посоветовали действовать активнее. Генеральские погоны маячили в досягаемой перспективе. Ох, не напрасно сопровождал Гнус Архитектора в его поздних прогулках по набережной, не напрасно кружил с ним возле Храма и нашептывал смелые идеи. Архитектор имел привычку выгуливать собаку Дусю и даже не замечал, что делает это в сопровождении шустрого компаньона с полированными копытцами.
Одна из прогулок оказалась чрезвычайно благоприятной для замысла итальянского Гнуса. Был пригожий осенний вечер – в окнах сверкало заходящее солнце, золотились маковки соборов, столичная публика в пестроте сентябрьских скверов выглядела живописно. Архитектор ходил по улицам, окидывая городской ландшафт хозяйским взором, и мечтал. Утомившись, сел на одну из скамеек, стоявших вдоль набережной, закурил, задумчиво глядя на опустевший разграбленный Храм. И представилось ему, что не витой крест поднимается над столицей СССР, а могучая золотая статуя.
– А ведь занимает эта бесполезная, вредная даже громадина самое выгодное в идеологическом и архитектурном смысле местоположение... Фантастически удачное местоположение... К чертям намозолившую глаза храмину! Здесь и только здесь должен стоять Дворец победившего пролетариата! – воскликнули Архитектор и Гнус в один голос. Именно в этот момент случилось удивительное, не зафиксированное антропологами явление человек и черт слились в единое целое. Упал в Москву-реку метеорит и зашипел в воде, едва не запалив искрами кусты на Стрелке.
Отец Георгий, напуганный страшным видением – огненным кипением волн в тихой реке, прошлепал босиком к распятию и рухнул на колени, неистово крестясь.
Вскоре ему подбросили открытку с изображением Храма и надписью: "Храм является памятником религиозного фанатизма, на постройку которого царское правительство израсходовало 50 миллионов рублей народных денег..." А прямо по картинке размахнули гневно: "Стереть язву постыдного прошлого с лица народной земли!"
Писала, вроде, рука народа в порыве стихийного вдохновения. Да что он может, народ, без идейного руководства? А какое идейное руководство в СССР без гнусариевского участия? Сколько труда, изобретательности, веры в свое дело, потребовала начатая операция от сотрудников Бесовского департамента!
Инициатива, как полагается, вспыхнула в массах – завопили подначенные молодыми чертяками простые труженики о тлетворном влиянии недобитого религиозного культа. Вслед за тем занялись вокруг Храма серьезные споры. Развернулась в печати обстоятельная полемика профессионалов относительно исторической ценности и художественных достоинств ненужного новой Москве строения. Голоса защитников Храма звучали невнятно, заглушенные пылкими речами оппонентов.
Организовал полемику на высоком уровне главный идеолог перестройки столицы Лазарь Каганович. Это он, не моргнув черным глазом, заявил на всю страну, что город строил "пьяный архитектор и что надо его исправлять". Для чего в первую очередь надлежит очистить столицу от так называемых "исторических памятников". Не трудно догадаться, что руководил Лазарем Почетный Гнусарий, сумевший в связке с правительственным чином поднять бесовщину на высокий государственный уровень.
Медленно катила по Москве, сверкая черным лаком, заграничная машина "линкольн" с откидным верхом. В ней удобно размещался оживленный человек лет тридцати семи с рано облысевшим массивным черепом и черными усиками под хищным носом. Страдал он, по-видимому, неимоверно от всяческих проявлений буржуазной эстетики – колонн, портиков, кареотид, витражей, куполов, украшательской мозаики и лепнины, потому что выражение на лице нес воинственное и брезгливое, когда указывал тросточкой то на одно, то на другое не пролетарское строение, особняк или церковь. Находившаяся рядом секретарша с подвитой челкой тотчас же ставила в реестровой книге против номера указанного строения крестик. Так в результате "чистки Москвы" подверглись уничтожению две тысячи двести памятников архитектуры, а Москва была вычеркнута из списка десяти красивейших городов мира. Не зря удостоился Гнусарий повышения в чине, а товарищ Коганович награды бесовского департамента – внесения в списки "Особо важных персон вечной подлости".
Когда Каганович провозгласил главной своей целью ликвидацию Кремля с очисткой прилегающих территорий от устаревших построек, включая ГУМ и собор Василия Блаженного, Почетного Гнусария представили к ордену "За выдающиеся заслуги в развитии сатанизма". Поощренный, он проявил недюжинный энтузиазм, подсказав товарищу Кагановичу, что к ликвидации Кремля надо идти через уничтожение Храма Христа Спасителя. Идею горячо поддержал Архитектор, убежденный в том, что именно этот вредный объект занимает одно из предполагаемых мест для возведения Дворца Советов. Снюхались Гнусарии компетентных товарищей и чрезвычайно споро провернули дело.
30 мая 1931 года состоялось совещание технического Совета Управления строительством Дворца. Рассматривался вопрос о нескольких площадках. Выбор колебался между Красной площадью, Китай-городом, Зарядьем, Охотным рядом, Таганкой и местом, занимаемым Храмом. Ознакомившись с протоколом заседания, Лазарь Каганович усмехнулся в усы – он хорошо знал, кто должен произнести последнее слово и не сомневался в его решении.
...Погожим солнечным днем в начале июня к Храму подъехали черные автомобили. Два человека в форме ОГПУ молча вошли в сторожку и встали у двери с брезгливой неприязнью глядя на трясущегося в лихорадке попа. Тот попытался подняться с заваленной тряпьем лежанки, но осел, сжимая распятье, тараща безумные глаза и бормоча что-то злое, невнятное.
– Ты, отец, не дергайся, – предупредил полный и румяный. – Шуметь тебе сейчас не следует.
– Нарушишь приказ – шлепну. – Коротко пообещал щуплый и желчный, показывая на кобуру.
Пока сторож, ухитрившись сползти с кровати, причитал и бил поклоны у образа, вокруг Храма происходило несуетливое, но четкое движение. Наряд охранников оградил площадку от нежелательного вмешательства со стороны населения, а затем уже вышли люди из автомобилей, кто в штатском, кто в мундирах. В темных двубортных костюмах был представлен под утренним солнышком Президиум Совета строительства Дворца во главе с товарищем Молотовым. Специалисты выглядели компетентно, светилось вдохновением лицо председателя Совета архитектора Бориса Михайловича Иофана. Того самого Архитектора, что уже все основательно продумал и рассчитал над своими листами в творческом слиянии с инициативным Гнусарием. Сейчас ему выпала честь представить место для стройки самому товарищу Сталину.
Июньское солнце пронизывало нежную листву старых лип, играло веселыми праздничными блестками на рябой волне, бегущей от шустрого колесного буксира. Колеса шумно взбивали пену, солидно тянулись за буксиром тяжелые баржи. На одной из них плясали присядью под гармонь бородатые мужики, взволнованные, очевидно, панорамой Кремля. В утреннем воздухе тянуло духом смоляных канатов и речной свежести.
Вождь отнесся к визиту со всей серьезностью. Обходя участок разговаривал со специалистами, задавал вопросы, приглядывался.
– Многих товарищей архитекторов пугает неправильная конфигурация участка и его сравнительно небольшие размеры. Есть и такие, которые в душе жалеют о Храме, хотя вряд ли могут защитить его архитектурные достоинства, – объяснил ситуацию вождю сообщник Гнусария, почти что его голосом – льстивым и уверенным одновременно.
Вождь глянул на членов президиума Совета и не обнаружил среди них желающих спорить по поводу конфигурации участка и защищать достоинства Храма.
– Размеры нас не должны смущать. Почему не расчистить вот эти улицы? Надеюсь, ничего ценного наши специалисты там не обнаружат. Мне так кажется, – товарищ Сталин хитро улыбнулся, отчего разбежались к уголкам глаз обаятельные морщинки. Специалисты одобрительно зашумели.
Через три дня участь Храма была окончательно решена. Отцу Георгию объяснили, что в связи с подготовкой к ликвидации строения, необходимость в его охране отпадает.
Последнюю свою ночь сторож провел на посту, но вместо того, чтобы обойти Храм, проститься с ним, сидел, поджав ноги, на убогой лежанке и бубнил лишь одно: "...И пойдет брат на брата и сын на отца. Храмы Божии порушат до основания. И настанут тогда последние времена..."
Иногда он умолкал, словно споткнувшись и с окончательной ясностью понимал, что болен. Болен давно и тяжко. Что лишь на мгновение просветлел помутившийся разум и скоро вновь погрузиться во тьму. Загремят, загогочут тогда сатанинские полчища, идущие осаждать Храм.
"Смерти, только смерти прошу, о Господи..." – шептал он не отирая слез. Они катились и катились, искрясь в бороденке, словно каменья в окладе .
Гость возник в дверях неслышно. Николай Игнатьевич – служащий. Узнать можно, хоть и сильно изменило его короткое время. Осанистей стал, матерей. Плащ солидный и шляпа, конечно же, прячут человека, но глаза утаить нельзя. А было в тех глазах одно сразу же подмеченное отцом Георгием отличие.
После мартовского визита появлялся в сторожке этот человек не один раз. И с сахаром и с водкой. Разным бывал: то весел и шумен, то тих и понур. Но всегда одно таилось на донышке его пристальных птичьих, близко к переносью посаженных глаз: тревога. Казалось отцу Георгию, что ищет у него гость что-то важное для себя, утерянное. Ждет ответа на терзающий и непонятный вопрос. Теперь появилось в глубоких глазах лихое отчаяние: понял уже Жостов и вопрос свой страшный и ответ на него знал.
– Что скажешь, Георгий Николаевич? Здороваться, значит, со мной не хочешь, – сняв шляпу гость сел, не дожидаясь приглашения от глядевшего в стену попа.
– Не стану тебе, нехристь, здоровия желать. Не заслужил.
– Ну и не надо, раз так. Скажи, правда ли, что когда здесь монастырь сносили, чтобы Храм строить, игуменья тамошняя место это прокляла? Ведь так оно и вышло...
– Трудности были, не беды. Сорок лет всем миром строили, великими молитвами по всей Руси. Но ведь подняли же! Стоять такому Храму вечно.
– Э-эх! Не научно мыслишь, любезный. Все в материальном мире тленно. А громадина твоя белокаменная хоть во славу Российскую, хоть во блажь царскую возведенная – явление материального мира. А следовательно смертна.
– Врешь! Прежде Дом твой рухнет. – Отец Георгий встал, борясь с головокружением и гордо поднял голову. Но не устоял, закрыв глаза опустился на топчан, проговорил: – Сексот ты или кто, а понял сразу, что не боюсь я тебя. И тех, кто с тобой – не боюсь. Я Храм защищаю, а он – меня. И Дом твой и тебя, заблудшего, тоже. Вы от Бога отреклись, а он вас потерянных спасти старается. Потому что Спаситель. Каждому соломинку протягивает – не губи, мол, себя, одумайся! – Поп закашлялся, на щеках выступили багровые пятна, задрожал подбородок, заблестела у губ слюна.
– Да ты, Георгий Николаевич, болен, – вздохнул гость, отводя в сторону свой странный взгляд. – Вот что – собирайся. За тобой я пришел.
– Собрался уже, весь тут. Только не тебя ждал.
– Успеется еще с жизнью проститься, – гость пошарил глазами вокруг, стянул с топчана полосатое ветхое одеяло, расстелил на полу. Положил в него молитвенник, Евангелие, глиняную кружку. – Не большого ты имущества человек. Вставай, машина ждет. Поедем в больницу. В хорошую, я все устроил. Тебе грудь лечить надо. Завтра за тобой другие люди придут. Могут увезти совсем в другое место, – Николай Игнатьевич стянул уголки пледа и поднял узелок. – Пойми ты, страж...
– Погоди, – поп хитро прищурился. – Ты ведь врал мне. Дом-то твой оказался не народный, а для правительства. Хозяйский, стало быть. Совсем другой смысл вышел. Зря я, выходит, уповал на душу народную.
– В моем государстве народ и есть хозяин, – отчеканил гость грозно и мрачно. – Кто этого не хочет понять, у того нет будущего. – Он склонил над сгорбившимся Георгием бритую голову и вгляделся в маленькое сморщенное лицо: – А ведь мы с тобой, Георгий Николаевич, ровесники. И родились, будешь смеяться, в один день. Я бумаги твои видел. Может от этого и кручусь здесь, присматриваюсь...
– Вроде как в зеркало? – ощерился поп, став похожим на затравленного хорька.
– Вроде... – процедил человек в плаще и отвернулся. Надел шляпу, вздохнул: – Выходи, ждут.
Даже по спине было видно, что стиснул он сильные челюсти и большую бурю в себе удерживает.
Вышел и саданул ногой большого, неприятно скалящегося пса. Захрюкав, сраженный очередной неудачей Гнус, спрятался в волхонковской подворотне. Нашептали ему сегодня товарищи скверные новости. Будто бы явился в Москву шеф тайной разведки смежного ведомства, прикидываясь шутником и беззаботным гаером. То иностранного шпиона изображает, то представления в Варьете устраивает. А с ним свита – мерзейшая из мерзейших. И ведь всем ясно, что не на прогулку явился сюда мессир Воланд, а что бы за работой Армейского десанта Гнусов проследить и перед высшим начальством скомпрометировать. Предупредили Мелкого беса вышестоящие коллеги, что грядет время чисток и серьезных разборок с нерадивыми сотрудниками. А значит, настала пора решительного сражения с Жостовым – терять нечего, либо пан, либо пропал. Скорчился Гнус в подворотне, зыркая красными глазами на спешивших мимо прохожих, да повизгивая от ненависти к котам, за которыми нельзя было даже погнаться и разорвать в клочья.
Глава 6
Симпатичный городок Андреаполь! Если не смотреть на двухэтажную стекляшку универмага и кое-какие вывески, можно предположить, что два столетия прошли стороной. Правда, вросли в землю, скособочились, погнили домики с резными ставнями, на латаных крышах появились антенны и протянулись от столба к столбу провода. Но рябины, кривые улочки с лужами во всю ширь и непременной черно-пегой свиньей в самом болотище, с шумными, голенастыми гусями – все те же.
Середина ноября. Уже падал и таял мокрый снег, неделю заливали холодные тоскливо-беспрерывные дожди и вдруг – солнце! Поверилось в чудо вот начнется сразу весна, миновав долгую, смертельно-скучную, понапрасну заедающую и без того короткую человеческую жизнь зиму. Хмельное веселье согрело душу. Ну до чего же славный, приветливый городишко! Чудесный базар! Какие милые хозяюшки топчутся за банками квашеных огурцов, горками репы и свеклы, разложенными на черных дощатых прилавках! Хохотушки, стряпухи, калядухи-затейницы. Что за роскошь – черные кудри, смуглые лица, полные золота улыбки и руки, протягивающие ящички, где на черной ткани выложены увесистые "золотые" перстни, сережки, кулоны. Местный бизнес артели, производящей ювелирные изделия в стиле "цыганский барон" процветает в очевидном отсутствии спроса. Человек десять живописных горьковских типов часами сидят у ворот рынка, встречая каждого приезжего гвалтом и толкучкой с выставленными перед собой витринками.
Бог знает, каким нюхом определяют они заезжего гостя даже в таком неинтересном субъекте, как бродяга зековского вида. Прямо за городскими огородами тянутся заборы с колючей проволокой. Оттуда наезжают и начальство с семьями, и обслуга, а бывает – "выпускники". На бородаче, явившемся к рынку, куртка старая, замызганная, кирзачи в грязище – явно не из автомобиля вышел, но и на "выпускника" не похож – борода и волосы не для лагерной вши рощены.
– Остынь, парень! – отстранил бородатый бросившегося наперерез с витриной мужских перстней смугляка. – По понедельникам я золото не закупаю. Понедельник сегодня, приятель, и число тринадцатое. А у меня серьезное приобретение!– Он достал из кармана бумагу с паспортом, аккуратно сложил все в пакет и перепрятал за пазуху.
Который месяц наведывался сюда Максим Горчаков по поводу оформления собственности на строение в деревне Козлищи и уходил не солоно хлебавши. И, наконец – удача! В кармане документ, на дворе солнце, а на заборе трепещет исполненное компьютерным способом объявление: "Продам срочно "Фолксваген", 7 дней из Германии, цвет – мокрый асфальт. И корову молочную черно-белой масти. Четвертым отелом. Плюс сено".
"И то и другое надо! Пожалуй, без сена", – с азартом новоявленного собственника подумал Максим, направляясь к базарному изобилию.
– Дяденька, купите собаку. Кавказская сторожевая. Паспорт есть, прививки, какие надо, – в живот Максима уперся рюкзачок цвета хаки. Его держал пацан лет девяти, а в нутре рюкзака копошилось нечто теплое, мягкое, атласно-черное.
– Сторожить у меня пока нечего, вот дело какое, – он шагнул в сторону, опасаясь заглядывать на щенков.
– Ну посмотрите хотя бы... – канючил парень, вытягивая из рюкзачка сонное, пузатое, вислоухое существо. Глаза у существа были черные, глянцевые, беспредельно доверчивые.– Кавказские сторожевые. У меня одна девочка и два мальчика. Отец медалист. Семьдесят сантиметров в холке.
Бормоча что-то извиняющееся и отворачиваясь, Максим торопливо зашагал прочь с неприятным ощущением, словно сделал гадость. Автобус здесь ходил по расписанию, оставалось больше часа на прогулку и размышления.
В хозяйственном магазине неистребимо пахло дустом и до одури едким стиральным порошком, стоящим у окна в импортных ярких ящиках. На полках с терпимостью аборигенов, позирующих в обнимку с колонизаторами для плаката "Дружба народов", теснились банки тракторного мазута, чугунки, все в сургучных плевках и обрывках бумаги, толщенные колодезные цепи, фарфоровый сервиз производства Люксембург под названием "Файф оклок у королевы", квадратные консервные банки с интригующей этикеткой "Масло оливковое. Девственное". На жестянке в характеристике масла действительно стояло слово "вёрджин", что означало в данном случае, первый отжим, а в иных девственность. Наличие в городке переводчика, не ограничившегося доступным по картинке понятием "олив ойл", а пристроившего к нему такое обескураживающее прилагательное, все же радовало.
Задумавшись о позитивных преображениях, Максим дошагал до автобусной остановки. На лавке, пристроив сумки, уже сидели ожидающие транспорта тетки – в китайских пуховиках, ангорских бирюзового окраса капюшонах и в тяжелых резиновых сапожищах. В стороне, усиленно работая челюстями, употреблял какую-то рекламную жвачку паренек с рюкзачком цвета хаки.
– Продал? – поинтересовался Максим.
– Угу. Хорошо пошли. По двадцать пять тысяч, – мальчишка перебросил рюкзак за спину. Оттуда раздалось тоскливое поскуливание. – Это последний, бракованный. Топить буду. – Он с вызовом, прищурив желтый глаз, глянул на высокого дяденьку.
– Как топить? – оторопел Максим, и вид у него, конечно, был соответствующий. Пацан давно просек, с кем имеет дело.
– Обыкновенно. Ему соседский Шалый ногу прикусил, он хромучий. И вообще – не в породу. – Зябко поежившись, парень втянул голову в плечи и с полным равнодушием отвернулся. Откуда-то налетел пронизывающий ветер, небо заволокло тучами. Тут же припустил мелкий, хлесткий дождь.
Максим положил руку на худенькое под курткой детское плечо:
– Продай мне.
– Говорю – хромой он. Бракованный, – парень изобразил раздумья. – За двадцатку мог бы уступить. Не иначе.
Максим безропотно отдал деньги, получил нечто теплое, полукилограммовое, сразу задрожавшее.
– Под куртку суньте. Ему месяц еще. Лапа зовут, – объяснил очень довольный сделкой пацан.
Бабы налетели, как вороны с ветки, загалдели, приметив идущий на круг автобус. Началась привычная, необязательная вовсе, а так, для тонуса, осада с втаскиванием мешков, криками, руганью.
– Не жмитесь, бабоньки, местов всем хватит, – рассудительно ворчал мужик на деревянной ноге.
– Тебе хромому чиво, тебе сиденье и так полагается, – отругивалась тетка, заклинившая дверь необъятным тюфяком и вызвавшая всеобщее недовольство.
– Нога здесь не при деле, – обиделся инвалид. – Я отродясь нервный. Щекотку не переношу. А дамочки на всякой колдобине завели манеру за постороннее тело хвататься.
– Ох, уж нельзя за мужичка подержаться! – игриво встряла молодуха в ярком пуховике, стрельнув бойкими глазами в Максима. Тот деликатно подсаживал обремененных сумками бабок и втиснулся последним, бережно, как беременная, придерживая руками вздувшуюся на животе куртку.
В автобусе к нему пробрался паренек, долго сопел, а потом выложил:
– Я б его не утопил. На свалке бы оставил, там целая стая живет... он подумал. – Вообще-то Лапа, может, и гибрид. Ну, не совсем сторожевая.
– Что ж за порода? – уточнил Максим просто так, для разговора. Он не сомневался с самого начала, что приобрел то, что хотел – настоящего высокосортного дворнягу.
– Леська у нас вроде овчарка, только одно ухо висит. Если это от Лохматого, то, может, кавказец будет. Лапы-то, гляньте, толщенные.