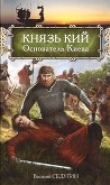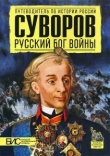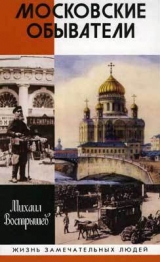
Текст книги "Московские обыватели"
Автор книги: Михаил Вострышев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 28 (всего у книги 30 страниц)
Школьный труд. Начальница женской гимназии Ольга Афиногеновна Виноградская (1853–1914)
Кое-кто считает, что лишь в России мужчины скептически отзывались о женском образовании. Нет, сильный пол во всех странах был одинаков.
«Ученая женщина есть бич своего мужа, своих детей, своих слуг, всего света».
Ж. Ж. Руссо
«Нет мужчины, который не предпочел бы провести свою жизнь лучше с горничной, нежели с ученой женщиной».
Стендаль
«Ученая женщина пользуется своими книгами так же, как часами, которые носит напоказ другим, хотя бы эти часы постоянно стояли или шли неверно».
Кант
Русский человек, скорее, видел в женщине бестию, которая, дай ей только случай, обскачет мужика. Оттого и поговорка прижилась: «Где черт ничего не успеет, туда женщину посылает».
Конечно, в каждой семье жизнь шла по-своему и чаще женщину оберегали и боготворили, чему свидетельство не только европейские рыцарские романы, но и российская действительность. Но отчего у нас до Петра женщина из терема ни ногой?.. «Грубость нравов, – писал историк С. Соловьев, – делала невозможным пребывание женщины в мужском обществе, ибо в человеке не умирает сознание, что женщина есть блюстительница семейной нравственности, семейного наряда и потому должна находиться в среде более чистой».
В конце концов на исходе XVIII века для женского образования, ранее бывшим исключительно домашним, появились Смольный институт и несколько частных, французских и немецких, пансионов.
Заведения для женского воспитания и образования более походили на монастыри и долгое время были доступны лишь привилегированным сословиям. Лишь в 1855 году разрешили открывать как в городах, так и в больших селениях училища для приходящих девиц.Москва, как держательница патриархальных устоев, не торопилась принять новшество, пропустив вперед в этом начинании не только Петербург, но и многие губернские города. Лишь 30 августа 1859 года была открыта Первая женская гимназия в доме князя Воронцова (приняли 38 учениц, но уже через два месяца их число достигло 171). В 1861 году открыли Вторую женскую гимназию (на Старой Басманной), в 1865-м – Третью (в Замоскворечье), в 1870-м – Четвертую (на Поварской).
Преподавали здесь на первых порах исключительно мужчины, ведь у женщин не было на то соответствующего образования. Но вот появились первые выпускницы, в 1869 году открылись Лубянские женские курсы, а в 1872-м – Высшие женские курсы, которые стали поставлять преподавательниц в низшие классы училищ и гимназий.
Кроме казенных учебных заведений, в женском образовании в Москве большую роль играли частные, и среди них самая величественная, состоявшая из двух каменных зданий в три и четыре этажа (последнее выстроено в 1910 году), – женская гимназия на Покровке Ольги Афиногеновны Виноградской.
Всю свою сознательную жизнь Виноградская посвятила славному делу образования женщины. Но мужчины не любят в своих мемуарах останавливаться на женской судьбе, если, конечно, это не актриса. Здесь дело даже не в том, что они брезгуют учеными дамами, а скорее внутреннее стеснение заглядывать в личную жизнь трудолюбивой добропорядочной женщины. Они привыкли в дамах описывать лишь страсть или отсутствие страсти.
Так что же можно написать о директрисе гимназии, которая на сцене не выступала, фривольно себя не вела и даже не имела миллионного состояния?.. Как ни крути, а рассказ получится пресным и малохудожественным. И все же рискнем, хотя бы потому, что Ольга Афиногеновна представляла собой тип хорошего педагога, который стал распространенным в России повсеместно с конца XIX века и не пропал в советские годы.
Она родилась 7 марта 1853 года в Петербурге и первоначальное образование получила дома, от отца Афиногена Васильевича, окончившего Казанский университет, и матери Клеопатры Ивановны, выпускницы Смольного института. В пять лет Ольга уже декламировала «Братьев-разбойников» Пушкина, к десяти говорила по-французски и по-немецки. В 1866 году семья переселилась в Москву, где Виноградская окончила Первую женскую гимназию и некоторое время состояла в ней классной дамой. Затем преподавала в детских садах и низших классах женских гимназий, одновременно обучаясь на Лубянских курсах и давая частные уроки. Наконец она поступает учителем в учебное заведение для девочек-сирот болгар и сербов и через два года встает во главе этой школы, слившейся с пансионом госпожи Керкоф и в июле 1883 года переехавшей на Покровский бульвар.
С этих пор начинается самостоятельная педагогическая деятельность Ольги Афиногеновны. У нее преподают профессора А. А. Казиветтер, М. К. Любавский, М. И. Коновалов. Школа постепенно из третьего разряда переходит в первый и в 1902 году получает полные права женской гимназии.
Более тридцати лет Виноградская руководила созданным ею учебным заведением и преподавала в нем русский язык и литературу. Скончалась она от сердечного приступа 26 октября 1914 года на своем посту – проверяя школьные сочинения.
Немногочисленные воспоминания о ней сослуживцев и воспитанниц рисуют образ труженицы-педагога, знакомый большинству из нас по детским годам своей жизни.
«В учительской, видя высокую, несколько суровую фигуру начальницы и слыша ее слегка ворчащий голос, я чувствовал себя не вполне свободно».
«Мы сразу почувствовали в ней вожака».
«Я видел суровую игуменью, постоянно наставляющую и сторожащую своих послушниц и келейниц, своих монахинь, свой причт, своих служащих, не знающую ни сна, ни отдыха, постоянно стоящую на своей педагогической молитве».
«За время моей совместной работы с Ольгой Афиногеновной я не запомню ни одного момента, когда бы на ее лицо легла тень усталого равнодушия».
«Отношение учениц к Ольге Афиногеновне можно охарактеризовать двумя словами: почтительная любовь. Ее боялись ученицы, но не как запуганные, не как чего-то страшного, но боялись, скорей, из-за благоговения, как перед чем-то высшим».
«Ее спутница вечная – толстая записная книжка, в восьмушку форматом, – то и дело воспринимала на свои страницы короткие записи того, что было для Ольги Афиногеновны новым и казалось ей нужным и ценным».
«В слове «Москва» звучит много отрадных ассоциаций для русского. В частности, с этим словом связано много для русского просвещения. Мне кажется, высокая, независимая, представительная фигура Ольги Афиногеновны, с виду несколько суровой и торжественной, на самом деле сердечной, простой и глубоко человечной, с педагогическим пафосом и самоотверженной преданностью своему служению, признающей только дело и умеющей юмористически высмеять всякое безделье, эта фигура – типичная фигура московской начальницы в самом лучшем смысле этого слова».
Какие бы новшества в школьной педагогике мы ни выдумывали, как бы ни оригинальничали, главным для учителя всегда остаются знания, трудолюбие и любовь к детям.
Спасибо вам, Ольга Афиногеновна Виноградская!
Директор иконописной палаты. Академик живописи Клавдий Петрович Степанов (1854–1910)
Членами императорской Академии художеств состояли лучшие российские живописцы, скульпторы, архитекторы и гравюры. Иное – иконописцы, их в XIX веке никто не почитал достойными быть в списках людей искусства, зачисляя в разряд ремесленников наряду с малярами.
Да как же так? Неужто стенные росписи XVII века Архангельского собора Московского Кремля – не искусство? Неужто творчество преподобного Андрея Рублева – ремесло? Неужто фрески Виктора Васнецова во Владимирском соборе Киева значат меньше, чем гравировальные портреты?
Прежде всего надо пояснить, что церковная стенопись, в отличие от иконописания, никогда не была предметом религиозного почитания, а лишь украшением храма, поэтому в ней дозволялись индивидуализм художника, субъективная трактовка сюжетов на библейские и церковно-исторические темы. Но если «рисование есть, – по словам церковного писателя IV века Астерия, – вторая грамотность, то иконописание есть, можно сказать, второе исповедание веры».
Любая православная икона должна удовлетворять строго определенным требованиям, так как в первую очередь является не предметом искусства, а объектом религиозного почитания. Иконопись – верная хранительница преемственности священных традиций, здесь ни на шаг нельзя отходить от «иконописных подлинников», указывающих, как правильно изображать тот или иной священный лик. На Московском Соборе 1666 года даже постановили, чтобы «во иконописцех дозорщики были», дабы те не своевольничали.
Но, несмотря на строгие каноны, истинный иконописец мог одухотворить, оживить икону ему одному известным мастерством, нераздельно связанным с молитвой и постом, с чистой душой создателя святого образа.
В XVII веке еще не брезговали царских иконописцев именовать живописцами и они создавали непреходящие творения, трудясь в первой русской академии художеств – Оружейной палате. Увы, император Петр I, озабоченный развитием заводов и фабрик, лишил заработка создателей боголепных святых образов, и многие иконописцы забросили свое занятие, ради хлеба насущного поступая в маляры и даже придворные истопники. Но были и мастера, оставшиеся верными избранной профессии, передававшие тайны своего искусства из рода в род.
Последний и самый сильный удар по иконописанию был нанесен во второй половине XIX века, когда оно стало превращаться в фабричное ремесло, мастера стали гоняться за доходностью, а заказчики за дешевизной. Где уж тут вкладывать душу, когда платят за количество, а не качество, когда в иконописных мастерских стали появляться «доличники», рисующие исключительно одежду, и «личники», пишущие лица.
И вот, когда, казалось, настали последние дни для русской иконы, на ее защиту встали русские художники, не брезговавшие поменять свое звание живописца на ремесленника. Одним из них был академик живописи Клавдий Петрович Степанов.
Родился он 2 октября 1854 года под Москвой, окончил Лицей цесаревича Николая, историко-филологический факультет Санкт-Петербургского университета, год проучился в Академии художеств, откуда ушел в 1877 году вольноопределяющимся в лейб-гвардии Преображенский полк. За храбрость в Русско-турецкой войне К. П. Степанов был награжден орденом Святого Георгия и, выйдя в отставку по заключению мира, закончил Академию художеств. Получив за свои картины звание академика живописи, уехал во Флоренцию, где жил и плодотворно работал с 1880 по 1889 год. Картины «Бедняга-скрипач», «Сцена из посольства Чемоданова во Флоренции при царе Алексее Михайловиче в XVII веке», «Дон Кихот после сражения с мельницами», «Скупой», «У венецианского мастера» и другие создали К. П. Степанову известность и репутацию классического художника. Его картины покупали известные европейские музеи, русские коллекционеры П. М. Третьяков, А. Н. Русанов, великий князь Константин Константинович.
Вернувшись из Флоренции в Москву, Клавдий Петрович сошелся с кружком славянофилов и до конца жизни оставался «типичным представителем кристально чистого консервативного идеализма». Он издает и редактирует газету «Московский голос», где пропагандирует свои взгляды на религиозную живопись, с помощью В. М. Васнецова выпускает в свет любопытный сборник, посвященный искусству, – «Цветник», на съездах и собраниях художников выступает с докладами о соборности в русском православном иконописании. 22 ноября 1908 года исполнилась его заветная мечта – в Доме детских приютов на Остоженке была открыта Иконописная палата, ставившая своей целью возрождение культуры иконописания. Ее первым директором стал К. П. Степанов. «Я счастлив, – говорил он на торжестве освящения палаты, – что могу представить вам в настоящее время здоровых детей тех поколений, которые и двести, и триста, и более лет тому назад занесены в летописи нашей иконографии. В прекрасных храмах их сел я видел иконы их прадедов, представляющие драгоценные для нас свидетельству их благоговейных трудов».
Свою мастерскую директор перенес в Иконописную палату, чтобы работать на глазах учеников – старый испытанный способ преподавания, основанный на постоянном обмене мыслей учителя с учениками, практическая передача знаний.
Клавдий Петрович, как и все художники, в своем творчестве стремившийся к оригинальности и субъективности, в конце концов пришел к ремеслу иконописца, ибо отчетливо видел, что сейчас его опыт, мастерство, искренняя религиозность необходимы в многотрудном деле возрождения русского иконописания. Он без сожаления «наступил на горло собственной песне» и последние полтора года жизни полностью посвятил воспитанию истинных иконописцев, которые могли бы изображать не нарушаемые произволом художника одухотворенные лики святых, то есть создавать произведения религиозного почитания и одновременно шедевры искусства.
Пойте разумно! Директор Синодального училища церковного пения Василий Сергеевич Орлов (1856–1907)
К концу XIX века в России насчитывалась не одна тысяча церковных хоров. Во многом именно благодаря им храмы не пустовали. Даже староверы потянулись к православию, завороженные чудным пением. Тысячи католиков и лютеран из западных губерний отдавали своих детей в православные училища, где можно было получить блестящее певческое образование.
Более других на Руси славился Патриарший хор, переименованный в 1710 году в Синодальный. В нем значилось около четырех десятков дьяконов и поддьяконов. В 1767 году к штату прибавились малолетние певчие и для их обучения в Москве устроили Синодальное училище церковного пения.
«Пойте Богу нашему, пойте. Пойте Цареви нашему, пойте. Яко Царь всея земли Бог, пойте разумно!» – восклицает псалмопевец Давид.
Чтобы «петь разумно», кроме искры Божией, нужно иметь знания и опыт. Благочестие требует в церковном пении избегать крайностей – излишней утонченности, приличной салонному пению, и грубого крика, вся задача которого – показать свои мощные голосовые связки. Дабы не вводить прихожан в соблазн, регент хора должен добиваться согласия голосов, верности в тонах, простоты, одухотворяемой благоговением, и четкого произнесения слов.
В 1886 году освободилось место регента Синодального хора, в связи с чем знаменитый композитор П. И. Чайковский писал прокурору Синодальной конторы А. Н. Шишкову: «Василий Сергеевич Орлов пользуется в музыкальном мире Москвы такой превосходной репутацией музыканта вообще и специалиста по церковному пению в особенности, что я мог бы ограничиться лишь несколькими словами для того, чтобы должным образом воздать ему справедливость…Будучи прекрасным музыкантом, будучи практически знакомым со своей специальностью (ибо он в малолетстве сам был певчим, а теперь уже несколько лет состоит регентом известного Вам хора), будучи умным человеком, притом одушевленным горячей любовью к делу, он, в случае назначения, поставит хор синодальных певчих на подобающую высоту и, без всякого сомнения, оправдает возлагаемые на него надежды».
Родился Василий Сергеевич Орлов в селе Ржавки Московского уезда 25 января 1856 года в семье псаломщика местной церкви Святителя Николая. С восьми лет пел в частных хорах, был определен в Синодальное училище и, окончив его в 1871 году, поступил в Московскую консерваторию, избрав в ней, по своей бедности, специальностью игру на фаготе, что освобождало от платы за учебу. Воспитываясь у таких выдающихся знатоков музыки, как Н. Г. Рубинштейн и П. И. Чайковский, он одновременно подрабатывал дирижерством, организовав хор при типографии А. И. Мамонтова. Получив высшее музыкальное образование, преподавал пение в Елизаветинском институте, служил регентом в хоре Смирнова, потом дирижером в Русском хоровом обществе. Став в 1886 году регентом Синодального хора, он подтвердил данную ему рекомендацию Чайковского и довел мастерство своих подопечных до совершенства. Синодальный хор гремел (конечно, в переносном смысле) не только по Москве, он завоевал Северную столицу, и петербуржцы вынуждены были признать, что «синодалы» не уступают императорской Придворной капелле. Да что Петербург – в 1889 году музыкальная Вена принимала у себя воспитанников Орлова и требовательную венскую публику покорили необычные духовные концерты, составленные из произведений Бортнянского, Турчанинова, Львова, Глинки, Римского-Корсакова, Чайковского.
Но Синодальное училище не только пело, его выпускники становились церковными композиторами и регентами приходских хоров.
Орлов, вступив 22 февраля 1901 года в должность директора училища, до своей кончины (10 ноября 1907 года) продолжал начатое дело профессионального обучения духовному пению. Он создал целую школу русской церковной музыки, основанную на сохранении древних отечественных напевов и создании новых песнопений в том же духе. Он не терпел щеголяния голосами, дешевой эффектности внешней звучности. Для него петь – значило молиться, славословить Господа и каяться.
Пение Синодального хора некоторые называли «нецерковным», но, по мнению профессионалов, вся его «нецерковность» заключалась в том, что он пел образцово, был законодателем для других московских хоров.
Альт-солист в хоре мальчиков, дирижер, пианист, педагог, глубоко верующий человек… На отпевание Орлова в храм Большого Вознесения, что у Никитских Ворот, собрались профессора консерватории, депутации от московских хоров, ученики и коллеги – весь музыкальный мир города. Преосвященный Серафим, епископ Можайский, совершил заупокойную обедню. Согласно предсмертному желанию усопшего Синодальный хор под управлением А. Д. Кастальского исполнил песнопения из литургии Чайковского… Умер Василий Сергеевич Орлов, но духовная музыка, которой он посвятил всю жизнь, продолжала жить.
Русский инженер. Директор Технического училища и председатель Политехнического общества Александр Павлович Гавриленко (1861–1914)
В полдень 13 мая 1914 года с Ходынского аэродрома Москвы поднялся в небо аэроплан и взял курс на Донской монастырь. Это авиатор Б. И. Росинский и его друг А. М. Игнатов, бывшие студенты императорского Технического училища, летели попрощаться со своим учителем. Вот показались могучие крепостные стены и золотые купола храмов.
Возле монастырских ворот скучилось более сотни экипажей, а все обширное кладбище пестрело народом – студенты в форменных сюртуках, монахи в черных рясах, несколько тысяч москвичей в разношерстной одежде. Услышав шум пропеллера, все невольно оторвали взгляд от гроба, стоявшего возле свежевырытой могилы, и посмотрели вверх. Аэроплан уже парил над ними на высоте двухсот метров, и с него прямо в могильную яму посыпались ландыши и незабудки. «Ньюпор» Росинского описал над кладбищем круг, на секунду как бы замер над раскрытой могилой и лишь потом взмыл на высоту 1000 метров и поплыл прочь. Там, наверху, не было слышно, как застучали комья земли о крышку гроба и толпа запела «Вечную память». И не было видно слов, написанных на лентах более чем ста траурных венков…
«Политехническое общество. Своему незабвенному председателю».
«Осиротелое студенчество Императорского Технического училища. Старому испытанному другу…»
«От бюро труда Императорского Технического училища. Единственному, последнему».
«Инженеры Московского трамвая. Глубокочтимому учителю и редкому человеку…»
«Библиотека студентов-техников. Последнему из немногих».
«От студентов-евреев. "Умер праведник…"»
«Студенты-кавказцы. Незаменимому…»
«От инженеров Коломенского машиностроительного завода. Дорогому, незабвенному…»
«Благодарное Тульское землячество… "И нет тебе смены на славном посту!.."»
Обыкновенное для Москвы событие – похороны директора высшего учебного заведения – вылилось в грандиозное, искреннее, печальное торжество, невиданное уже четыре года, с тех пор, как хоронили председателя первой Государственной думы Муромцева. Как бы предчувствовали, что минет два с небольшим месяца и Россия станет уже другой страной, по ней ударит молот Первой мировой, а затем Гражданской войн, настанет голод, разруха, крах экономики, просвещения и с таким трудом достигнутого технического прогресса. Ушел из жизни достойный русский инженер…
Александр Павлович Гавриленко родился 1 марта 1861 года в семье отставного прапорщика, дворянина Екатеринославской губернии Павла Антоновича. Первые годы жизни протекли в городе Александровске, потом на Кавказе, где отец, не имея опыта, занялся овцеводством и разорился. Пришлось продать свое небольшое имение и переселиться в Москву, где Александр учился некоторое время в реальном училище Воскресенского, а с двенадцати лет – в подготовительных классах Технического училища. Вскоре училище преобразовали в высшее учебное заведение, которое Гавриленко и закончил в 1882 году. Еще в училище он с четырьмя товарищами сговорился поехать в Америку, выдвинувшуюся на первое место среди промышленных стран мира, попрактиковаться в инженерных навыках, что и случилось в октябре 1882 года, после его трехмесячной службы вольноопределяющимся в артиллерии. Работал Гавриленко на механических заводах Филадельфии простым слесарем, получая пять долларов в неделю, из которых более четырех уходило за ночлег и еду. Он переходил с одного завода на другой, изучая все подробности технологии обработки металлов. Мистер Гаври, как звали его в чужеземной стране, усвоил практичность, терпимость и любовь к свободе американцев. Вернувшись на родину в конце 1885 года, он работал помощником директора на заводе Московского товарищества металлических изделий, конструктором на Механическом заводе Доброва и Набгольц, заведовал постройкой московского водопровода. По вечерам у него в меблированных комнатах дома Арманд на Воздвиженке собирались сослуживцы и вели разговоры, главным образом на технические темы.
«Он нам рассказывал, – вспоминал Виктор Лист, – о приемах при работах у Броуна Шара и о той точности, с которой там изготовлялись разные детали машин-орудий, калибры и измерительные приспособления. Он нас знакомил с жизнью в Америке и, защищая все американское, он так увлекался, что казался нам в то время более американцем, чем сами природные американцы. Увлечение его всем американским было до того искренно, а главное, сам Александр Павлович со своим прирожденным нравственным и умственным свойством так проникся всем хорошим из Америки и в то же время так остался чужд всего дурного и несимпатичного в этой стране, что из него выработался цельный человек в благороднейшем смысле слова. Чисто американская деловитость, ясное мышление и потому всегда правильное направление действий, в связи с чисто русским, кристально чистым и добрым сердцем, давали в его последующей деятельности те прекрасные результаты, которые создали ему славу культурного деятеля не только в узко германском, но и в чисто русском или, лучше, толстовском смысле».
Богат на события для Гавриленко оказался конец восьмидесятых годов. Он начал преподавать в родном Техническом училище, возглавил Политехническое общество и, что не менее важно, женился на дочери генерал-майора П. В. Залесского Софье. Не оставлял он и практической деятельности инженера, в течение шести лет с 1890 года заведуя техническими сооружениями возводимых клиник Московского университета. Но его основными видами деятельности становятся уже преподавательская, административная и литературная работы. Он издает учебные книги по технологии металлов и паровым котлам, обучает и воспитывает студентов, привлекает лучших отечественных инженеров к делам Политехнического общества.
Все, кто учился с ним или у него, работал бок о бок, дружил с его семьей, отзывались об Александре Павловиче с восторгом и почтением…
«Я провел в Нижнем [Новгороде] три дня [1886 г.], и все свободное время мы проводили с А. П. в бесконечных разговорах о нашей семье техников вообще, о выпуске 1882 года в частности. И тут вновь предо мною воскресла старая особенность личности А. П. Из разговоров ясно стало, что вокруг него опять сгруппировался весь выпуск 1882 г., и все обращались к нему «в минуты жизни трудные» (Л. Бершадский).
«Когда в качестве студента приходилось проектировать у покойного Александра Павловича, мы, студенты, всегда поражались тем «глазом», которым он обладал. Стоило ему только посмотреть на чертеж, как он тотчас же нащупывал слабое место проекта и сейчас же давал директивы для его исправления. Нельзя при этом не отметить того всегдашнего благожелательного спокойствия, которым были обвеяны занятия со студентами нашего дорогого учителя» (Б. Угримов).
«Его можно было видеть на улицах Москвы в сопровождении человек восьми детей, своих и чужих. Четырехлетний сын моего брата находил удовольствие беседовать с ним. А. П. брал на руки мальчика, и начиналась беседа, иногда оживленная, шутливая, иногда серьезная, но всегда детская, всегда искренняя. А. П. умел превращаться не только в юношу, но и в ребенка» (В.П.З.).
«Постоянство и ровность в отношении ко всем у А П. Гавриленко были похожи на некую силу природы, с той разницей, что эта сила всегда была неизменно для всех благодетельна» (А. Мастрюков).
«У котла, при свете пламени топочного огня, в непосредственной близости котельной воды, в жарком воздухе котельной, прошли многие дни жизни Александра Павловича. И мы знаем, что и смерть постигла его, можно сказать, на этом же посту, что эти стихии, которые столько раз ласкали и убаюкивали его, как колыбельная песня, в конце концов, свели его в могилу».
Гавриленко был идеальным воплощением талантливого русского инженера, который умел видеть в конкретном техническом вопросе самую суть дела, а в конкретном человеке самую суть его души.