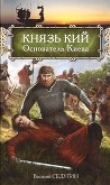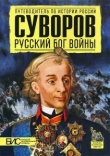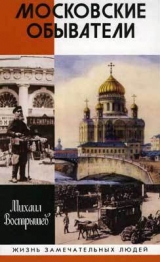
Текст книги "Московские обыватели"
Автор книги: Михаил Вострышев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 18 (всего у книги 30 страниц)
Тщедушен телом, но не умом. Издатель и директор лицея Павел Михайлович Леонтьев (1822–1875)
«Московские ведомости» в 1860—1880-х годах называли Катковской газетой, Лицей в память цесаревича Николая – Катковским лицеем. Но до 1875 года издателем «Московских ведомостей» был Павел Михайлович Леонтьев, ему же принадлежит первенство основания лицея.
Каткова вспоминают и в наши дни, но, к сожалению, не за благие дела. Его имя стало жупелом, как «апологет реакционного правительственного курса царской России». До недавнего времени его с усердием бичевали на своих лекциях профессора марксизма-ленинизма, следуя за брошенной Лениным фразой, что Катков «повернул к национализму, шовинизму и бешеному черносотенству».
Имя П. М. Леонтьева не встречается в работах главы Советского государства, поэтому и подлежало забвению. Да и не один Ленин тому виною, колоритная фигура Каткова, его яркая публицистика затмили деятельность тщедушного телом, горбатого друга.
Леонтьев же был первым директором Катковского лицея, именно ему надо поклониться за постройку нового великолепного училищного здания на Остоженке (ныне принадлежит Дипломатической академии). Да что говорить, даже катковское мировоззрение было в равной степени присуще обоим друзьям. «Семнадцать лет мы жили вместе, – вспоминал Михаил Никифорович, – почти не расставаясь, под одним кровом. Между нами не было никакой розни. Мысль, возникавшая в одном, непосредственно продолжала действовать и зреть в другом. Он был истинным хозяином моего дома, душой моей семьи. Все дети мои его крестники, и ничего у нас без его благословения и согласия не делалось».
Родился Леонтьев 18 августа 1822 года в Туле. Начальное обучение получил от матери и трех домашних учительниц, из которых одна была выпускницей Московского Екатерининского института, а остальные – иностранки. Дома было много книг и еще более – у прапрадеда по матери Андрея Тимофеевича Болотова, к которому мальчика возили каждый год до смерти почтенного старца в 1832 году.
В январе 1835 года Леонтьев поступил в четвертый класс Дворянского института в Москве (бывший университетский Благородный пансион). В пятнадцать лет он стал студентом философского факультета Московского университета, по окончании которого в 1841 году служил в течение двух лет там же библиотекарем. В январе 1843 года на казенный счет отправлен за границу, где слушал лекции в Кенигсбергском, Лейпцигском и Берлинском университетах. По возвращении на родину с сентября 1847 года приступил к преподавательской работе в Московском университете, где читал лекции о государственном устройстве Древнего Рима, по истории древнего искусства и археологии.
Ученую известность принесли Леонтьеву диссертация «О поклонении Зевсу» и издание пяти томов «Пропилеи». Вместе с Катковым он издает с 1856 года «Русский вестник» и с 1863 года «Московские ведомости», в 1869 году участвует в ученом комитете Совета министров по выработке устава гимназий. И вся дальнейшая жизнь – в работе над учебной реформой, во славу открытого в 1866 году лицея.
«Если бы для пользы лицея потребовалось бы воздухоплавание, – писал в своих воспоминаниях инспектор Московского учебного округа Я. И. Вейнберг, – Павел Михайлович несомненно сделался бы аэронавтом, причем подробно изучил бы эту науку и высказал, вероятно, немало дельных замечаний».
Леонтьев находил время и преподавать, и руководить постройкой нового училищного здания, и заниматься административными делами, и редактировать газету и журнал, и следить за качеством пищи воспитанников. По свидетельству современников, он был человеком универсальных знаний. С архитекторами – архитектором, с инженерами – специалистом по вентиляции, с банкирами – бухгалтером. «Он был всем в заведении, – вспоминал Катков, – и замещал собою всякое отсутствие, восполнял всякий недостаток».
Всю ночь проработав в редакции «Московских ведомостей», после краткого отдыха мчится Леонтьев со Страстного бульвара на Остоженку, где уже выросли стены нового училищного здания и где его ждут подрядчики, поставщики, техники. Павел Михайлович спорит о водопроводе, ползает по чертежам вместе с архитектором, тут же делает математические расчеты, советует передвинуть одну из стен. Закончив неотложные дела, торопится в старое лицейское здание на Большую Дмитровку, углубившись в карете в проверку поданных счетов.
Но вот невысокого росточка директор, с худощавым лицом, острыми карими глазами, рыжеватой бородой и в очках в толстой черепаховой оправе появляется на верхней площадке парадной лестницы. Он спешит налево – в приемную, где ждут родители. Садится рядом с матерью воспитанника – и уже все на свете забыто, кроме ее сына, его оценок, характера, будущего. Идет участливая задушевная беседа. Следующий разговор – с родителями, привезшими своего мальчика для помещения в лицей. Павел Михайлович зовет тутора (старшего воспитателя) младшего класса, и они вместе экзаменуют поступающего. «Все искусство этого экзамена, – наставлял директор коллег, – заключается в том, чтобы обнаружить не то, чего мальчик не знает, а то, что он знает».
Закончив с родителями, Леонтьев идет в «секретарскую» – к своим сотрудникам. Решив и здесь неотложные вопросы, отправляется с последним собеседником в столовую – первый раз за день перекусить. Затем, взяв из чуланчика под лестницей, носящего имя директорского кабинета, нужные книги, направляется в класс. «Не то важно, – говорил он, – что ученики узнают на уроке, а то, как узнают».
После урока, по просьбе училищного доктора, идет в больницу, где на равных со специалистами обсуждает план лечения заболевшего воспитанника. От кровати больного – в актовый зал на общую молитву, потом в свой кабинет под лестницей, где уже ждет эконом с хозяйственными книгами. Поздно вечером, когда классы пустеют и жизнь в здании замирает, садится за проверку ученических тетрадей, иногда засыпая, сидя за столом, на пятнадцать минут. А глубокой ночью вновь спешит в редакцию газеты. И эта круговерть изо дня в день, без передышки. Профессор Н.А. Любимов, преподававший в лицее физику, на одном из собраний шутливо заметил, что «Павел Михайлович может нанести ущерб преподаванию естествознания, стараясь доказать, вопреки основной астрономической истине, что в сутках более двадцати четырех часов».
Когда уже завершалось строительство нового здания лицея, Павел Михайлович умирал. Но и на смертном одре, за день до кончины, которая наступила 24 марта 1875 года, он продолжал трудиться – обсуждал проект устройства лицейской церкви.
Народный трибун. Поэт и общественный деятель Иван Сергеевич Аксаков (1823–1886)
«Господа! У меня полиции нет, я не люблю ее, – обращался к петербургскому дворянству император Николай I. – Вы – моя полиция!» И господа, млея от монаршего доверия и доброжелательства, восторженно кричали: «Ура-а-а!»
Но все настойчивее звучали иные голоса, и среди них голос Ивана Аксакова:
Клеймо домашнего позора
Мы носим, славные извне:
В могучем крае нет отпора,
В пространном царстве нет простора,
В родимой душно стороне.
Он говорил: надо научиться любить свой народ.
Ему возражали: нельзя полюбить тех, кто намного ниже тебя по разуму и культуре.
Он говорил: изучайте историю своего народа, поближе познакомьтесь с жизнью простолюдина и тогда поймете, что он больше достоин любви и уважения, чем мы с вами.
Его снисходительно одергивали: вы увлекаетесь, мыслите с узких позиций своей партии.
Он признавался: все мои мысли и стремления принадлежат партии, которую составляет весь угнетенный народ, глядя на бесчисленные страдания которого, никто из нас не имеет права оставаться равнодушным, бездеятельным, самовлюбленным.
Мы любим к пышному обеду
Прибавить мудрую беседу
Иль в поздней ужина поре
В роскошно убранной палате
Потолковать о бедном брате,
Погорячиться о добре!
Подобные иронические стихи оскорбляли и «борцов за демократию», и «охранителей порядка»: на святоепосягнул – на нашу любовь к народу!
Аксаков предлагал: раз вы на словах души не чаете в мужике, докажите то же делом, поставьте свои подписи под проектом обращения дворянства к правительству, опубликованным мною в газете «День» 6 января 1862 года:
«Дворянство, убеждаясь, что отмена крепостного права непреложно-логически приводит к отмене всех искусственных разделений сословий, что распространение дворянских остающихся привилегий на прочие сословия вполне необходимо, считает своим долгом выразить правительству свое единодушное и решительное желание: чтобы дворянству было позволено торжественно, перед лицом всей России, совершить великий акт уничтожения себя как сословия.Чтобы дворянские привилегии были видоизменены и распространены на все сословия России».
Тут уж «левые» и «правые» объединились, заполняя страницы газет обеих русских столиц гневными обличениями несвоевременного филантропическогоаксаковского проекта.
Лишь тверское дворянство не пошло на поводу у «любителей народа» и на общем собрании приняло решение об отказе от своих сословных привилегий.
«Любовь к России, любовь к своему народу, – писал Аксаков в передовой статье все той же газеты «День», – призывают нас к делу, требуют от нас не мужества воина, не энергии разрушения, не стойкости, презирающей смерть, а мужества гражданина и упорного деятельного труда, творящего и зиждущего».
Вся жизнь Ивана Аксакова была отрицанием бездействия и самоуспокоения, защитой прав угнетенных народов. Многие годы взоры мыслящих людей России были постоянно обращены к Москве, к газете Аксакова: что он скажет? О каждой его речи в Московском славянском комитете во все концы мира летели телеграммы, и по ним в Париже, Лондоне, Вене судили: что думает русский народ о тех или иных политических шагах своего правительства Слова «честен, как Аксаков» стали поговоркой. С ним можно было не соглашаться, но невозможно было не любить, не верить в его искренность и горячее желание принести пользу Отечеству.
За прямоту и откровенность его сажали под арест, отправляли в ссылку. Его газеты и журналы закрывали, запрещая впредь Аксакову заниматься редакторской деятельностью. Потом его пробовали «подкупить», предлагая редакторский пост в новой газете, но с непременным условием: «Чтобы идея оправе самобытности развития народностей, как славянских, так и иноплеменных, не имела места в газете и все, что относится до сего предмета, было бы из нее исключено».
Но Аксаков нудил,отказываясь от выгодной вакансии.
Он и служить-то начал оригинально: как только убедился, что его работа в Сенате всего лишь бездушная канцелярщина и лесенка для получения чинов, пренебрегая выгодами столичной службы и большими связями отца, стал проситься в провинцию, к живому многотрудному делу взамен бумажной волокиты. Его работа в Уголовных палатах Астраханской и Калужской губерний, служба в Ярославле, поездка для описания ярмарок на Украину, добровольное участие в Крымской войне – это попытка на деле проявить свою любовь к родине, защитить неимущий люд от вельможных притеснений, желание понять и искренне полюбить простолюдина, сблизившись с ним.
«Недавно сидел я вечером в избе, – признавался Аксаков родным, – где потолок был черен как уголь от проходящего в дыру дыма, где было жарко и молча сидело человек пять мужиков. Молодая хозяйка одна с грустным выражением лица беспрестанно поправляла лучинку, и все смотрели на нас как-то странно. Мне было и совестно, и тяжело. Это освещение в долгие зимние вечера, эта женщина, без всякой светлой радости проводящая рабочую жизнь, и мы, столь чуждые им… Право, есть на каждом шагу в жизни над чем призадуматься, если отвлечешь себя от нее».
«Он не знает отдыха», – удивлялись чиновники-коллеги его быстрой, четкой и неутомимой работе. «Он борется против воровства интендантов», – гордились ополченцы его честностью и заботой о солдате. «Он заставляет обливаться кровью наши сердца», – замечали слушатели его пламенных речей.
Но усердие по службе, если оно проявлено без позволения начальства, в России не поощрялось, и потому Иван Аксаков, по собственному заверению, «никаким награждениям знаками отличия не подвергался».
Но он не остался без наград. В книжных шкафах любителей русской словесности уже стояли рядком аккуратные томики сочинений Сергея Тимофеевича Аксакова, отредактированные еще в рукописи сыном Иваном. Сотни статей и очерков Ивана Аксакова, помещенные в газетах «Парус», «День», «Москва», «Москвич», «Русь», читались всей грамотной Россией, а позже они были собраны в семитомном собрании сочинений. Его письма к родным и близким, бережно сохраненные адресатами, после издания в четырех томах стали своеобразным продолжением «Семейной хроники» отца. Болгары, сербы, черногорцы, другие угнетенные народы, жители российских окраин надолго сохранили память о защитнике их прав и достоинства – Иване Сергеевиче Аксакове.
Он не был ни выдающимся полководцем, ни популярным министром, окончил служебную карьеру в скромном чине седьмого класса – надворный советник. Но он был любим народом. И когда на трибуну торопливой походкой поднимался среднего роста человек в золотых очках, с гладко зачесанными назад уже седеющими волосами и начинал свой страстный монолог, возбужденные слушатели перешептывались, кивая на оратора: «Поглядите на Ивана Сергеевича – у него сердце разрывается от переживаний за других».
Однажды оно разорвалось по-настоящему…
Очередное собрание 31 января 1886 года Общества истории и древностей российских началось скорбными словами историка В. О. Ключевского:
– Несколько часов тому назад мы проводили на вечный покой одного из наших сочленов, И. С. Аксакова. Да будет ему вечная память! Каждый из нас будет долго чувствовать всю тяжесть утраты, понесенной с его смертью славянским делом, русским обществом, русской литературой и особенно русской периодической печатью…
Говорили об Аксакове в тот день и многие другие. «Да будет ему вечная память!» – повторяли все.
Но в 1986 году столетие со дня смерти Ивана Аксакова было отмечено воистину гробовым молчанием.
Чтобы быть сильным, чтобы понять окружающий мир и жить дальше в надежде, что потомки поблагодарят нас за добрые дела, надо самим постоянно думать о прошлом, оберегать его камни, рукописи, предания, свято хранить память о достославных людях. Один среди них – Иван Аксаков.
Неопознанный гений. Издатель и публицист Никита Петрович Гиляров-Платонов (1824–1887)
Полусонная Коломна начала XIX века. Одноэтажные домики с палисадниками и огородами. Домашняя птица – хозяин городских улиц. Полуразрушенный древний кремль. Два десятка православных храмов…
Коломенский священник отец Петр Никитский получил фамилию по названию своего храма Никиты мученика, что на берегу Москвы-реки. Вся его родня как прежде, так и теперь – дьячки, дьяконы, священники. Старший сын Александр в духовной семинарии получил отличную от отцовской фамилию – Гиляров, что в переводе с латинского обозначает веселый. Стали Гиляровыми и средний сын Сергей, и младший Никита.
Бедна жизнь коломенского священника, ибо приход у него крестьянский и за требы (крестины, молебны, панихиды) верующие могут расплатиться только хлебом, яйцами да молоком. Дом священника – курная изба с дымом, режущим глаза. В холодном храме того хуже – зимой руки примерзают к кресту, губы – к потиру. Так было здесь и век, и три назад. И если не отцу Петру, то, может быть, его сыновьям представится возможность взломать лед многовекового однообразия.
«Духовенство же есть вообще особенный мир, – размышлял младший сын Никита, – а семья, среди которой я вырос, была и среди особенных особенная, она жила в семнадцатом веке, по крайней мере, на переходе к восемнадцатому». Жили исключительно интересами ближайшей округи, а про Москву только слышали, что она от Коломны за сто верст и приблизительно в той же стороне, где сходятся небо с землею.
Никита на удивление рано начал познавать окружающий мир. «Летний день в светелке, рядом с топлюшкой, окна открыты. За столом сидит несколько ребят, перед ними книги. Ближе к окну висит люлька, и в ней я сижу. Очень живо представляю себе эту люльку и набойку с заплатами, на нее натянутую, веревочки, привязанные к тому же, должно быть, крюку, на котором висит люлька. Я сижу, держа в руках веревочку, раскачиваюсь и распеваю «ла-ла-ла», изображая звон и воображая в себе звонаря. Когда это было?.. Мне не было еще четырех лет, во всяком случае».
В 1831–1838 годах Никита учился в Коломенском духовном училище, постигая азы грамоты и Закона Божьего. Но более – уродливость провинциальной школы. «Один из учителей, Петр Михайлович… ставил на горох на колени, приказывал готовить дурацкие колпаки, надевал на подвергаемых наказанию и ставил несчастных во весь рост на задние парты, с предписанием притом держать руки распростертыми, а на руки велит положить на каждую по лексикону. Руки у несчастных опускаются под тяжестью. Но – горе! – сзади поставлены тоже приспешники с картузами в руках, обязанные бить изнемогавшего мальчика козырьком по голове при едва заметном понижении рук. Это было гадкое зрелище: шесть парт, по три на каждой стороне; мальчики сидят, и сзади их возвышаются подобные статуям по три, по четыре распятых с обеих сторон, и за ними приспешники. Да что! Бывало хуже. Велит кому-нибудь бить по щеке несчастного, плевать в лицо… И за что! За малоуспешность, за невыученный урок, может быть даже только по малоспособности».
Наконец первая ступень образования осталась позади. Родители собирают Никиту в Москву – в духовную семинарию. Из отцовской казинетовой рясы шьют ватную чуйку с плисовым воротником, перешивают семинарский сюртук старшего брата Александра, который уже служит дьяконом в московском Новодевичьем монастыре.
Многое в Москве в новинку. Никогда прежде Никита не видел, чтобы люди, здороваясь, пожимали друг другу руки, не видел трехэтажных каменных домов, разряженных в золото вельмож, осанистых верховых офицеров. Только храмы напоминают Коломну, хотя они, конечно, в Первопрестольной не в пример благолепнее, а служители – сытнее.
К концу учебы Никита все чаще задумывается о дальнейшей судьбе. Гражданская служба? Дьяконское место? Учительская работа? Кончив семинарию первым учеником, решает – поступать в Московскую духовную академию.
К Троице-Сергиеву монастырю он подъезжает 15 августа 1844 года. «Я почувствовал внезапно почтение и к зданию, и к тому, что, по предположению, в нем должно быть».
В Академии особая задушевная атмосфера. Все воспитанники – господа студенты. Старшие водят младших в гости к профессорам-землякам. Бакалавры – друзья студентов. Прислуга – хранители академических преданий. «Ахадемии же моя вечная признательность, что давала простор моей внутренней жизни. Она мне снисходила, даже баловала меня. На целые месяцы уезжал я в Москву в течение учебного курса, чтобы изучением писателей, которых не находил в академической библиотеке, заполнять оказавшиеся пробелы. В последний год студенчества мне отведена была даже профессорская квартира, чтобы общежитие своим многолюдством не нарушало моего углубленного труда, напряжение которого с вечными муками умственного чадорождения начальству было даже малоизвестно».
Закончив академический курс в 1848 году, Никита, в виде особого отличия за исследование философии Гегеля, получил прибавку к фамилии в честь покойного московского митрополита Платона (Левшина) и стал Никитой Петровичем Гиляровым-Платоновым. Ему предложили должность бакалавра, и вплоть до 1855 года он преподавал в Академии историю ересей и расколов, герменевтику (толкование Библии), полемическое богословие.
«Он никогда не садился за кафедру и не читал по тетрадке, – вспоминал А. Владимиров, – но как только входил в аудиторию и раскланивался со студентами, то начинал ходить взад и вперед по аудитории и непрерывно говорить до самого звонка, имея в руке небольшой лоскуток бумаги, на котором было намечено, о чем говорить на этой лекции. И как только он говорил! Речь его была жива, блестяща, чарующа, обильным потоком лилась из его уст и не имела ни малейшего признака деланности, искусственности. Нужно ли говорить, что студенты обожали его?»
Увы, под давлением земляка, московского митрополита Филарета, недовольного его вольнодумством,Никита Петрович был отстранен от преподавания. Переселившись в Москву, он сблизился со славянофилами, стал своим в семье С. Т. Аксакова, оказался единственным человеком для А. С. Хомякова, с которым прославленный философ признавал свое полное согласие. Но и спорили они между собой чаще, чем с другими. «Первые славянофилы, – говорил при отпевании Гилярова-Платонова архимандрит Сергий, – устремились в недра православной церкви и богословской науки и, заимствуя от нее свет, просвещающий всякого человека, грядущего в мир, сами привнесли в нее поток свежей глубокой мысли и чувства. Навстречу этому течению вышел Гиляров со свежей обильной струею мысли цельной, возвышенной, глубокой и прочувствованной и, заимствуя многое от них, сам немало привнес к ним, предохраняя их от философии по стихиям мира сего, а не Христа».
Никита Петрович участвует в работе журнала «Русский вестник», других славянофильских изданий. В 1856 году новые друзья помогли ему устроиться в Московский цензурный комитет, где за шесть лет службы он получил с десяток строгих выговоров, но зато дал разрешение на издание многих полезных русских книг, которые без его смелости так бы и остались в рукописях.
«Вы меня считаете честным человеком, благодарю вас, тысячу раз благодарю, – отвечал Гиляров-Платонов на письмо одного знакомого литератора. – Нужно побыть честному человеку хоть несколько в шкуре цензора, чтобы понять, как много значит это простое признание, как трудно, почти сверхъестественно его дождаться».
Каков он был цензор, поясняет случай, когда учитель одной из губернских гимназий пришел к нему на квартиру справиться о своей посланной в цензурный комитет издательством рукописи.
– Я вас давно жду, и уже хотел сам отправляться отыскивать, – ласково оглядев бедно одетого провинциала, начал разговор московский цензор. – Ваше сочинение я, можно сказать, проглотил. Я подписываю дозволение на его печатание, хотя должен буду ждать за это увольнения.
Приключилась пикантная ситуация – цензор настаивал на издании книги, автор же объявил, что никогда не допустит, чтобы из-за его сочинения семейный человек потерял место.
В 1862 году Гилярова-Платонова все-таки уволили за благосклонность к журнальным статьям об ускоренном проведении в жизнь крестьянской реформы. Чтобы вовсе не лишить заработка бывшего цензора, Министерство народного просвещения отправило его на несколько месяцев за границу для изучения образования евреев, в первую очередь в раввинских училищах.
Вскоре при содействии митрополита Филарета, несмотря на вольнодумство Гилярова-Платонова продолжавшего чувствовать к нему личную приязнь, Никита Петрович становится управляющим московской Синодальной типографией. О своей деятельности на новом поприще в течение 1863–1867 годов он писал К. П. Победоносцеву: «Параллельные места Библии, поверхностно составленные, искаженные опечатками и переставшие давать какое-нибудь руководство при чтении Священного Писания, вынудили меня исходатайствовать учреждение комиссии из духовно-ученых лиц для выверки параллельных мест и новой их редакции. Не я виноват, что дело осталось без последствий, и Филарет был взят от земного служения, а я от типографии».
Девятнадцатилетней преподавательской и служебной деятельностью Гиляров-Платонов доказал, что он малопригодный чиновник из-за своей щепетильной добросовестности, честности и убежденности, что обязан растолковывать правительству истину.Пришлось с чином статского советника выйти в отставку.
Вся последующая его двадцатилетняя жизнь – служение созданной им при финансовой поддержке Ф. В. Чижова газете «Современные известия». Приступив 1 декабря 1867 года к выпуску ежедневной дешевой газеты, Гиляров-Платонов более всего опасался, что не сумеет соблюсти известную меру пошлости,необходимую для массового периодического издания. Свое кредо журналиста и издателя он высказал в передовой статье «Современных известий» от 2 января 1869 года: «Публицист, не уважающий истории и преданий своего народа и коренных основ общественной жизни, которой он живет, столь же недостоин своего призвания, как поклонник суеверий и диких инстинктов массы или нахальный льстец властей».
«Гиляров-Платонов и в звании журналиста остался тем же человеком бескорыстной идеи и убеждения, каким мы его видели в звании бакалавра и на должности цензора, – утверждал Ф. П. Еленев. – Он и туг часто рисковал существованием своей газеты, увлекаясь любимыми идеями, и своим горячим, часто даже несдержанным словом. Его выгораживали из беды только его, ведомые цензурным властям честность и беззаветная любовь к отечеству».
О любви Гилярова-Платонова к своей газете и уважении к ее сотрудникам и авторам ходило множество как достоверных историй, так и легенд. Однажды его вместе с репортером П. А. Сбруевым, писавшим злые фельетоны за подписью Берендей, вызвали к генерал-губернатору. С неохотой надел редактор непривычный фрак, и поутру они отправились в генерал-губернаторский дом на Тверской.
Князь В. А. Долгоруков принял их попросту, даже без парика, что с ним случалось редко.
– Это Берендей? – кивнул он на Сбруева.
– Он самый, ваше сиятельство, – спокойно отвечал Гиляров-Платонов. – Прошу любить и жаловать.
– Зачем вы?.. – Князь задумался, не зная, как сформулировать свою мысль. – Зачем вы пишете?
– Смею спросить, ваше сиятельство, – вспыхнул Сбруев, – зачем вы кушаете?
Князь улыбнулся – он был сегодня в духе.
– Это не ответ. Если вы нуждаетесь… Вот я вам дам сегодня же хорошее место, но с условием, чтобы Берендей умер… Поняли? – обратился князь к обоим собеседникам.
– Понял, – ответил Сбруев. – Берендей умрет.
– И пора. Будет с него. Надоел!
Аудиенция закончилась.
– Что ж, батенька, – рассмеялся Никита Петрович, когда они вышли от генерал-губернатора. – Помирайте, как приказано, и продолжайте-ка с того света.
Следующий фельетон появился за подписью Берендея с того света.Генерал-губернатор тоже выполнил свое обещание, устроив Сбруева чиновником особых поручений при обер-полицмейстере, благодаря чему Берендей стал располагать дополнительной информацией. Когда «Современные известия» приостанавливались властями за резкую критику правительства, сотрудники и другие служащие, включая сидевших без дела наборщиков, в отличие от других газет, продолжали получать жалованье. Если в кассе было пусто, Гиляров-Платонов делал заем. «Были случаи, – вспоминала М. С. Сковронская, что, жалея его, лица, имевшие возможность зарабатывать чем-нибудь себе на содержание, отказывались получать жалованье во время приостановки газеты».
В «Современных известиях» не было и следов коммерческого духа. Про свою редакторскую работу Гиляров-Платонов, опубликовавший в «Современных известиях» около двух тысяч статей по самым разным вопросам, начиная от существа православия и задач славянства и кончая проблемой скалывания льда с улиц, говорил: «Я каторжник, прикованный к тачке».
По воскресеньям в доме на углу Знаменки и Антипьевского переулка, где размещалась и редакция газеты, собирались друзья и соратники: знаток древних рукописей и фольклорист Е. В. Барсов, славист П. А. Бессонов, археолог и этнограф П. Н. Батюшков, философ и общественный деятель Ю. Ф. Самарин, историки Д. И. Иловайский и М. П. Погодин, сотрудник «Московских ведомостей» П. К. Щебальский, театральный деятель и публицист С. А. Юрьев, сотрудники «Современных известий» Ф. А. Гиляров, П. А. Сбруев, Н. И. Пастухов и многие другие. Захаживал время от времени и писатель Л. Н. Толстой, пока не обиделся на Никиту Петровича за критический разбор своей «Исповеди».
Чтобы поддержать газету, к середине восьмидесятых годов Гиляров-Платонов распродал с аукциона свое имущество, переселился из большой квартиры в меблированные комнаты напротив Румянцевского музея, которые еле-еле отапливались керосиновой печкой. Работал он, по привычке, полулежа на диване, иногда не снимая шубы. Высокий, крепко сложенный и немного сутуловатый, с чисто русским широким и бородатым лицом, он поражал посетителей высоким лбом и карими глазами, смотрящими упорно и выразительно. Многим были непонятны его мысли под конец жизни: «Вся моя жизнь неудачна от моего совершенно одинокого самовоспитания, от той боязни подпасть авторитетам, которой я вооружился с семнадцатилетнего возраста». Зато, зная его, друзья понимали другие слова, что «труд есть долг, а не средство своекорыстия» и «жизнь есть подвиг, а не наслаждение».
Последняя его попытка выправить жизнь – поездка в Петербург за разрешение после недавней смерти М. Н. Каткова стать арендатором «Московских ведомостей». Увы, отказ. Потрясенный, Никита Петрович 13 октября 1887 года внезапно скончался в петербургской гостинице. Похоронили его на кладбище московского Новодевичьего монастыря. Его любили и ставили рядом с А. С. Хомяковым «за русскую душу, русский взгляд на вещи». Гиляров-Платонов оставил после себя множество трудов по православному богословию, истории религиозного раскола, русской и славянской филологии, русской политической экономии. Часть из них была издана уже после смерти автора: «Основные начала экономии» (М., 1889), «Сборник сочинений» (т. 1–2, М, 1899), «Университетский вопрос» (СПб., 1903), «Экскурсии в русскую грамматику» (М., 1904), «Вопросы веры и церкви» (т. 1–2, М., 1905–1906), «Еврейский вопрос в России» (СПб., 1906). По словам В. В. Розанова, в Гилярове-Платонове «открывался чрезвычайный ум, показывался глубокий мыслитель, которого Россия не успела заметить у себя». Один из его посмертных сборников статей и писем друзья назвали: «Неопознанный гений».