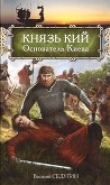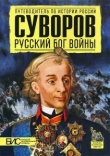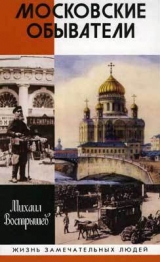
Текст книги "Московские обыватели"
Автор книги: Михаил Вострышев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 16 (всего у книги 30 страниц)
Кроток и смирен. Ректор Московской духовной академии протоиерей Александр Васильевич Горский (1812–1875)
Московская духовная академия, продолжавшая традиции самого древнего высшего учебного заведения России – Славяно-греко-латинской академии, почиталась за блюстителя православия, где студенты получали прекрасное богословское образование. Любая школа знаменита в первую очередь своими учителями. В Академии особую славу стяжал ее ректор протоиерей Александр Васильевич Горский.
«Он был живой энциклопедией всех знаний, с которой мог справляться и наставник, и студент», – утверждал граф Д. Н. Толстой.
«Утомишься, бывало, над составлением лекций, – вспоминал академик-богослов Е. Е. Голубинский, – выйдешь в сад прогуляться. Смотришь иногда – в бакалаврском корпусе все огни потушены, только у А. В. Горского светится огонек, так что огонек этот одушевлял, бывало».
«Этот аскет-профессор, – писал о своем учителе историк Церкви Н. П. Гиляров-Платонов, – этот инок-мирянин, с подвижнической жизнью соединявший общительную гуманность всякому служить своими знаниями и трудами, это было необыкновенное явление. Оно едва ли повторится».
«По смерти Александра Васильевича, – говорил в 1911 году профессор Н. Ф. Каптерев, – его дух и направление, какие он давал всей академической жизни, надолго остались в Академии и, вероятно, не совсем вымерли и сейчас».
Горский, по словам историка В. О. Ключевского, «был краеугольным камнем академического исповедания». К нему присылали на рецензию свои книги русские ученые, обращались за советом научные учреждения, из зарубежных европейских университетов писали с просьбой помочь разобраться с запутанным византийским документом или подтвердить подлинность той или иной рукописи.
От Горского не осталось многотомных сочинений, лишь несколько десятков журнальных статей и описания древних рукописей. Он сеял свои знания среди других, сочиняя для обращавшихся к нему бесконечные справки, составляя списки книг, консультируя. Скромный, но необходимый труд. Про него говорили, что это ходячая и вполне доступная библиотека.
«Старик с седой бородой, вечно окруженный массой книг, когда бы я ни приходил к нему, – вспоминает воспитанник Академии Александр Раменский. – Он моему воображению представлялся чем-то вроде мага или колдуна! Другие студенты, видевшие его только в классе, смотря на внешний вид, называли его Николаем чудотворцем Зимним».
Студенты между собой величали его не иначе, как Папашей. Широкоплечий, немного грузноватый, с белоснежной бородой старец в темно-малиновой рясе, с широко раскрытыми, устремленными куда-то вдаль серыми кроткими глазами, поучая студентов, немного конфузился, как будто был в чем-то перед ними виноват.
Однажды разнесся слух, что он идет со специальной целью журить студентов за провинность. Все быстро собрались в комнате, где обыкновенно совершалась молитва, и, несмотря на то, что назначенное для нее время еще не наступило, кто-то взял книгу и начал с чувством читать. Отворилась дверь и вошел Горский. Оглядел собравшихся строгим взглядом из-под насупившихся бровей. А голос чтеца звучал и звучал, студенты клали земные поклоны. И чем дальше длилась молитва, чем мягче становился учительский взгляд и при заключительных словах песнопения уже улыбка сияла на его лице.
– Пришел было с вами браниться, да уж Бог простит, – вздохнул он и, низко поклонившись, вышел из комнаты.
Студенты не испытывали перед ним страха, не потому, что Горский потворствовал их слабостям, а что «страха несть в любви, но совершенна любы нон изгоняет страх».
Его любили не только за добрый нрав и энциклопедическую ученость, но и искреннюю глубокую религиозность, умильно-радостное внутреннее сияние во время богослужений. Многие москвичи специально приезжали на литургию в академическую церковь послушать, как ведет службу Горский, и посмотреть на его благообразный просвитерский лик.
Родился Александр Васильевич Горский 16 августа 1812 года в семье протоиерея кафедрального собора Костромы.
«Лета моего детства текли тихо, скромно, мертво. Меня не выводили ни в какое общество и я, до вступления в училище, жил как монастырка в своей келье».
В 1824–1828 годах учился в Костромской духовной семинарии.
«Буйные силы души моей прорывались, но скоро входили в границы, для них строго определенные».
С 1828 года учился в Московской духовной академии, которую окончил девятнадцати лет от роду.
«Всякий шаг в Академии делал я с робостью и довольно прошло времени, доколе я не вышел на круг более просторной и более свободной деятельности».
Преподавал около года в Московской духовной семинарии, а с 1833 года в Академии. В 1842 году принял должность академического библиотекаря и исполнял ее в течение почти двадцати лет.
«Рука устала, голова утомилась, глаза слипаются. День трудился, ночь на покой. Ныне вечером, приводя себе на память, что делал я днем, что-то неприятное я почувствовал, вспомнив, что сей день трудился только для себя, не имев случая добро сделать кому-нибудь. Едва родилась сия мысль, нашелся случай исполнить ее. Я услышал жалобу моего повара и, чем мог и знал, сделал пособие».
27 марта 1860 года рукоположен митрополитом Филаретом во священники и в том же году получил сан протоиерея.
По признанию митрополита Филарета, Горский был «святее монаха». Любил уединение, строго соблюдал все посты, с двадцати пяти лет не ел мяса. Имел лишь одну светскую привычку – курил дешевые сигары. Но и с ней покончил вскоре после посвящения в духовный сан. Митрополит Филарет не раз предлагал ему вступить в монашество, но Горский отказывался, ссылаясь, что иноческий сан отвлечет его от ученых занятий и отдалит от любимой Академии.
23 октября 1862 года определен ректором Московской духовной академии.
«Молился за вечерней в Троицком соборе. Мое любимое место здесь – стоять между стеною и правым клиросом, против мощей Преподобного. Много особенного возбуждается в душе предстоящего Богу в храме, где почивают останки какого-либо подвижника или страдальца».
Каждый день Горский вставал в пять часов утра и после чая садился за работу. Потом – богослужения, лекции, консультации. И вновь письменный стол. Заканчивал работу он уже глубокой ночью.
С шестнадцати лет до дня своей смерти Горский не расставался с Академией.
В субботу 11 октября 1875 года в шесть часов утра в академическом храме началась литургия. После причастного стиха священник со святой чашей в сопровождении дьякона и певчих проследовал в ректорский зал. Горский стоял у кресла, поддерживаемый двумя служителями, облаченный в белую ризу и епитрахиль. Прерывающимся от тяжелого дыхания голосом он произнес слова исповедания Тела и Крови Христовых, причастился и благоговейным взором проводил удалявшегося священника. Опустился в кресло. Певчие подошли к нему под благословение.
– Благодарю вас… Вы потрудились… Для меня…
В последний раз он поднял для благословения руку. Через несколько часов протоиерея Александра Васильевича Горского не стало.
«Научитесь от Меня, яко кроток и смирен сердцем» – это о Горском.
Искусство требует совести. Художник и реставратор Николай Иванович Подключников (1813–1877)
Болеет и дряхлеет не только человек, но и живописное полотно. Оно подвержено и шелушению, и вздутию грунта, и разрывам холста, и дефектам от неумелых поновлений. Чтобы лечить картину, надо в первую очередь, как и с человеком, установить причину болезни. Во-вторых, надо быть искусным и честным мастером, способным воссоздать утраченное, не привнося в работу отсебятины.
Одним из первых московских лекарей живописи и иконописи стал крепостной человек Шереметевых Николай Иванов. Читать и писать он научился у дьячка подмосковной Останкинской церкви, а рисовать – у отца и дяди. «Еще бывши мальчиком, – вспоминал он, – как-то в отсутствие дяди я догадался сделать трафарет для написания букв по бархату плащаниц и хоругвей. Придуманный мною способ оказался скорым, чистым и несравненно лучшим, нежели писать по бархату от руки кистью. Да сверх того, что делалось прежде одним человеком в полтора месяца, теперь делается одним в один же день… Восхищенный дядя подарил мне за находчивость четверку чая в 1 рубль 50 копеек ассигнациями».
Отец умер, когда Николаю не исполнилось еще и 20 лет, и Николай остался в семье с тремя младшими братьями и сестрой за главного кормильца. «Без средств, без достойного образования, – пишет его безымянный биограф, – без посторонней помощи, убитый горем и крайней нуждой, он терялся. Счастливый случай помог. Получен был заказ портрета за 5 рублей ассигнациями». Исполненный портрет заказчику понравился. К Николаю стали обращаться и другие господа, чтобы запечатлеть для потомков свое обличье. Появились и деньги, и местная слава. Молодому художнику льстили, но он удержался от самолюбования, понимая, что ему еще далеко до истинного мастерства.
Чтобы совершенствоваться в искусстве живописи, Николай с 1833 года стал посещать Художественный класс при Обществе любителей художеств. Там о его учебе сохранилась коротенькая запись: «Начал с гипсовых фигур и рисует с натуры». Завершая курс занятий, Николай написал картину «Вид церкви Василия Блаженного в Москве», за что получил от своего владельца графа Д. Н. Шереметева вольную и фамилию Подключников. Выбор фамилии был связан с тем, что прадед Николая, дворовый человек князя А. М. Черкасского Михаил Евдокимов, состоял у своего князя в подклюшниках(помощник ключаря, заведовавшего прислугой и съестными припасами).
Подключникову редко удавалось заниматься любимым делом – писать картины, какие вздумается. Ему нужно было кормить семью. Он зарабатывал тем, что копировал на заказ картины прославленных художников. Это поденное ремесло и привело его, в конце концов, в стан реставраторов и поставило его среди них на высшую ступень.
Летом 1853 года Подключникову доверили реставрировать иконостас Успенского собора Московского Кремля. Снимая со старинных икон слой за слоем поновления, он открыл уникальную первоначальную живопись. «При очищении образов, – рассказывал Подключников, – часто оказывается, что мастер при поновлении отдавался своему произволу, то переменяя положение руки изображенной фигуры, то увеличивая голову. А всего чаще случалось открывать разные цвета платьев и разные узоры парчи».
Он также отреставрировал иконы в Москве – в Архангельском соборе Кремля, церквях Спаса на Бору и Рождества Пресвятой Богородицы на сенях во Дворце, в покоях Романовского дворца, во Владимире – в Успенском соборе.
Подключников вывел на чистую воду многих псевдоиконописцев, обманывавших коллекционеров церковной старины. «За древние иконы, – возмущался он, – привыкли считать только потемневшие образа. И это понятие давало возможность самым плохим живописцам зарабатывать себе хлеб не совсем честно. Так они копировали на старых досках иконы, примешивая в краски разные снадобья, как-то шафран или крушину на воде. А потом покрывали подцвеченной олифой, ставили эти копии к печке, дабы они закоптели и приняли старый вид».
Подключников считал, что на реставрацию нельзя смотреть, как на ремесло. Она – настоящее искусство. К тому же требующее от мастера, кроме таланта и знаний, – совести. Ведь никто не догадается, что ты схалтурил, не стал осторожно снимать слой за слоем поновления, чтобы, может быть, обнаружить под ними настоящее искусство. Так, добросовестно расчищая однажды посредственную картину, он обнаружил под ней живопись итальянца Корреджо, одного из лучших представителей Высокого Возрождения, – Иосиф над яслями держит младенца Иисуса и с умилением смотрит на Него.
Подключникову приходилось реставрировать и современную живопись. Так, ему доверили восстановить пострадавшую от пожара картину Айвазовского «Буря на море». Тронутое огнем полотно покрывали тысячи пузырей. Казалось, ничего невозможно поправить, учитывая и то, что Айвазовский всегда наносил на холст очень тонкий слой краски. Но, как заверили специалисты, после долгой и трудной реставрации Подключникова «картина вышла из его рук, как будто из мастерской самого художника».
По вечерам, когда темнело, цвета на картинах искажались и их невозможно было профессионально реставрировать, Подключников усаживался за сочинение воспоминаний. Однажды ночью лампа на его столе разорвалась, он получил сильные ожоги и вскоре скончался. И хотя тайны своего мастерства он унес с собой в могилу, что было в обычае того времени, как завет продолжателям нелегкого мастерства реставратора, осталась память о его честном и добросовестном отношении к своей работе.
Вольтерьянец. Профессор зоологии Карл Францович Рулье (1814–1858)
Молодой московский чиновник, окончивший кое-как гимназию и не имеющий родственных связей в верхах, служил за полста рублей в месяц и был вечно в долгах портному, сапожнику, содержателю меблированных комнат, трактирщику. Встав в восемь утра, он выпивал стакан чая и спешил на службу, где околачивался с перекурами и пересудами до трех часов дня, пока начальство не покидало присутствие. Тогда, заняв у знакомого купца «красненькую» (десять рублей), он шел в трактир выпить бутылку вина на людях, а потом в театр.
Но если в долг не давали и карман был пуст, приходилось искать бесплатное развлечение. Например, разглядывать барышень, дефилирующих по Александровскому саду возле Кремлевской стены или заскочить эдаким пентюхом в залу Московского университета послушать ученую лекцию.
– Сегодня, – начинает профессор, – я расскажу вам об образе жизни и нравах животных. Вот эта кость ихтиозавра, что у меня в руке, бегала тысячи лет назад, и, изучая ее, мы поймем, какие изменения претерпели другие животные, те же собаки и лошади…
Молодой человек, надеявшийся попасть на что-нибудь животрепещущее, заскучал. Зачем изучать червяка или кобылу? Если уж тебе положено о животных говорить, то возьми за основу зоосад, где порядочная публика ходит лицезреть заморских тварей, а не рассуждай о скотном дворе, от которого за версту мужиком пахнет.
– Все животные, как и растения, – вдохновляется профессор, – образовались первоначально из клеточки и претерпели в течение многих тысяч лет громадные изменения. Легавая собака, например, и все домашние животные – это искусственное произведение, выведенное специально, как и кохинхинские куры.
Молодой человек встрепенулся: позвольте, так это же форменное вольтерьянство! В Священном Писании сказано: «И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся». А он какой-то немецкой эволюцией студентам головы морочит. Камушки показывает и утверждает, что это окаменевшие водоросли, которые во множестве разыскал в окрестностях Москвы. Так и я могу: возьму булыжник и стану утверждать, что это глаз китайского императора.
– Беспозвоночные ископаемые и окаменевшие водоросли, найденные мною в руслах рек, говорят, что раньше на месте Москвы плескалось море.
Молодой человек не мог дольше терпеть столь откровенного насмехательства над Книгой Бытия и пошел вон, удивляясь, как это Синод не одернет завравшегося лжеучителя. Ведь студенты ему верят, даже «браво!» кричат за то, что он своей наукой их души растлевает.
Но не только малограмотным обывателям претили слова и мысли Карла Францовича Рулье. Министр народного просвещения князь П. А. Ширинский-Шихматов, ознакомившись с двумястами двенадцатью страницами секретной переписки о его лекциях, отправил 18 января 1852 года циркулярное письмо попечителю Московского учебного округа В. И. Назимову, в котором требовал приостановить преподавательскую деятельность безбожного профессора. «Рулье, можно подумать, – иронизировал министр, – сам присутствовал при Творении – так уверенно излагает свою теорию».
Старое московское служилое дворянство, стоявшее на страже городского благочестия, страшилось науки, почитая ее за чернокнижие, и брезгливо морщилось: «Все это от немцев пошло». Оно не могло потерпеть утверждения, что у кошки тоже есть нервы, так как не находило их даже у мужика, считая сие привилегией своего сословия. Оно было возмущено требованием Рулье к Совету университета «сделать распоряжение о снабжении его, по крайней мере, одним трупом»; считало безнравственным, что на своей квартире профессор преподает акушерство особам женского пола; презирало его за то, что жил в неблагородной части города – возле постоялых дворов на Тверской-Ямской и, сидя на лавочке возле своего дома, курил и балагурил с мелкими торговцами. Но наступила вторая половина XIX века, и московские охранители нравов прошлого столетия более не могли сдерживать развитие естественных наук, от которых зависело благосостояние государства. Московскому университету необходимы были люди, подобные Рулье.
Родился Карл Францович 8 февраля 1814 года в Нижнем Новгороде, в семье француза-сапожника и его жены – повивальной бабки. Окончил Московское отделение Медико-хирургической академии и с 1833 по 1836 год служил лекарем в Рижском драгунском полку. В 1837 году, поселившись навсегда в Москве, он связал свою жизнь с преподавательской и научной работой.
Изложим по-студенчески, в виде краткого конспекта полезные начинания Рулье. Опубликовал более ста научных трудов, в частности книгу «О животных Московской губернии, или О главных переменах в животных первозданных, исторических и ныне живущих, в Московской губернии замечаемых. С разрезом почв, обнаруженных в окрестностях столицы», 1845 год. Организовал издание первого в России естественно-научного журнала «Вестник естественных наук». Учредил Комитет акклиматизации животных и растений. Пропагандировал достижения русского скотоводства и передовых методов искусственного разведения пород. Воспитал множество талантливых учеников из питомцев Московского университета и Медико-хирургической академии. Участвовал в составлении Академического словаря русского языка. Написал любопытные примечания к «Запискам об ужении рыбы» своего друга С. Т. Аксакова.
В часы досуга Карл Францович посещал кофейню Печкина возле Охотного рада, где любил покутить и сразиться в бильярд с артистами Малого театра Д. Т. Ленским, П. С. Мочаловым, П. М. Садовским. Однажды, возвращавшегося из кофейни, его настиг апоплексический удар на Тверской, возле дома генерал-губернатора. Рулье было всего сорок четыре года. «Все, что есть в Москве уважающего ум, благородство души и знание, – сообщали «Санкт-Петербургские ведомости», – собралось у гроба этого знаменитого профессора».
«Как могло случиться, – удивляется биограф знаменитого зоолога С. Р. Микулинский, – что ученый такого таланта и человек такой души, которым мы вправе гордиться, был в XX веке почти совсем забыт и память о нем начала восстанавливаться только в конце 40-х годов? Объяснить это можно, но мириться с этим нельзя. Будем надеяться, что случай с памятью о К. Ф. Рулье послужит нам и будущим поколениям уроком. Уроком того, что забывая прошлое, мы не столько пренебрегаем им, сколько духовно обедняем самих себя».
Гаргантюа на русский манер. Поэт Петр Васильевич Шумахер (1817–1891)
Москва знавала многих литераторов. Тем, кто поизвестнее, поставила памятники и основала музеи, менее значительных отметила мемориальными досками и сборниками сочинений в издательстве «Московский рабочий». Таких же, как Петр Васильевич Шумахер, вовсе позабыла.
В творчестве Шумахера можно отыскать несколько стихотворений, удивительных для XIX века по глубине иронии и сатирической смелости.
Народу объявлен Манифест об освобождении крестьян. Вся передовая интеллигенция России ликует. Даже вечный злопыхатель Герцен склоняет голову перед столь решительным деянием царя-освободителя. Только веселый и беззаботный Шумахер посмеивается:
Тятька, эвон что народу
Собралось у кабака:
Ждут каку-то все свободу,
Тятька, кто она така?
Цыц! Нишкни! Пущай гугорют,
Наше дело – сторона;
Как возьмут тебя да вспорют,
Так узнаешь, кто она.
В 1877 году началась Русско-турецкая война. «В бой! За славян!» – несется со всех сторон. Студенты и чиновники записываются в добровольцы, купцы жертвуют миллионы, великие княгини щиплют корпию для лазаретов. Только полунищий неунывающий Шумахер язвит:
Невдалеке от Бологоя
Два встречных поезда свистят.
В одном быков шлют для убоя,
В другом – на бой везут солдат.
Сын датчанина и белорусски, Шумахер в 1835 году окончил Санкт-Петербургское коммерческое училище, прекрасно знал не только физику и математику, но и древние языки, свободно владел немецким, английским, французским и итальянским языками. Несмотря на обширные знания, полученные в юные годы, в старости он вспоминал отнюдь не свои победы на поприще науки:
И только голые березы
Напоминают мне те лозы,
Что вызывали вопль и слезы
Лет шестьдесят тому назад.
Около двадцати лет Шумахер прослужил в Сибири, в канцелярии генерал-губернатора края и управляющим золотыми приисками, получая и проматывая солидное жалованье. Потом женился, попутешествовал за границей, пожил в Нижнем Новгороде и Петербурге, развелся. Наконец, оставшись без гроша и без угла, поселился в Москве, вернее, стал кочевать по городу, живя у друзей и получая 150 рублей жалованья в год, как артист Артистического кружка.
Я трясся в колеснице Феба
По трактам грязи и глуши,
И не нашел я корки хлеба
Для голодающей души!
Садилось солнце жизни бледной,
Когда вернулся я в Москву,
И вот я, немощный и бедный,
Склоняю гордую главу.
Всю жизнь Шумахер чудил, тратил деньги на женщин и кутежи, обпивался и объедался, потешал собутыльников полупристойными и вовсе непристойными шутками. Не изменил он себе и в Москве. За чудачества и веселый нрав его признали достопримечательностью города. Множество историй рассказывали о нем москвичи, им не приходилось даже привирать, до того колоритен был Шумахер сам по себе.
Водку он пил большими чайными стаканами. Со своими друзьями, фотографом Брюн де Сент Ипполитом и доктором Персиным, в один присест опорожнял четверть ведра. Притом пьяным он никогда не становился, а лишь расцветало его красноречие.
Съесть этот высокий толстый барин мог неимоверное количество еды, в чем с ним могли соперничать только немногие московские купцы с бездонными желудками.
Плохой приятель медицины,
Я ем по случаю жары
Заместо пурганца и хины
Звено соленой осетрины
И с луком паюсной икры.
От всех болезней Шумахер считал лучшим лечением баню. В Сандуны он отправлялся обстоятельно – на весь день. На полке в парилке выпивал бутылку ледяного кваса и отдавал себя в руки двух самых выносливых банщиков, которые долго охаживали его вениками. Потом спал в предбаннике, положив веник под голову, и процедура лечения вновь повторялась.
Шумахер был большим циником, не стеснялся говорить непристойности в присутствии женщин. Он даже хотел вырезать на своем самоваре загадку: «У девушки, у сиротки, загорелося в середке, а у доброго молодца покапало с конца». Медник отказался исполнять столь скабрезную работу.
Даже в самые сильные морозы на улицу он выходил без шубы и пальто – в одном сюртуке. Весь же домашний костюм его состоял из длинной женской рубашки.
Шумахер очень любил врать. И если замечал, что его болтовне кто-то начинал верить, то одурачивал простака и поднимал его на смех.
Ссорился он часто как с приятелями, так и с малознакомыми людьми. Раз в гостях Афанасий Фет, любивший вкусно закусить, обиделся, что Шумахер съел всю бывшую на столе зернистую икру. Шумахер узнал об этом и написал на почтенного поэта несколько злых эпиграмм, после которых они оставались врагами до конца своих дней…
Но пора остановиться на изображении низменной жизни Шумахера. Что же было положительного в этом тучном бездельнике? Да именно то, что он не был бездельником! Большинство москвичей наблюдали жизнь Шумахера на виду, на людях. Другая, настоящая жизнь поэта проходила в комнате, где он жил и где всегда был идеальный порядок. Богатые друзья, в том числе К. Т. Солдатенков и П. И. Щукин, присылали ему целые ящики книг, Шумахер проглатывал их, делая многочисленные записи, и аккуратно возвращал. Среди его близких друзей, кроме двух уже названных, можно назвать писателя Тургенева, который издал за границей два томика стихотворений Шумахера, переводчика Шекспира Н. X. Кетчера и московского гражданского губернатора В. С. Перфильева, у которых он подолгу квартировал, историка И. Е. Забелина, доктора П. Л. Пикулина, автора замечательных юмористических рассказов И. Ф. Горбунова. Подружился Шумахер и с графом С. Д. Шереметевым и последние четыре года прожил в его Странноприимном доме у Сухаревой башни, наконец-то заимев собственное жилье.
Скончался Петр Васильевич 11 мая 1891 года на 74-м году жизни и был похоронен, согласно завещанию, в усадьбе Кусково, возле Оранжерейного флигеля, где проводил летние досуги последних лет. Большая часть его творчества так и осталась неизданной. Но Шумахер, кажется, не особенно горевал об этом. У каждого своя жизнь и свой взгляд на нее.