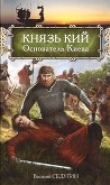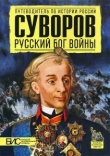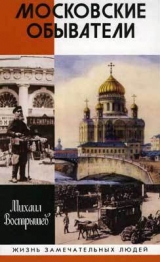
Текст книги "Московские обыватели"
Автор книги: Михаил Вострышев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 30 страниц)
Умудренный жизнью. Чаеторговец Петр Петрович Боткин (1831–1907)
В 1638 году посольство царя Михаила Федоровича во главе с Василием Старковым вернулось из Монголии с подарком от Алтын-хана – тремя пудами чая, развешенного в двести бумажных пакетов. Хоть и опасался царского гнева, но Старков все же вручил государю странную траву. Но настоянный на ней горячий напиток при царском дворе понравился, его стали применять в лечебных целях, и постепенно он вошел в моду. По прошествии ста лет чай уже получил важное значение в торговле России с Китаем.
Переселившийся в начале XIX века в Москву зажиточный крестьянин Псковской губернии Петр Кононович Боткин (1781–1853) быстро смекнул, что здесь во главе всех напитков стоит чай. Чаем, а отнюдь не шампанским, большинство обывателей вспрыскивали удачную покупку или сделку. Его пили с солью, малиной, сливками, душистыми травами и кислыми яблоками. У большинства москвичей самовар весь день не сходил со стола, его даже брали с собой на загородные гулянья. Появилась специальная терминология: «чаи гонять» (подолгу сидеть за самоваром), «растопить пятиалтынный» (пить чай в трактире), «подносный чай» (презрительное название плохонького чая на светских вечерах).
Петр Кононович вместе с братом Дмитрием основал одну из первых чайных фирм. Они вели дела непосредственно с Китаем, поставляя туда в обмен сукно. Дело шло в гору и было продолжено после смерти братьев товариществом «Петра Боткина сыновья».
Все девять сыновей и пять дочерей Петра Кононовича жили на удивление дружно. «Семья поражала своей редкой сплоченностью, – вспоминал Н. А. Белоголовый, – тесным единодушием. На фамильных обедах нередко за стол садилось более тридцати человек домочадцев».
Поражали братья Боткины и своими талантами: Василий (1811–1869) – участник кружка Станкевича, автор «Писем об Италии» и свыше восьмидесяти статей по вопросам торговли, философии и искусства; Дмитрий (1829–1889) – председатель Московского общества любителей художеств, владелец великолепной картинной галереи западноевропейской живописи; Сергей (1832–1889) – знаменитый врач, ученый и общественный деятель; Михаил (1839–1914) – академик живописи, автор книги «А. А. Иванов, его жизнь и переписка», коллекционер произведений античного и средневекового искусства. Их имена часто мелькают в исторических исследованиях, посвященных истории русской науки и искусства второй половины XIX века, в энциклопедических словарях. А вот Петра упоминают гораздо реже братьев, вернее, почти вовсе нигде не встретишь его имени. Такова судьба многих русских людей, не проявивших своих талантов на ниве науки или искусства, но взваливших на свои плечи многочисленные заботы о близких, родных и даже о вовсе не знакомых людях.
Петр Петрович Боткин родился в 1831 году и после смерти отца сначала с братом Дмитрием, а после и его смерти с племянником Петром Дмитриевичем и зятьями Н. И. Гучковым и И. С. Остроумовым управлял товариществом чайной торговли «Петра Боткина сыновья».
К Петру Петровичу от отца перешла знаменитая усадьба Боткиных по Петроверигскому переулку, где подолгу жили или часто бывали в гостях В. Г. Белинский, И. С. Тургенев, Т. Н. Грановский, А. А. Фет, А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Н. В. Гоголь, М. С. Щепкин, П. С. Мочалов, А. В. Кольцов, Н. А. Некрасов, А. Н. Островский, Л. Н. Толстой.
Коммерции советник Петр Петрович Боткин был основой благосостояния как своих трех дочерей (Анны, Надежды и Веры), так и семей большинства братьев. Например, после смерти Сергея он взял на свое попечение его вдову и семерых детей.
Петр Петрович имел представителей своей чайной фирмы в Кяхте, а в Москве три магазина для розничной торговли чаем: на Тверской, Кузнецком Мосту и на Ильинке. Он основал самостоятельное сахарное предприятие и завел свекловодческие плантации. Был гласным Московской думы в 1870—1880-х годах, членом Московской купеческой управы и Московского биржевого комитета.
Двадцать три года Петр Петрович состоял старостой Косма-Дамианского храма на Покровке и постоянно благоукрашал его за свой счет. Многие другие храмы России получали его доброхотные пожертвования. Его стараниями были возведены православные храмы даже там, где он ни разу не бывал – в Польше, Японии, Америке, Палестине. Каждый день Петра Петровича – это усердные труды по купеческим, семейным и благотворительным делам.
Что еще добавить?.. Скончался на семьдесят седьмом году жизни и похоронен на кладбище Покровского монастыря.
Кем он был?.. По словам художника М. В. Нестерова, практиком, умудренным опытами жизни. И если память о нем где-то и сохранилась, то лишь у потомства некогда знаменитой семьи Боткиных.
Газетчик. Издатель и репортер Николай Иванович Пастухов (1831–1911)
В Москве в конце XIX века газету можно было выбрать по своему вкусу. Официальные «Московские ведомости» читали особы, приближенные к генерал-губернатору. Либеральные «Русские ведомости» – интеллигенты-разночинцы. Скучноватое «Русское слово» – профессора Московского университета. Была любимая газета и у простого люда – торговцев, ремесленников, мелких служащих – «Московский листок».
«В жилу попал, – завистливо говорили о ее редакторе и издателе Н. И. Пастухове купцы, – миллионное состояние газетой нажил». И тут же боязливо разворачивали «Московский листок» на рубрике «Советы и ответы»: «Не прохватил ли меня? Не дай-то Бог, а то вся коммерция нарушится».
Газета имела самое большое количество подписчиков, всегда выходила в срок, издавалось множество иллюстрированных приложений, выполненных на самом высоком полиграфическом уровне.
«Заслуга Пастухова огромная – он выучил Москву читать, – вспоминал известный репортер «Московского листка» Владимир Гиляровский. – Это самый яркий из всех чисто московских типов за последние полстолетия».
Родился Николай Иванович Пастухов в 1831 году в городе Гжатске Смоленской губернии в бедной семье и получил самое элементарное, поверхностное образование. Несмотря на это, он пристрастился к чтению и даже делал робкие попытки сам писать. С юных лет вынужденный зарабатывать на жизнь, он служил сидельцем в винной лавке, рассыльным на московском почтамте, выступал фокусником в балаганах за Пресненской Заставой. В своих стихах он признавался:
Скучно, братцы, в службе этой
Путешествовать с сумой
И в сторонке беспросветной
Собеседовать с бедой.
Его неукротимый нрав жаждал бурной деятельности, большого дела. Но Пастухов пошел не по торговой части, где быстро можно было заработать большие барыши, а выбрал одну из самых безденежных профессий – репортер. «Русские ведомости» и «Современные известия» с удовольствием публиковали его корреспонденции, в которых было главное – любопытный факт, точность, краткость, оперативность. Подрабатывал и для «Петербургского листка». Его редактор А. А. Соколов вспоминал:
«По приезде в Петербург Пастухов зашел ко мне в редакцию и предложил свои услуги.
– Если только вы ограничитесь передачей фактов, я буду печатать с удовольствием.
– Да уж философствовать не буду.
– В таком случае пишите. Гонорар у нас – три копейки».
И он писал, перебивался случайными заработками.
С квартиры выгнали, в другую не пускают,
Все говорят, что малый я пустой.
Срок паспорта прошел, в полицию таскают,
Отсрочки не дают без денег никакой.
Была у Пастухова заветная мечта – начать издавать свою газету. Его поднимали на смех: «Да кто ты такой, чтобы тебе разрешили?! Да где ты денег достанешь?!» И никто не мог поверить своим глазам, когда 1 августа 1881 года появился первый номер пастуховского «Московского листка». О новой газете, как и о жизни ее редактора, ходило множество рассказов и легенд, в которых действительность перемешана с вымыслом.
Рассказывали, что генерал-губернатор князь В. А. Долгоруков часто выезжал на пожары и бойкий репортер Пастухов, всегда первым оказывавшийся там, старался попасться ему на глаза, а потом в «Русских ведомостях» писал: «Тушением пожара лично руководил его сиятельство, господин московский генерал-губернатор, благодаря энергичной и умелой распорядительности которого скоро удалось обуздать разбушевавшуюся огненную стихию».
Князь стал замечать льстившего его самолюбию репортера и даже удостоил его разговором. Вот тогда-то в ответ Пастухов бухнулся в ноги:
– Ваше сиятельство! Помогите! Явите божескую милость.
Смущенный князь попросил его встать, выслушал мечты о газете, ласково потрепал по плечу, пообещал помочь и помог.
Другие предания связывают появление газеты с министром внутренних дел, с которым подружился Пастухов в Нижнем Новгороде на ярмарке, с иными высокопоставленными чиновниками.
Газета сразу же стала любимицей москвичей. Она была как никакая другая насыщена городскими новостями, слухами, разносными статьями о взяточничестве, спекуляции, оскорблениях простого люда. Редактор учел даже то, что после прочтения газета будет использована курильщиками, и выпускал ее на специально пригодной для самокруток бумаге. Два раза в неделю стали появляться главы лубочного романа Пастухова «Разбойник Чуркин» – о русском Робин Гуде. Чуркин для московских обывателей, еще вчера презиравших чтение, стал любимым героем, и они с нетерпением ждали следующих приключений. Но тут автора нашумевшего романа вызвал к себе редактор «Московских ведомостей» М. Н. Катков, у которого Пастухов служил одно время репортером и до сих пор благоговел перед маститым издателем и публицистом.
– Какие ты там у себя безобразия печатаешь? Говорят, всю Москву всполошил. Детишки в Чуркина играют. Ты это брось!
– Помилуйте, Михаил Никифорович, да это же мой кормилец.
– И все-таки брось. Нехорошо.
– Из-за него газета пошла.
– Ты своим Чуркиным потакаешь дурным инстинктам. Брось!
– Да как же на середине бросать?
– Где сейчас твой разбойник?
– Его полиция схватила, а он отбился – и в лес.
– Вот и отлично. Придави его деревом, и конец!
В ближайшем номере «Московского листка» удрученный автор придавил своего любимца могучим деревом. Тираж газеты сразу резко упал. Но ее редактор нашел выход. Он пригласил к сотрудничеству своего давнего друга адвоката-златоуста Ф. Н. Плевако, историка Е. В. Барсова, публициста Ф. А. Гилярова. Он не жалел денег для талантливых репортеров и фельетонистов И. Горбунова, Н. Лейкина, В. Гиляровского, В. Дорошевича, А. Пазухина. У газеты появились собственные корреспонденты не только в больших российских городах, но и за границей.
Сотрудники «Московского листка» были для Пастухова самыми близкими людьми. Они могли всегда попросить у него аванс в несколько сот рублей, помочь выкарабкаться из щекотливого положения, поговорить по душам. Да и сам редактор, хоть уже ворочал миллионами рублей, имел в друзьях все московское начальство и даже сиживал за одним столом в Париже с президентом французской республики, продолжал писать репортажи под псевдонимами Дедушка с Арбата, Старый Знакомый и Философ с Откоса. Посылая корреспонденции с Нижегородской ярмарки, он потом, как и другие газетчики, в гонорарный день являлся в контору, получал построчную плату и кряхтел – жаловался, что на старости лет стал мало зарабатывать. Ему до конца дней приятно было ощущать себя обыкновенным репортером, который за заметкой в пять-шесть строк может отшагать по Москве десять – пятнадцать верст. Не брезговал он, конечно, и другими жанрами, издав несколько книг собственного сочинения, и среди них замечательную о быте старой Москвы – «Очерки и рассказы Старого Знакомого» (1879 г.).
28 июля 1911 года, не дожив трех дней до тридцатилетия «Московского листка», восьмидесятилетний легендарный московский газетчик умер. О нем написали несколько прочувственных некрологов и постепенно стали забывать. Увы, такова участь большинства из тех, кто работает на потребу дня. Но именно благодаря их любви к своему делу в начале XX века Россия могла похвастаться множеством первоклассных по мировым меркам газет. И не только в столицах, но и в провинции.
… Когда в квартире Пастухова (она помещалась в том же здании, где и редакция газеты) случился пожар, его не было дома. Прибыв наконец на место происшествия, он первым делом заглянул в редакцию и осведомился:
– Не опоздаем из-за пожара с номером?
И лишь получив отрицательный ответ, бросился в свою догоравшую квартиру.
В царстве, похожем на рай. Главный садовник Ботанического сада Московского университета Густав Федорович Вобст (1831–1895)
Москвичи любили природу и перекраивали ее на свой лад, для пользы тела и души. Уже в XIV веке сады становятся гордостью и ощутимой ценностью юного Московского княжества. Святитель Алексий, митрополит Московский, в своей духовной упомянул: «А садец мой подольный [8]8
Подол – так называли левый низменный берег Москвы-реки.
[Закрыть]святому Михаилу» [9]9
То есть Чудову монастырю (Чуда Архангела Михаила в Хонех).
[Закрыть]. Уже в начале XV века Кремль был окружен садами, в которых произрастали яблони, кедры, орешник. В XVI веке вся Москва утопала в садах, и в «Домострой» были включены правила, «как огород и сад водити». Сад в воображении старомосковских жителей представлял собой «некий рай»; его многоликость, тишина и разноцветная живописность вызывали душевный восторг, преклонение перед величием и мудростью природы. Москвичи, как и жители Древнего Египта или средневековой Европы, населяли сады мифическими героями и колдунами, сочиняли романтические легенды о якобы случавшихся здесь происшествиях.
К концу XVI века на Боровицком холме появились аптекарские огороды (ботанические сады), где, кроме традиционных для Москвы фруктовых деревьев и ягодных кустов, произрастали арбузы, дыни, финики, грецкий орех, лекарственные травы, пряности. В 1706 году по указу Петра I для военного госпиталя в Лефортове был основан аптекарский огород к северу от Москвы. В 1805 году он перешел в ведение Московского университета и стал называться Ботаническим садом. Ныне его официально именуют филиалом Ботанического сада МГУ (проспект Мира, 26). Своей славой, которая в XIX веке разнеслась не только по России, но и по Европе, он обязан ученым-садоводам Т. Герберу, Ф. Стефану, Г. Гофману, Д. Григорьеву, Н. Кауфману, И. Чистякову, И. Горожанкину, а также богатым дворянам и купцам, делившимся с университетским садом редкими растениями своих усадебных оранжерей. Сад – не дикая природа, он – творение человеческого ума, души и рук. Поэтому в нем часто, как в зеркале, отражаются характеры его создателей. Расскажем об одном из них, четверть века занимавшем должность главного садовника Ботанического сада.
Густав Федорович Вобст родился в имении Гейда, близ города Вурцена в Саксонии. В четырнадцать лет он поступил учиться в садовое заведение Ф. Шумана под Лейпцигом, где пробыл пять лет. Потом еще три года учился в садовом училище К. Вагнера в Лейпциге. Усвоив премудрости садового искусства, Вобст два года провел в садовом питомнике Э. Либиха в Дрездене, после чего в конце 1855 года уехал в Санкт-Петербург заведовать оранжереями графа К. В. Нессельроде. С 1857 года он стал заведовать садовым хозяйством великой княгини Елены Павловны. Но свое постоянное пристанище Вобст обрел в 1865 году в Москве, когда был приглашен преподавать в недавно открывшуюся Петровскую сельскохозяйственную и лесную академию (ныне Сельскохозяйственная академия имени К. А. Тимирязева). С ноября 1870 года до дня своей кончины 2 октября 1895 года он прослужил в Ботаническом саду Московского университета.
Удивительное впечатление производила лютеранская церковь Петра и Павла 5 октября 1895 года. Предалтарная часть храма была превращена в роскошный тропический сад. Сам же гроб Вобста утопал в роскошных венках, возложенных его учениками и коллегами. Особенно часто встречались орхидеи – любимые цветы университетского садовника. Многие жалели, что из-за сурового московского климата их нельзя высадить на могиле покойного, которого похоронили на кладбище Введенских гор. Вся его жизнь прошла в разноцветном царстве деревьев, трав и цветов. Он, можно сказать, не вылезализ теплиц и оранжерей, превратив университетский сад в райские кущи растений всех широт и поясов мира. Вобст выписывал диковинные семена и саженцы из заграницы, приобретал их у российских садоводов, занимался учеными исследованиями, пытаясь разнообразить флору московских окрестностей. Постоянно живя в мире красоты, он всегда был добр, любезен и отзывчив к окружавшим его людям, бескорыстно делился с ними своими знаниями и опытом. Перечислять его повседневные труды – чистка прудов, дренирование почвы, устройство обходных дорог и тропинок и т. п. – дело скучное. Зато, когда представишь, что он был ежедневно окружен царством орхидей, агав, олеандров, пальм, что он жил в феерическом мире, созданном дружеским соучастием природы и человека, становится завидно.
Сад посреди Москвы —
как сбывшееся чудо,
не устремленный ввысь,
но распростертый вдаль.
И в нас опять шумят реликтовые чувства —
надежда и любовь,
отрада и печаль.
Владимир Костров «Ботанический сад МГУ»
По своей неразумности нынче мы завидуем людям денежных суетных профессий – министрам и депутатам, ловчилам нефтяного и газового бизнеса. А те из них, кто поумней и не страдает ненасытной жадностью личного обогащения, наверное, с безысходной грустью завидуют профессии Густава Федоровича Вобста.
Скромная жизнь и громкая слава. Директор Московского учительского института Александр Федорович Малинин (1834–1888)
До XVIII века занятия русских людей математикой не выходили за рамки арифметического счисления во время торговых сделок и начаток геометрии для нужд земледелия. Лишь в 1701 году государство впервые решило всерьез заняться изучением точных наук, учредив для сего дела в Москве специальную школу. Спустя два года появился и первый учебник – «Арифметика, сиречь наука числительная» Магницкого. Но даже в середине XIX века, когда Россия уже могла гордиться такими замечательными математиками, как Н. И. Лобачевский и П. Л. Чебышев, учебники Буссе и Погорельского, по которым изучали арифметику и геометрию, заставляли желать лучшего. Тригонометрию и вовсе не по чему было учить, оставалось только записывать за учителем.
В 1860-х годах наступил переворот в народном просвещении – переход к более живому преподаванию учебных предметов. Но как быть с одной из самых строгих наук – математикой? Как добиться в ее изложении ясности мысли и простоты слога? Чиновникам Министерства народного просвещения недолго пришлось ломать голову над этой проблемой – скоро стали появляться учебники А. Ф. Малинина, и проблема отпала сама собой. Его книги «Руководство арифметики», «Руководство тригонометрии», «Собрание арифметических задач» и еще целый ряд, благодаря ясности изложения и общедоступности, вьщержали каждая не менее десяти изданий, стали примером и источником для учебных пособий XX века.
Их автор Александр Федорович Малинин родился в 1834 году в здании Третьего московского уездного училища у Красных Ворот, где служил смотрителем и квартировал его отец. Сын поступил во Вторую гимназию на Разгуляе, а по смерти отца был переведен на полный пансион в Первую гимназию, которую и окончил с золотой медалью. Золотой медали удостоил его и Московский университет по окончании в двадцатилетнем возрасте физико-математического факультета. Шестнадцать лет преподавал Александр Федорович в гимназиях, пока не был в 1872 году назначен директором Московского учительского института, располагавшегося в тихом Замоскворечье и готовившего из детей провинциальных мещан, крестьян и мелких чиновников народных учителей. Жил Малинин неподалеку, в собственном доме на Полянке, в приходе Спасской, что в Наливках, церкви, все свободное время посвящая сочинению новых и усовершенствованию уже изданных своих учебников. Так и закончилась скромная его жизнь за работой над очередной книгой 24 февраля 1888 года. Она не была богата внешними событиями, но много ли наберется людей, о которых после смерти скажут гордые слова: «Вся грамотная Россия училась и учится по всем отраслям математики в низших и средних учебных заведениях по его учебникам»?
Запоздалый некролог. Купец Николай Александрович Найденов (1834–1905)
Даже умирать надо – и то вовремя. Когда 28 ноября 1905 года Н. А. Найденов покинул бренную землю, большинству друзей было не до него – по всей России расползались самосуды, убийства, грабежи помещичьих усадеб. В Москве бастовали официанты, почтово-телеграфные служащие, фабричные рабочие. Горели подмосковные дачи, Ф. И. Шаляпин исполнял на концертах «Дубинушку», новый генерал-губернатор Ф. С. Дубасов каждодневно арестовывал по нескольку десятков человек. Лишь в две-три строчки появилась в газетах информация о кончине «одного из главных представителей торгово-промышленной Москвы». Статей же о нем с изложением биографии и характеристики деятельности, как полагалось для людей подобного ранга, не появилось вовсе. Придется спустя почти сто лет восполнить этот пробел в истории московского купечества и составить некролог, достойный памяти известного негоцианта.
Фамилия Найденовых произошла от прозвища Найден, его предки были крепостными крестьянами, занимаясь хлебопашеством в селе Батыево Суздальского уезда Владимирской губернии. Дед Николая Александровича, Егор Иванович, родился в 1745 году и в 1764 году пришел в Москву, где основал благосостояние своей семьи. Он заимел собственную красильню и в 1816 году был записан в московское купечество по третьей гильдии. Отец, Александр Егорович, родился в 1787 году, а в 1828 году вступил в брак с Марией Никитичной, урожденной Дерягиной. Николай, появившийся на свет 7 декабря 1834 года, был третьим ребенком в семье и имел старших брата Виктора и сестру Анну и младших Александра и Ольгу.
Жили Найденовы в собственном доме с садом на берегу Яузы, в Сыромятниках, недалеко от храмов Ильи Пророка и Святой Троицы. Сначала Николая обучала мать, а 15 апреля 1844 года его отдали в лютеранское училище при церкви апостолов Петра и Павла (Космодемьянский переулок), куда двумя годами раньше поступил его старший брат. Половину учеников составляли московские немцы-лютеране, половину – православные русские. «Я принадлежал там, – вспоминал Николай Александрович, – к числу самых смирных учеников и не подвергался никогда никаким наказаниям». Его обучали немецкому, французскому и английскому языкам, истории, географии и точным наукам, рисованию, физике и «купеческой арифметике», то есть торговому ремеслу.
Окончив училище 27 августа 1848 года, Николай Александрович стал помогать отцу в красильне, женился 12 января 1864 года на В. Ф. Росторгуевой, и в этом же году 7 декабря, пережив жену на десять лет, умер его отец. С тех пор Николай Александрович становится главой текстильной фирмы «А. Найденов и сыновья» и начинает заниматься сословной деятельностью. С 1865 года он – гильдейский староста в Московской купеческой управе, с 1866-го – гласный Московской думы от купеческого сословия и член Московского отделения Коммерческого совета, в 1870-м стал выборным Московского биржевого общества, в 1871-м – одним из учредителей и председателем Московского торгового банка, почетным мировым судьей, в 1872-м – членом Московского отделения Совета торговли и мануфактур, возведен в потомственное почетное гражданство, в 1874-м получает звание коммерции советника, в 1877-м избран председателем Московского биржевого комитета, в 1881-м – председателем Московского отделения торговли и мануфактур, в 1883-м – председателем попечительского совета основанного им Александровского коммерческого училища, почетным членом Археологического института, в 1896-м– членом Совета по учебным делам при Министерстве финансов.
В 1895 году, когда исполнилось двадцатипятилетие биржевой службы Н. А. Найденова, его поздравил император Николай II, отметив, что «состоя под вашим председательством в течение столь долгого времени, биржевой комитет первопрестольной столицы, этого главного средоточия русской торговли, был верным выразителем той заботливости о преуспеянии отечественной промышленности, которая всегда отличала московское купечество».
Свои досуги, отдыхая от коммерческой деятельности, Николай Александрович посвящал археографической и литературной деятельности. Им издано двенадцать томов сборников «Москва. Актовые книги XVIII столетия» и четырнадцать томов «Материалов для истории московского купечества», написаны историческое исследование «Московская биржа. 1839–1889» и два тома мемуаров «Воспоминания о виденном, слышанном и испытанном»…
«Жило в нем большое московское купеческое самосознание, но без классового эгоизма, – вспоминал В. П. Рябушинский. – Выросло оно на почве любви к родному городу, к его истории, традициям, быту. Очень поучительно читать у Забелина, как молодой гласный Мос. гор. Думы Н. А. Найденов отстаивал ассигновки на издание материалов для истории Москвы. Что-то общее чувствуется в мелком канцеляристе Забелине, будущем докторе русской истории, и купеческом сыне Найденове, будущем главе московского купечества».
Большинство дел и книг главы московского купечества ныне прочно забыто. Но остались так называемые «найденовские листы» – четырнадцать альбомов с 680 гравюрами и фотографиями, изображающими старую Москву. «Цель настоящего издания, – писал в предисловии к альбому фотографий приходских церквей и монастырей Н. А. Найденов, – состоит в сохранении на память будущему вида существующих в Москве храмов, не касаясь при этом нисколько того, какое значение последние имеют в отношении историческом, археологическом или архитектурном». В этом блестящем труде запечатлены навеки многие памятники каменной летописи Москвы, стертые с лица земли в немилосердном XX веке. «Не думаю, что в каком-либо другом городе мира, – писал П. А. Бурышкин, – были собрания такой же ценности исторических документов».
Похоронен Николай Александрович был в Покровском монастыре, на кладбище, которое, как бы в насмешку над предками, летом превращают ныне в гульбище, а зимой – в каток. И все же не пропала даром деятельность знаменитого московского купца, без его «найденовских листов», то есть фотографий храмов, торговых зданий, приютов и богаделен, не обходится ни одно иллюстрированное издание, посвященное истории Первопрестольной.