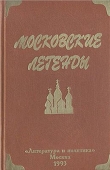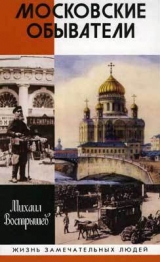
Текст книги "Московские обыватели"
Автор книги: Михаил Вострышев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 30 страниц)
Последний настоящий вельможа. Полководец, московский главнокомандующий князь Юрий Владимирович Долгоруков (1740–1830)
Коренные москвичи на рубеже XVIII–XIX веков, по европейским меркам, умирали рано. Половина из них не доживала до двадцати двух лет, еще четверть – до пятидесяти. Доживший до шестидесяти лет дворянин был исключением из общего правила и считался глубоким стариком. Поэтому умерший на девяносто первом году жизни князь Юрий Владимирович Долгоруков своим долгожительством вызвал всеобщее изумление. Учитывая то, что его бурная, а иногда и буйная судьба не предвещала долгих лет жизни. Уже в шестнадцать лет он участвовал в Семилетней войне и в сражении при Гросс-Егерсдорфе был тяжело ранен в голову. Пришлось делать трепанацию черепа, и юный князь чудом выжил. Позже он еще участвовал во множестве войн. Командовал Киевским полком в Цорндорфской битве (1758 г.), брал Берлин (1760 г.), крепость Швейдниц (1761 г.), воевал в Польше (1763–1764 гг.), командовал кораблем «Ростислав» в Чесменском сражении, участвовал в осаде Очакова (1788 г.), разбил турецкое войско под Кишиневом (1789 г.)…
В 1790 году в чине генерал-аншефа вышел в отставку и поселился в Москве, где и прожил, за исключением небольших отлучек в Петербург, последние сорок лет жизни. Пытались то Екатерина II, то Павел I приласкать родовитого вояку, призывая вновь на царскую службу, но князь был строптив, презирал царских фаворитов и не прижился при императорском дворе. «Теперь, на семьдесят седьмом году, – признавался он, – начал я чувствовать, что уже силы мои ослабевают… Я всю мою жизнь единственным предметом имел быть полезным, честно век провести, ни в чем совестью не мучиться, благодарить Всевышнего, яко всеми деяниями управляющего, и просить спокойного конца и жизни вечной».
Боевой генерал, кавалер ордена Святого апостола Андрея Первозванного, прямой потомок в мужском колене князя Рюрика и святого князя Владимира Ю. В. Долгоруков поселился в большом собственном доме на Большой Никитской [1]1
Этот дом не сохранился, на его месте дом № 54 по Большой Никитской улице.
[Закрыть]улице. Он редко выезжал за ворота и ни у кого не бывал с визитами, но вся сановитая Москва считала своим долгом посещать его с поздравлениями в высокоторжественные дни.
Князь славился как русский хлебосол. Ежедневно у него обедало не менее двенадцати человек гостей, объедавшихся, как и хозяин, кулебякой, бужениной, угрями, грибами и прочими полновесными блюдами. Конечно, русский обед сопровождался частыми возлияниями заморских вин. Когда гости расходились, бодрый старец брал в руки гусиное перо и аккуратным почерком, с соблюдением орфографии XVIII века, на полулистах толстой серой бумаги записывал для любимой дочери Варвары свои воспоминания о былом – о военных кампаниях, атаках, вылазках, штурмах…
Елизавета Петровна Янькова, тоже долгожительница (1768–1861), вспоминала о Ю. В. Долгоруком как об одном из последних истинных московских вельмож: «Дом князя Юрия Владимировича был на Никитской, один из самых больших и красивых домов в Москве. На большом и широком дворе, как он ни был велик, иногда не умещались кареты, съезжавшиеся со всей Москвы к гостеприимному хозяину, и как ни обширен был дом, в нем жил только князь с княгиней, их приближенные и бесчисленная прислуга. А на летнее время князь переезжал за семь верст от Москвы в Петровское-Разумовское, где были празднества и увеселения, которых Москва никогда уж больше не увидит…
На моей памяти только и были такие два вельможеские дома, как дома Долгорукова и Апраксина, и это в то время, когда еще много было знатных и богатых людей в Москве, когда умели, любили и могли жить широко и весело. Теперь нет и тени прежнего: кто позначительнее и побогаче – все в Петербурге, а кто доживает свой век в Москве, или устарел, или обеднел, так и сидят у себя тихохонько и живут беднехонько, не по-барски, как бывало, а по-мещански, про самих себя. Роскоши больше, нужды увеличились, а средства-то маленькие и плохенькие, ну, и живи не так как хочется, а как можется… Да, обмелела Москва и измельчала жителями, хоть и много их».
До конца своих дней старый князь не переменил моды XVIII века – пудрился и ходил в бархате и шелку. О нем говорили, что с первого взгляда можно было угадать – «это настоящий вельможа, ласковый и внимательный». Он жил при царствовании восьми императоров: Анны Иоанновны, Ивана IV Антоновича, Елизаветы Петровны, Петра III,Екатерины II,Павла I, Александра I, Николая I. И при каждом из них он именно жил, а не прислуживался, честно служил Отечеству, а не высочайшему двору, любил хлебосольную Москву, а не чиновничий Петербург.
Любитель древностей. Историк граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин (1744–1817)
Время от времени появляются скептики, сомневающиеся в подлинности сгоревшего в московском пожаре 1812 года единственного списка «Слова о полку Игореве». А вдруг разыскавший и опубликовавший этот величайший памятник древнерусской культуры граф Алексей Иванович Мусин-Пушкин совершил подлог? А дружки его – Н. Карамзин, Н. Бантыш-Каменский, А. Малиновский – помогали ему в сем непристойном деле?
За несколько месяцев до гибели Пушкин ответил первооткрывателям фальшивки кружка Мусина-Пушкина:«Некоторые писатели усомнились в подлинности древнего памятника нашей поэзии и возбудили жаркие возражения. Счастливая подделка может ввести в заблуждение людей незнающих, но не может укрыться от взоров истинного знатока».
Да, трудолюбивый ученый-скептик сличит между собой десятки экземпляров первого издания «Иронической песни о походе на половцев…», екатерининскую копию, переводы с подлинника; кропотливо исследует язык «Слова» и даже ошибки языка, упоминающиеся в тексте исторические факты…
Но все это – наука, которая требует обширных знаний и усердного труда. Ленивому же скептику, как, впрочем, и большинству любителей чтения, скучно да и сложно следить за рассуждениями о каких-нибудь палеографических особенностях погибшей рукописи.
Но мог ли пожелать собиратель русской старины Мусин-Пушкин подлога? Не противоречит ли сей поступок его натуре?..
Действительный тайный советник; Московского университета, Академии художеств, мастерской Оружейной палаты, Беседы любителей российского слова почетный член; Российской академии, Общества истории и древностей российских, Экономического собрания действительный член; орденов Святого Александра Невского, Святого Владимира большого креста 2-й степени и Святого Станислава кавалер граф Алексей Мусин-Пушкин побывал и церемониймейстером двора Екатерины II, и управителем Корпуса чужестранных единоверцев, и обер-прокурором Синода, и президентом Академии художеств. На службе он, зная иностранные языки, предпочитал объясняться на родном, постоянно обличал «вредную галломанию», за что имел немало неприятностей от придворных интриганов, но в то же время сыскал общее уважение и любовь у сослуживцев за свое «благорасположение к наблюдению истины».
Достигнув высших чинов и устав от придворной шумихи, Алексей Иванович поселился в родном городе, на Разгуляе, где сходятся Новая и Старая Басманные улицы, в собственном трехэтажном особняке с садом, через который протекала быстрая речка Чечера (московское предание упорно приписывает этот дом сподвижнику Петра колдунуБрюсу, занимавшемуся черной магиейв Сухаревой башне).
Знатный вельможа всецело предался любимому делу. «Изучение отечественной истории, – признавался он, – с самых юных лет моих было одно из главных моих упражнений. Чем более встречал я трудностей в исследовании исторических древностей, тем более усугублялось мое желание найти сокрытые оных источники, и в течение многих лет успел я немалыми трудами и великим иждивением собрать весьма редкие летописи и сочинения». Началом его коллекции послужил архив Крекшина, служившего комиссаром при Петре I. В ворохах купленных по дешевке бумаг, для хранения которых понадобилось несколько сараев, Мусин-Пушкин обнаружил Лаврентьевский список летописи Нестора – краеугольный камень всей дальнейшей русской историографии; журнал Петра в 27 книгах и многочисленные его собственные заметки; бумаги патриарха Никона, историка Татищева, многих иных церковных и государственных деятелей; древнейшие хартии, грамоты, письма…
С этих пор богатый вельможа стал страстным собирателем русской старины – без должности, без оклада, потому как был, по выражению историка генерал-майора Болтина, крайний древностей наших любитель.
При дворе Екатерины II дамы и господа переписывали друг у друга элегантные фразы Вольтера и Дидро, зубрили диалоги из пьес императрицы, а в сырых монастырских подвалах Киева, Москвы, Новгорода гнили непрочитанными сокровища нашей культуры. Невежественные чиновники жгли на кострах вместе с бесцельными казенными бумагами бесценные архивы. Мелочные торговцы завертывали клюкву и соль в печатные и рукописные старинные листы, коих прочесть не можно.
Мусин-Пушкин, муж, в древностях российских упражняющийся,ничего не жалея, собирал драгоценные остатки народного просвещения. В провинции он имел комиссионеров для покупки старинных рукописей. На ловца и зверь бежит.Когда стала известна его страсть, русские историки и императоры, настоятели монастырей и староверы, придворные чиновники и купцы стали приносить и привозить, продавать и менять, дарить и завещать ему отечественные древности.
Мусину-Пушкину удалось открыть список «Русской правды», «Поучения Владимира Мономаха», уже упоминавшуюся Лаврентьевскую летопись. Он опубликовал «Книгу Большому Чертежу», «Русскую правду», «Духовную Мономаха». Он обнаружил среди бесчисленных рукописных сборников «Слово о полку Игореве», сразу же понял его значение и издал в 1800 году, что было блестящим завершением патриотических усилий кружка Мусина-Пушкинав XVIII веке.
Он собирал по тем временам уж совсем бросовый товар – черновые рукописи поэтов, мемуары современников, письма, заразив своей страстью других подвижников.
Много трудов приложил он для подготовки словаря русского языка. Академическое собрание, натолкнувшись на древнее непонятное слово, то и дело записывало в своих решениях: «Просить о сем члена академии Алексея Ивановича Мусина-Пушкина, яко мужа, довольно искусившагося в древних российских летописях».
Он не был скрягой, эгоистом. Профессора Московского университета и многие обыденные любители чтения постоянно пользовались его сокровищами. Узнав о смерти Мусина-Пушкина, Карамзин, воспитанный на книгах и рукописях его коллекции, с грустью вспоминал: «Двадцать лет он изъявлял нам приязнь».
В собранных старинных рукописях русский граф дорожил не мертвой культурой, которую надобно безмолвно созерцать, а опытом, нравами, обычаями предков, мудростью, которая создавалась веками. Каждая строчка примечаний Мусина-Пушкина к публикуемым манускриптам являлась связующим звеном между прошлым и настоящим. К фразе «При старых молчати» из «Духовной великого князя Владимира Всеволодовича Мономаха своим детям» он дает пространное объяснение: «Долговременные опыты и многих лет учение, по пословице век живи – век учися,доставляют старикам преимущественное познание о вещах, благоразумие в рассуждениях и осторожность в определениях и в предприятиях; и для того юным советуют при старых молчати, рассуждений, советов, наставлений их слушать, обогащая через то свою память и ум вещами полезными и нужными».
И уж явные публицистические ноты, желание исправить существующий порядок и нравы звучат в комментарии к фразе: «В дому своем не ленитеся, но все видите – не зрите на тивуна…»: «Некоторые дворяне, живущие в деревнях своих, и купечество в малых городах живущее, по древнему обыкновению воспитанное, держатся еще сего правила, что, не полагался на управителей, сами за всем в дому своем смотрят; но в столицах и больших городах живущие, и по новому образцу воспитанные, а паче те, коим великия богатства от родителей в наследие достались, почитая такое упражнение для себя низким, вверяют свой дом и деревни в полное распоряжение управителям и дворецким, проводя время в праздности, в лености, в неге и роскоши; отчего нередко случается, что через несколько лет не остается уже чем управлять и распоряжаться ни им самим, ни управителям их».
Но народная беда – нашествие Наполеона – заставила Мусина-Пушкина забыть на время о старине. Граф отправился в свои поместья собирать ополчение для борьбы с врагом. Он выступал на сходках перед крепостными, объясняя им, что это не рекрутский набор, а «временное ополчение для устранения и изгнания неприятеля, злобно в любезное наше отечество вторгшегося».
Граф рассказывал крестьянам о своем семействе:
– Старший сын служит при дворе у государя, но поступил в Петербургское ополчение, на что я его и благословил вместе с крестьянами подаренной ему деревни, посоветовав не гнаться за чином, а служить простым офицером. Второй был отпущен за две тысячи верст лечиться к водам, но теперь я послал к нему нарочного, чтобы, не мешкая, возвращался и вступил в Ярославское ополчение. Третий малолетен. Я же немощен уже, но если необходимость потребует, то не только на службу, но и на смерть готов: мертвые бо срама не имут.
Пока старый граф собирал и вооружал ополчение, Наполеон вошел в Москву и по-хозяйски разместился в древнем русском городе. Подвалы знаменитого дома на Разгуляе, где хранилась лучшая коллекция российских древностей, были разграблены завоевателями. Огонь довершил начатое варварами зло. А через несколько месяцев в битве при Люнебурге был смертельно ранен картечью в голову двадцатипятилетний Александр Мусин-Пушкин, любимый сын Алексея Ивановича, незадолго до войны принятый в Общество истории и древностей российских. Ему отец хотел завещать продолжить свои труды по разбору коллекции.
Горе подкосило старика, он медленно умирал. Но еще долгих пять лет оставался все тем же добрым, хоть теперь и нелюдимым, барином, продолжал собирать и объяснять памятники древнерусской культуры. Подвалы его дома на Разгуляе, заново отстроенного, вновь стали заполняться книгами и рукописями.
Незадолго перед кончиной Мусин-Пушкин как бы подвел итог своей необычной по тем временам деятельности: «Любовь к Отечеству и просвещению руководствовали мною к собранию книг и древностей; а в посильных изданиях моих единственную имел я цель открыть, что в истории нашей поныне было в темноте, и показать отцов наших почтенные обычаи и нравы (кои модным французским воспитанием исказилися), и тем опровергнуть ложное о них понятие и злоречие».
Нет, не мог граф Алексей Мусин-Пушкин совершить подлог, не мог обмануть Отечество!
…И поныне в начале Елоховской улицы, на Разгуляе, стоит особняк любителя российских древностей (достроен в советское время четвертым этажом). Накануне 150-летия со дня рождения Мусина-Пушкина в 1894 году журнал «Русское обозрение» писал: «На стене его бывшего дома, где ныне помещается 2-я Московская гимназия, не мешало бы прибить доску с соответствующей надписью. Это воздаяние заслугам доблестного мужа послужило бы благим и назидательным примером для юношества, получающего воспитание в этом историческом доме».
Неизменным остается упование – прибить доску в память об усердном собирателе, исследователе и популяризаторе российских древностей.
Арест просветителя. Писатель и издатель Николай Иванович Новиков (1744–1818)
Князь Александр Александрович Прозоровский не любил Москвы, хотя императрица, поставив его главнокомандующим Первопрестольной, сразу же вручила и высшую награду России – орден Святого апостола Андрея Первозванного.
Князь куда больше дорожил первой наградой – орденом Святого Александра Невского. Тринадцать лет уже минуло с того дня, как в 1769 году он вплавь со своим отрядом перебрался через Днестр и смело гнал, рубил, полонил турок.
Гордился князь и «Георгием» третьей степени за покорение Крыма, полученным в год, когда московские мятежники поднялись на Чумной бунт. Пока они здесь, в своем якобинском городе, в злобе топтали и рвали верных государевых слуг, он проливал кровь за Отечество в войне с иноверцами.
Меньше ценил князь «Георгия» второй степени – награда досталась за наголову разбитое войско мятежного Батыр Гирея. Но если смотреть правде в глаза, кампания была не из трудных.
Прозоровский с завистью подумал о прежней военной службе, тогда он всегда чувствовал, где враг и как с ним поступить. В этом же пропахшем французской революционной заразой и раскольничьей ересью городе каждый день не похож на предыдущий, повсюду путаница, и не знаешь, откуда ждать неприятеля. На днях поймали студента с возмутительными стихами.
Цари! Я мнил, вы, боги, властны,
Никто над вами не судья,
Но вы, как я, подобно страстны,
И так же смертны, как и я.
И вы подобно так падете,
Как с древ увядший лист падет!
И вы подобно так умрете,
Как ваш последний раб умрет!
Воскресни, Боже! Боже правых!
И их молению внемли:
Приди, суди, карай лукавых
И будь един царем земли!
Отослали смутьяна, как полагается, в Тайную экспедицию для расследования. Так что ж?.. Оказалось, крамола – не крамола, а восемьдесят первый псалом, переложенный в стихотворную пьесу кабинет-секретарем императрицы Гаврилой Державиным.
И порядка в Москве, как в войсках, не увидишь. Уж с полгода, как приказал очистить от сараев и свалок Москворецкую набережную, публика чтоб могла прогуливаться и от смрада не задохлась. Так нет же, Воспитательный дом ни в какую: наше место, что хотим, то и воротим. Императрице жаловались.
Церквушку-развалюшку решил снести, дабы, случаем, людей в ней не угробить, так опять конфуз – сносись с митрополитом и испрашивай его согласия. А это все бумаги, бумаги, бумаги, и конца-краю им не видно. Хотя бы одного канцеляриста на восемьдесят рублей в год добавили. Нет же, молчит Петербург, копейки у них не допросишься, а сами воруют миллионами. Бедная государыня, кто тебя окружает!
Князь подошел к столу, со страхом и ненавистью покосился на стопку бумаг, подготовленных копиистами на подпись, и ласково вынул из походного ларца, сохраняемого с молодечества, доставленный на днях указ Екатерины.
Эта драгоценная бумага должна изменить его жизнь. Пора показать себя достойным лучшей участи, чем прозябание в здешней грязи и мужицкой сутолоке. Пора перебираться в Петербург, к высочайшему двору, и лицезреть приличную публику.
Давно лелеял Александр Александрович мечту выказать особое усердие государыне, но подходящего случая не представлялось. Теперь же: «Взять под присмотр и допросить». Донести «обстоятельно и немедленно». Видать, большим злодеем оказался этот Новиков. А прикидывался агнцем: «Дружеское ученое общество» завел, буквари печатал, студентов на свой кошт за границу посылал. Теперь-то ясно, чему они в чужих землях учились. Государынин курьер как анисной водочки накушался – размяк, разоткровенничался. Шведского короля, сказывал, якобинцы на днях прирезали. Из Парижа с той же целью четверо лиходеев в Петербург отправились, да их на границе перехватили. У нас не побалуешь! Еще под большим секретом намекнул, что московские мартинисты тоже затевают на государыню покушение и уже жребий меж собой бросили – кому исполнять злодейство. Может, и привирает курьер-то, чего только с анисной не наболтаешь, но мартинистская зараза повсюду расползлась – и в университете, и в церкви, и даже среди купцов. Золото они, верные люди сказывают, из глины добывают и каменщиками друг друга кличут. Нечто вроде монашеского ордена, но не с Богом, а с дьяволом якшаются – фармазоны! Из Берлина к ним приказы идут. Там, оказывается, главнейшая ложа…
И тут князь остолбенел от догадки: этот Новиков-то и вытянул жребий.
Прозоровский отыскал его послужной список, подготовленный секретарем канцелярии Олсуфьевым, и взялся за изучение с виду обычных фраз, надеясь отыскать зацепочку.
Родился в 1744 году под Москвой, в селе Авдотьино. Новиковым кличут от новика – новобранца.Прозоровский с чувством удовлетворенного превосходства усмехнулся – его род шел от Рюрика, от князей Ярославских, получивших прозвание по родовому поместью Прозорово.
Что тут дальше?
Учился в гимназии при Московском университете.Давно пора этот рассадник вольнодумства поприжать.
Курс не кончил и уволен за нехождение в класс.Надо проверить, может, и другие провинности были.
В 1762 году поступил на службу в Измайловский полк.В гвардию попал, а вышел в отставку – смешно сказать! – армейским поручиком.
Служил секретарем комиссии по составлению «Нового уложения».На должность хорошую пристроился, нет бы признательным быть – ему бунт подавай.
Издавал журналы «Трутень», «Пустомеля», «Живописец», «Кошелек», «Детское чтение», «Городская и деревенская библиотека», «Утренний свет», газету «Московские новости».Пустое занятие. У меня офицеры любили переписывать статейки из его журнальчиков. Я раз глянул – «бедность и рабство повсюду», «жестокосердный тиран, отьемлющий у крестьян насущный хлеб» – и запретил впредь заниматься вредным баловством.
Снял в аренду на десять лет Университетскую библиотеку, где напечатал сотни книг, тиражи которых достигали нескольких тысяч экземпляров.Всю Россию ересью накормил.
Открыл книжные лавки в десятках городов и сел.Что хочет, то и творит, и никто не остановит.
С товарищами-масонами Иваном Тургеневым, Иваном Лопухиным, покойным профессором Шварцем, братьями князьями Трубецкими открыл в Москве на свое иждивение библиотеку-читальню, больницу и аптеку для бедных, народное училище.Ну откуда у людей столько лишних денег? Не иначе как фальшивые печатают.
По повелению императрицы в январе 1786 года испытан в вере и помыслах архиепископом Платоном, который доносил государыне о своей мечте, чтобы «во всем мире были христиане таковые, как Новиков»…
Князь запнулся, не зная, как съязвить по поводу последней фразы. Он недолюбливал московского пастыря за строптивость и вольнодумство, но верил в его честность и прозорливость. Князь молча, без комментариев вновь перечитал послужной список с начала до конца и вовсе закутался: Новиков уже не казался злодеем. Тогда он схватил указ императрицы, нашел нужные слова о делах Новикова: «…колобродства, нелепые умствования и раскол скрываются».
«Экой тонкий плут этот злодей», – подивился Прозоровский и порадовался за себя, что решительно начал следствие, не погружаясь в бумажную кутерьму.
Еще позавчера князь послал верного человека купить на Спасском мосту «Историю об отцах и страдальцах Соловецких» – раскольничье сочинение, тайно, как доносит императрица, напечатанное и распространяемое Новиковым. Верный человек принес с десяток староверческих книг, продававшихся в московских книжных лавках, но нужной среди них не оказалось. «Давно распродали», – извинялись сидельцы.
«К этому новикус флангов не подступишься, он, видать, настороже», – еще тогда догадался Прозоровский и решил действовать четко и стремительно, дабы – как тогда через Днестр – опередить врага и нежданно-негаданно нанести сокрушительный удар.
Вчера утром операция началась – жандармы по его приказу обыскали все книжные лавки города. В каждой хоть что-нибудь предосудительное да нашлось. Лавки опечатали, а хозяев взяли под стражу. Но без переполоху не обошлось. На Сухаревке побили двух жандармов, поползли слухи о холере, кликуши порочили государыню и предвещали скорый конец света.
Пока весть о начале решительных действий против мартинистов не достигла Авдотьина и Новиков оставался в неведении, что он разоблачен, Прозоровский спешно послал за ним майора князя Жевахова – на удивление исполнительнейшего человека – с двенадцатью гусарами при унтер-офицере и капрале.
Вечером того же дня, на балу по случаю дня рождения императрицы, князь Прозоровский внимательно присматривался к московской публике, ловил на себе косые взгляды, встречал пренебрежительные ухмылки и в который раз убедился – повсюду мартинисты, каждого второго надо хватать – и в тюрьму, в ссылку, в каторгу. Скоро, скоро! До мартиниста Радищева добрались, теперь Новиков, а немного погодя и остальным крышка!
Князь подозвал верного человека и попросил узнать, над чем так весело хохочут за карточным столом вместе с немчиками князья Волконские и Трубецкие…
Оказалось, пересказывали письмо к государыне покойного Григория Потемкина по поводу назначения его, Прозоровского, главнокомандующим Москвы: «Ваше императорское величество выдвинуло из вашего арсенала самую старую пушку, которая непременно будет стрелять в вашу цель, потому что своей не имеет. Только берегитесь, чтобы она не запятнала кровью в потомстве имя вашего величества!»
– Злословьте, больше материалу для следствия накопится, – вспоминая вчерашний бал, мстительно прошептал Прозоровский.
Он наконец ясно видел цель своей московской деятельности – Новиков и его друзья, имел ясные инструкции – арестовать и разоблачить врага, получил ясный намек – от расторопности в этом угодном императрице деле зависит его, Прозоровского, дальнейшая судьба. И он ждал, с нетерпением ждал встречи с врагом.
Но когда ввели Новикова, князь с досады и удивления поморщился и крякнул – враг оказался пожилым и сгорбленным, одетым в потертый фрак, с мягким взглядом, в котором не прочитывались ни страх, ни бессилие, ни злоба… Что ж, тем трудней его, Прозоровского, задача.
Князь оставил для допроса Олсуфьева, как самого толкового человека из своей канцелярии, и копииста Федорова, как самого надежного молчуна. Охрану же удалил, сел за стол под портретом императрицы и достал из ларца листки, доставленные от старого верного знакомого – начальника Тайной экспедиции Санкт-Петербурга Степана Ивановича Шешковского.
– Приказываю тебе, злодею, открыться. – И дальше князь продолжил по листкам: – Сколько у вас масонских лож по России и с какой преступной целью заведены?
– И для этого, ваше сиятельство, за мной целое войско посылали, весь дом переворошили и больного за пятьдесят верст в распуту повезли? Детям хоть прикажите передать, что я, по крайней мере, еще жив. Ваш майор оказался столь злобен и молчалив, а указ об аресте путан, что домашние со мной навеки прощались.
Прозоровский хотел крикнуть: «Молчать!» – но вовремя остыл, решив, что дети есть дети, они не виновны в злодействах отца, и попросил Олсуфьева отдать приказ кому-нибудь потолковеесъездить еще раз в Авдотьино и успокоить семью арестанта.
– Премного благодарен, ваше сиятельство, – до слез расчувствовался Новиков и поспешно стал отвечать на вопрос: – Принят я был в ложу «Астрея», а в каком году – не упомню. Мы и собирались-то всего раза три-четыре. Говорили о любви к людям, о своем желании ратоборствовать против сатаны и плотских утех, против страха смерти.
– Чем же вам русский бог плох, что вы к чужому на поклон пошли?
– В нашем братстве свобода вероисповедания, а я как был, так и останусь до конца дней моих православным христианином. Мое и моих друзей дело в ином – просвещать народ, облегчить его тяжелую участь и научить нас, дворян, уважать в своих рабах человека…
– Не лги! – прервал Прозоровский, почувствовав, что враг хочет повести его по ложному следу. – У вас и общество называлось тайным, и в школах, что в Москве понастроили, двери на ключ запирали. Признайся мне, как отцу: зачем завели секту и в письмах через цифирную азбуку общались?
– Вы, значит, и письма нашли вскрывали? – вымученно улыбнулся Новиков. – Тогда должны знать, что тайна для масонства – всего лишь ритуал, а создано наше братство для сближения людей всего мира, для бескорыстного труда и милосердия. Мы перекладывали на русский язык и печатали полезные книги, раздавали пенсии, безденежно отпускали лекарства бедным и утешали их.
Прозоровский никогда не понимал тонкостей словопле-тения бесчисленных мартинистов, философов, якобинцев, целиком доверяясь мудрости и нюху государыни, однако смекнул, что его хотят обойти с флангов, и глазами запросил помощи у Олсуфьева.
Тот – вот ученая голова! – легко выудил из вороха бумаг именно в сей момент нужную и зачитал ее (а может, вдруг сочинил и только сделал вид, что с бумажки считывает):
– Вам и вашим товарищам в вину ставится печатание и распространение вредных мартинистских книг, отвращающих людей от истинной веры и повиновения.
– Да мы масонских книг печатали лишь по нескольку оттисков для себя, – оторопел от столь дивного обвинения Новиков, но, почувствовав, что не стронул Прозоровского с избранной позиции, решил убедить его фактами: – В тысячах и тысячах экземплярах мы издавали учебники, словари, народные сказки и песни. Ничего общего с масонством не имеют печатавшиеся у нас ни стихи Сумарокова, ни романы Сервантеса, Свифта, Филдинга, Стерна. Мы выпустили множество книг по отечественной истории для детей, простонародья и просвещенных граждан, этим полезным делом восстав против попыток унизить достоинство русского человека. Мы показывали нравы и обычаи праотцев наших, помогали в познании великости их духа, украшенного простотой. Разве это не полезные для России деяния, ваше сиятельство?
Прозоровский не понял, за что себя хвалит арестант, как вообще издание книг можно считать полезным для отечества делом. И еще про какое-то восстание он упомянул, надо будет потом копииста заставить переписать допрос начисто и выудить слова – против чего они восстают – для доноса императрице. А сейчас князь решил схитрить – авось враг попадется в ловушку.
– А вот мне доподлинно известно, что ты отыскал философский камень и в подвалах своих типографий делаешь золото. Говори как на духу, сколько и куда уже переправил?!
Новиков и Олсуфьев подняли недоуменные глаза на князя, а копиист со страхом и завистью посмотрел на арестанта-алхимика. Прозоровский и сам задним числом подумал, что хватил лишку, но, как старый солдат, решил не подавать виду и стоять на своем. Он посуровел лицом и ждал ответа.
– Если бы мы нашли философский камень, ваше сиятельство, то неужто стали бы его таить, лишать людей счастья? Ведь все мы призваны любить друг друга…
– Врешь! – Разъяренный бестолковщиной допроса, князь схватил первую подвернувшуюся под руку привезенную из Авдотьина книгу – это оказались проповеди святого Августина, – раскрыл ее и яростно принялся тыкать пальцем в цифры, означавшие ссылки на Священное Писание. – Вот они! Вот они – ваши каннибальские знаки! Я все знаю, что здесь по-тарабарски написало. За все отвечать будешь! Знаю, зачем ты больниц и аптек настроил – с их помощью людей в свою секту совращаешь. А училища понадобились, чтобы своихвыучить и на службу пристроить, а они за начальством шпионить будут. Думаешь, не знаю, что вы цифирями записываете? Человека как умертвить за тысячи верст. Знаю, дьяволу служите, огни разводите, на мертвой голове клянетесь и спать ложитесь в гроба со скелетами.