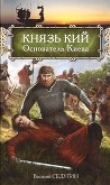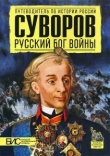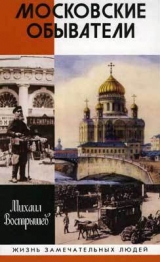
Текст книги "Московские обыватели"
Автор книги: Михаил Вострышев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 30 страниц)
Подруга семиструнная. Гитарист, композитор и педагог Михаил Тимофеевич Высотский (1791–1837)
О, говори хоть ты со мной,
Подруга семиструнная!
Душа полна такой тоской,
А ночь такая лунная!
Аполлон Григорьев
Гитара появилась в Европе в XV веке, и в последующие столетия юноши с помощью этого нехитрого «струнного щипкового инструмента с 8-образной формой корпуса» находили самый короткий путь к сердцам возлюбленных. Захотели было итальянцы опробовать свой любимый музыкальный инструмент на русской публике при дворе императрицы Елизаветы Петровны, но потерпели фиаско. И понятно, в России серенаду со вздохами под окнами возлюбленной не исполнишь – тотчас девку опозоришь, весь околоток над ней станет потешаться.
Но вот с 1790-х годов в Европе наступила в буквальном смысле эпоха шестиструнной гитары. На ней с детских лет любил играть и гениальный скрипач Паганини… Трогали говорящие струны и титулованные особы, и ремесленники, и землепашцы. Вскоре появилась гитара и в Москве. Но так как здесь всё любили делать наперекор Западу, то увлеклись исключительно неизвестной европейцам семиструнной гитарой.
Престарелый поэт М. М. Херасков тоже решил не отставать от моды и стал частенько зазывать погостить в свое подмосковное имение гитариста С. Н. Аксенова. Вскоре он поручил ему познакомить с основами музыкальной грамоты и научить игре сына своего крепостного приказчика – Михаила Высоцкого (с годами Михаил переиначил свою фамилию и стал подписываться под нотами исключительно, как Высотский).
«Ну и помучил меня батенька Семен Николаевич! – вспоминал свои детские годы Высотский. – Бывало, уйдешь от него в лес, уж и не рад, что напросился учиться. Так нет, батенька, пойдет, сыщет, за ухо приведет и засадит за гитару».
В 1807 году М. М. Херасков умер, даровав молодому гитаристу вольную. В 1813 году Михаил Тимофеевич переселяется из имения в Москву, и вскоре начинается взлет его славы. Сочиненные им простонародные песни «Пряди, моя пряха…», «Люблю грушу садовую…», «Соловушка», «Вот мчится тройка удалая…», «Во саду ли, в огороде…» и около сотни других под мелодичное звучание гитары исполнялись повсюду. Даже дворяне запели песни своих крепостных!
Михаила Тимофеевича приглашала к себе, можно сказать, вся Москва, включая первых людей Первопрестольной. Правда, нередко случалось, что за ним присылали золоченую карету, сулили большие деньги, а этот скромный застенчивый человек отказывался и уходил играть даром в тесном кружке своих учеников.
Высотский был нарасхват не только как композитор и музыкант, но и педагог. Большинство прославленных московских гитаристов второй половины XIX века, включая руководителей цыганских хоров И. О. Соколова и Ф. И. Губкина, – его ученики.
Существовал особый «стиль Высотского». Когда он брал в руки гитару, его лицо, почти всегда улыбающееся или смеющееся, становилось строгим, на нем, по заверению очевидцев, «появлялся отпечаток глубокой мысли». Играл он свободно, без малейших усилий и без «модных эффектов», которые нравились тугой на ухо публике. Высотский, по заверению знаменитого польского скрипача и композитора Кароля Липиньского, сочетал в гитаре мощь арфы с певучестью скрипки.
В 1823 году в Москву приехал не знавший себе равных среди гитарных композиторов Фердининд Сор. На устроенный в честь него вечер любителей гитары пришел и Высотский. После блестящей игры Сора, упросили и его выйти на сцену. «Он взял гитару, – рассказывает В. Русанов, – и, по обыкновению, стал ее пробовать,да так и остался на одних пробах часа два с половиной. В результате получилось весьма сильное впечатление. Сор пришел в отчаяние и заявил, что после такого артиста ему совестно взять в руки гитару, и он готов разбить ее об пол. После этой встречи Сор и Высотский часто бывали друг у друга и расстались большими друзьями».
Особенно искренно и восторженно любили игру Высотского московские студенты. Один из них, шестнадцатилетний поэт Михаил Лермонтов, в страшный холерный 1830 год услышав его игру, под впечатлением написал одно из лучших своих юношеских стихотворений.
Звуки
Что за звуки! Неподвижен внемлю
Сладким звукам я; Забываю вечность, небо, землю,
Самого себя. Всемогущий! Что за звуки! Жадно
Сердце ловит их, Как в пустыне путник безотрадный
Каплю вод живых! И в душе опять они рождают
Сны веселых лет, И в одежду жизни одевают
Всё, чего уж нет. Принимают образ эти звуки,
Образ милый мне; Мнится, слышу тихий плач разлуки,
И душа в огне. И опять безумно упиваюсь
Ядом прежних дней, И опять я в мыслях полагаюсь
На слова людей.
Даже спустя полвека после смерти знаменитого московского гитариста, когда заходил восторженный разговор про артистов, умеющих тронуть душу, старики пренебрежительно обрывали панегирик:
– Послушали бы вы Высотского, вот тогда бы у вас душа перевернулась.
И хотя остались ноты большинства сочиненных Высотским песен, им недоставало авторского исполнения. «Он никогда не повторялся, и одну и туже тему играл каждый раз все с новыми и с новыми вариациями, одна другой лучше, богаче, – вспоминал ученик Высотского полковник И. Е. Ляхов. – Его ноты далеко не дают представления ни о неисчерпаемом богатстве и силе его творчества, ни о необыкновенной технике его игры; это бледные наброски в сравнении с его исполнением, в которых передается только общий план, главная мысль и приблизительный характер исполнения. Его игра была непостижима и непередаваема и оставляла такое впечатление, которое не передашь никакими нотами и словами… Вы слышите русскую песню, возведенную в священный культ».
Кроме того, что Высотский научил почтенную русскую публикупеть по-русски и любить русскую песню, он сочинял вальсы, полонезы, мазурки; переложил для гитары фуги Баха, пьесы Моцарта, Бетховена, Фильда. Для потомков осталась (кстати, переиздававшаяся и в советское время) изданная им незадолго до смерти брошюра «Практическая школа семиструнной гитары». Оставались еще воспоминания друзей и почитателей его таланта…
Гитарный мастер И. Я. Краснощеков многие годы после смерти Высотского показывал гостям диван, на котором великий гитарист отсыпался, заходя к другу после бурно проведенной с купцами и цыганами ночи.
– Проснется, бывало, – рассказывал Иван Яковлевич, – голова у него болит, денег нет, а выпить хочется. Засядет за сочинение, настрочит что-нибудь на живую руку и продает рубля за два, за три.
Подобное роковое завершение жизни стало, к сожалению, чуть ли ни общим правилом для талантливых русских людей. Вспоминая об авторе замечательной картины «Грачи прилетели», Иван Белоусов даже цены приводит те же, за которые русские таланты под конец жизни торговали своими произведениями: «У Саврасова было два места приюта – ночлежные дома Хитрова рынка и рамочные мастерские, в которых изготовлялся товар для Сухаревского рынка. Там за бутылку водки Саврасов писал картины, которые потом продавались на Сухаревке по два, по три рубля с рамой».
Хорошо хоть, что у Высотского, в отличие от бесприютного Саврасова, был свой угол в одноэтажном домике Алексеева, стоявшем напротив здания Сущевской полицейской части. Летом он частенько садился у раскрытого окна, которое выходило во двор, уставленный скамейками, и начинал играть на гитаре. Тотчас двор наполнялся народом. Домовладелец ходил между слушателями и собирал деньги, которые шли в уплату долга талантливого, но нищего квартиросъемщика за тихое пристанище под конец жизни.
Роковым был и конец музыканта – скоротечная чахотка. Потом по обычаю – почти полное забвение в новом XX веке. Хотя на семиструнной гитаре позднее стал играть чуть ли не каждый второй москвич, могилу родоначальника русской гитарной школы на Пятницком кладбище в 1930-х годах срыли, а в 1960-х годах уничтожили и дом № 8 на Селезневке, где последние годы жил и где умер Высотский.
Нам уже не под силу воскликнуть о его песнях вслед за Лермонтовым: «Что за звуки!» Мы можем лишь беспомощно пожать плечами и самим себе задать риторический вопрос: «Что за звуки?»
Добросовестный обыватель. Общественный деятель Василий Иванович Розенштраух (1793–1870)
Иностранцы в Москву приходили и уходили, а если поселялись навсегда, то становились обыкновенными обывателями и, как и большинство москвичей, не принадлежащих к сословию вельможных особ или литераторов, уходя в вечность, удостаивались, что было реже, краткого некролога в «Московских ведомостях» или, что было несравненно чаще, краткой надписи на могильном камне кладбища Введенских гор. Исключение составляли такие безумцы в любви к ближнему, как тюремный врач Федор Петрович Гааз, или безумцы в любви к науке, как граф Яков Велимович Брюс,
Василий Иванович Розенштраух не принадлежал ни к тем, ни к другим, хоть не пренебрегал ни делом благотворительности, ни учености. Он родился в Голландии в сентябре 1793 года в купеческой семье, учился фармацепии в Дерптском университете (1816 год) и продолжал коммерческую деятельность отца до своего отъезда в 1828 году в Москву, где с доктором Лодером они устроили Заведение искусственных минеральных вод, на протяжении сорока лет приносившее пользу нуждающимся в подобном лечении, но не имеющим возможности выбраться за границу.
Несколько десятилетий Розенштраух с честью и пользой нес общественную службу в Москве – в Тюремном комитете вместе с доктором Гаазом, Глазной больнице, одним из основателей которой он был, Комитете по продовольствованию арестантов, Комитете для призрения просящих милостыню. Несколько лет заведовал продовольствием Московского университета, четыре десятилетия был президентом церковного совета при лютеранской церкви Святого Михаила и попечителем ее школ.
Благодаря честности, купеческой сноровке и значительному собственному капиталу Розенштраух во многих благотворительных учреждениях состоял казначеем или содействовал сбору капиталов на их содержание. Кроме того, с 1829 по 1866 год он исправлял в Москве должность генерального прусского консула. «Дом его открыт был для всех знакомых, – вспоминал Михаил Погодин. – Лодер, Гамель, Пфелер, Маркус – имена, памятные в Москве, – были почти его нахлебниками».
Скончался Василий Иванович 3 июня 1870 года, оставив после себя на земле, кроме доброй памяти, трех сыновей, пять дочерей, шестнадцать внуков и одного правнука.
Патриарх московских зодчих. Архитектор Михаил Доримедонтович Быковский (1801–1885)
О Боге – создателе мира – говорили: «Всех тварей премудрый архитектор». Слово «архитектор» всегда было уважительным, с долей зависти, ведь без людей этой уникальной профессии не построишь ни барской усадьбы, ни приходского храма. За умелый труд их ждали и слава, и приличный заработок. В Москве чаще других повторяли имя итальянца Фьораванти Аристотеля – создателя Успенского Кремлевского собора. Хвалились и другими иностранцами – Алевиз, Марко Руф, Петр Соларио, – а своих доморощенных зодчих почитали за обыкновенных ремесленников. Иноземные, даже плохонькие, были завалены заказами. «Принужден нынешнего лета зачать каменный дом. Материалы все готовы, да архитекта не имею». Большинство чужеземцев трудились по зову российских монархов над возведением дворцов в Петербурге и его окрестностях, поэтому в Москве ощущалась большая нехватка в людях, умеющих на бумаге чертить оригинальные проекты зданий. Стране нужны были русские зодчие, и они появились в царствование императрицы Екатерины II и стали потихоньку теснить пришлых. Среди них талантливый ученик Растрелли А. Кокорин, воспитанники Академии художеств В. Баженов и И. Старов. В XIX веке уже за первых архитекторов даже в Петербурге признавали не итальянцев, а В. Стасова и К. Тона. Знали и москвичи последнего по колоссальному храму Христа Спасителя и Большому Кремлевскому дворцу, но почитали его творчество далеким от особенного московского духа. Другое дело, свой, тутошний зодчий М. Быковский. Его подрядить на работу считалось куда почетнее, чем петербургских подражателей иностранщине.
Михаил Доримедонтович Быковский родился 29 октября 1801 года на Плющихе, в доме медника Григорьева, где квартировала его семья. Отец занимался столярным делом, был хорошим резчиком по дереву и часто получал заказы на сооружение иконостасов. Сын в малом возрасте, еще не зная грамоты, выучился чертить планы и профили иконостасов. Мать, умевшая хорошо рисовать, втихомолку от мужа, не одобрявшего это пустячное развлечение, занималась с сыном живописью. До пятнадцати лет он воспитывался дома, освоив не только грамоту и арифметику, но и французский язык у соседа Реми, а рисование и черчение – у художника Колосова. Но думал мальчик не об ученой карьере. «Любимой моей мечтой было уехать туда, куда на зиму улетают птицы. Восьми лет я начертал план моего заграничного домика, где я стал бы жить и принимать странников». Отец разрушил детские мечтания. Заприметив, что сын хорошо чертит, он отдал шестнадцатилетнего отрока в обучение к маститому зодчему Д. И. Жилярди. Дементий Иванович ленился заниматься с учеником, но, оценив его способности, помогал находить работу и заводить деловые знакомства.
В 1824 году умер отец, и Михаил Доримедонтович продолжил семейное иконостасное дело, чтобы прокормить мать Прасковью Петровну и младшего брата Александра. Попутно брал заказы на портреты карандашом и акварелью. Начал также заниматься составлением проектов зданий и благодаря таланту и упорному труду в тридцать лет получил звание академика за карантинный дом.
Наконец-то признание и сопутствующий ему приличный заработок отыскали Быковского. Он женился, поступил на службу чиновником особых поручений при генерал-губернаторе князе Д. В. Голицыне, стал преподавать в Дворцовом архитектурном училище и 16 октября 1836 года был назначен его директором. Спустя два года, 18 ноября 1838 года, ему удалось впервые вырваться за границу для пополнения профессиональных знаний.
Он посетил Берлин: «Увидев разумную и красивую архитектуру в этом городе, я упал духом… Я удивлялся всему в Берлине и выехал из него с чувством своей неспособности». Париж: «И вот я перед собором Богоматери. Изо всех, виденных мною до сего времени готических церквей, она лучшая. Но если эта церковь, столь прославленная, есть одно из величайших произведений Средних веков, то это еще большая причина не соглашаться с тем, что готическая архитектура лучше других выражает характер нашей религии». Истинное же восхищение вызвало у него итальянское зодчество: «Какое различие между Францией и Италией! Там любуешься вещами, все хочется перенять и приноровить к нашим строениям… Всё кажется мило и разнообразно, стараешься всё удержать в памяти, всё: формы, составы, способы исполнения, расположение. Одним словом, все подробности. В Италии же архитектура есть поэзия».
До заграничной поездки Быковский уже успел много построить в Москве: дворец и церковь в Марфине, здания Биржи на Ильинке, Мещанского училища, Земледельческой школы,Горихвостовской богадельни… Теперь их вид не вызывал, как прежде, чувства довольства собою. «Меня хвалили и я считал себя хорошим архитектором, поездка за границу исцелила меня от этого самопочитания».
Чувство неудовлетворенности своим творчеством, желание работать лучше, чем прежде, – признак истинного таланта. Быковский возводит в сороковых-пятидесятых годах Голицынский пассаж, Варваринский приют, Странноприимный дом в Хамовниках, храмы в Зачатьевском, Покровском, Спасо-Бородинском монастырях и Воспитательном доме, колокольню Страстного монастыря; в шестидесятых – Ивановский монастырь и храм Троицы в Грязях на Покровке; в семидесятых – храмы в имении Молчановых и в Андрониковом монастыре.
За время своей долгой жизни Михаил Доримедонтович сменил несколько московских адресов. В начале сороковых годов он выстроил себе деревянный особняк на Садовой, близ Красных ворот, в 1846 году поселился в одноэтажном домике на углу Божедомки и 4-й Мещанской, позже, получив место старшего архитектора Опекунского совета, переехал на казенную квартиру в Воспитательном доме. И где бы он ни жил, в его комнатах всегда пахло кипарисом и ладаном, сияли в золоченых и серебряных ризах древние лики святых, чувствовалось особое, истинно московское религиозное настроение.
Заслуги М. Д. Быковского исчисляются не только множеством прекрасных зданий, но и основанием в 1867 году Московского архитектурного общества, в председатели которого выбрали именно его; изданием исследований зарубежных архитекторов и устройством множества архитектурных выставок. Он знаменит и своими учениками, талантливыми зодчими: Авдеев, Борников, Вивьен Старший, Гвоздев, Горский, Герасимов, Зыков, Лопыревский, Мартынов, Шохин. Не подвели отца и дети: старший сын Николай стал известным живописцем, а младший Константин – архитектором, председателем Общества любителей художеств и Архитектурного общества.
Скончался патриарх московских зодчих, как звали Михаила Доримедонтовича товарищи по работе, в глубокой старости 9 ноября 1885 года. Тело его давно превратилось в прах, но уцелели и радуют глаз более десятка его храмов и общественных зданий. Глядя на его творения, все новые и новые поколения архитекторов учатся постигать красоту и изящество русского зодчества.
Искра огня. Балетмейстер и танцовщик Адам Павлович Глушковский (1793 – между 1868 и 1870)
Человек научился танцевать раньше, чем говорить. Пляской выражали радость и печаль, призывали к охоте и бою, заявляли о своей любви и ненависти. Каждому народу можно дать характеристику, увидев его национальные танцы.
В России хороводы и задорные пляски были распространены так же широко, как певческое искусство. Но на русскую театральную сцену танец попал довольно поздно – в середине XVIII века, в представлениях итальянских и французских театральных групп. Особенно увлекались новшеством гвардейские офицеры. Возможно, церемониальные марши, в которых им частенько приходилось участвовать, гораздо ближе к балету, чем к военному делу? Гвардейцы были постоянными «поклонниками кулис» и красавиц-танцовщиц, которым бурно выражали восторги по поводу их фации и обаяния.
В Москве впервые театр песни и пляски открыл Локателли в 1759 году в деревянном здании у Красного пруда (возле нынешней Комсомольской площади). Но публика осталась равнодушной к игре паяцев, и антрепренер прогорел.
Гораздо больше любопытства у москвичей вызвал грандиозный балет, «радостное возвращение к аркадским пастухам и пастушкам богини весны», данный в 1762 году во время коронации Екатерины II. Хотя вряд ли постановка была удачной, ведь кроме профессиональных артистов в ней приняли участие знатнейшие вельможи, от которых трудно было ожидать воздушных пируэтов и антраша.
Постепенно балет стал входить в моду, помещики нанимали учителей для обучения красивым и быстрым «па» крепостных девок. Обе российские столицы наводнились заезжими заморскими плясунами, сам наследник престола цесаревич Павел Петрович не брезговал танцевать на придворной сцене.
Совместно с оперой балет был в постоянном репертуаре выстроенного в 1780 году московского Петровского театра (на его месте позже поставили Большой театр). Правда, многие благочестивые москвичи гнушались позорищами и лицедействами,почитая сценическое искусство за греховное. Да и с трудом эти первые и несовершенные представления можно было назвать искусством, скорее причудами на потеху публики, ибо главное внимание устроители уделяли всяческим пиротехническим эффектам: огнедышащим вулканам, фейерверкам, взрывам и пальбе.
Когда Петровский театр сгорел в 1805 году, взялись за строительство нового, у Арбатских ворот, на сцене которого в феврале 1812 года в балете «Алжирцы, или Побежденные морские разбойники» дебютировал ученик знаменитого балетмейстера Дидло Адам Павлович Глушковский.
Начиная с 1814 года, когда после войны с французом в Москве возобновились театральные представления, Глушковский стал первым танцовщиком, балетмейстером и учителем театральной школы. Он летал Зефиром по сцене, блестяще играл в пантомимах, (мимика признавалась в то время главной составляющей балета), копировал на московской сцене петербургские балеты Дидло и ставил свои (на русские народные темы, по сюжетам произведений А. С. Пушкина, В. А. Жуковского и др.), обучал искусству Терпсихоры будущих знаменитых московских артистов.
О том, что представляли собой тогдашние балеты, можно получить хотя бы смутное представление из афиши о бенефисе Глушковского 14 января 1816 года.
«В первый раз «Смерть Рожера, ужаснейшего атамана разбойников Богемских лесов, или Оправданная невинность несчастного сына ее Виктора», новый пантомимный трагический балет в 4-х действиях, сочинение господина Глушковского, взятый из романа «Виктор, или Дитя в лесу», сочинение господина Дюкре-Дюмениля, с принадлежащими к нему новыми венгерскими и каталонскими танцами, с поединками на шпагах, топорах со щитами, с борьбою и сражениями на саблях, с эволюциями и сражениями, сочинения господина Севенарда, с полковою музыкой и прочими украшениями. Музыка взята из лучших авторов, к ней приделаны голоса для оркестра императорской театральной дирекции капельмейстером Керцелием».
Слава балетмейстера и танцовщика сиюминутна – в рукоплескании балетоманов и подаренных букетах цветов. Постоянны лишь репетиции до седьмого пота, обучение пластике и мимике юных дарований. Среди учениц Глушковского на московской сцене в 1810 – 1820-х годах блистали Новицкая, Кроткова Третья, Лобанова, Лопухина и Татьяна Иванова, ставшая в 1816 году женой своего учителя (в нее страстно, но безответно был влюблен Денис Давыдов, посвятившей ей несколько стихотворений). «Кроме программ, оркестровых нот, рисунков декораций, костюмов, оружия и прочих бутафорских вещей, – вспоминал о балетмейстерской работе Глушковского П. Куликов, – привозил партитуру для репетиционной скрипки, где как на клавираусцугах под каждым тактом были подписаны слова, что действующие лица делают, где стоят, где переходят, куда идут, что говорят (разумеется, пантомимой). Даже танцы, почти каждое па Глушковский знал на память».
Балетмейстеры, как бы сейчас сказали, были востребованы в высшем кругу общества – их приглашали на балы, так как дети смелее танцевали при учителе танцев. Когда дочь знатного барина становилась фрейлиной, опять требовался балетмейстер, который учил ее подходить к императорской чете, делать реверанс и отходить на положенное место. Вельможи обращались к нему, чтобы испросить в новом балете хорошую роль для своей фаворитки, дамы – в надежде, что он раскроет им секреты дворянских домов, где часто бывает.
В 1839 году Адам Павлович оставил службу при театре и жил на небольшую пенсию. Со временем ему пришлось продать собственный дом в Гранатном переулке и переселиться на Малую Никитскую, в приход церкви Георгия, что на Всполье, в дом чиновника Кедрова. Но отставной балетмейстер не унывал, продолжая обучать танцам юных барышень и наслаждаясь медленно текущей московской жизнью. На склоне лет он взялся писать воспоминания, которые завещал своему крестному отцу князю П. А. Вяземскому (в 1816 году он перешел из католичества в православие). Глушковский оказался незаурядным литератором, подметив множество любопытных подробностей в жизни допожарной Москвы. Жаль, что въедливые краеведы до сих пор не замечают этого удивительного живого бытописания нашей столицы начала XIX века. О водоснабжении… «Все знают, что прежде, как и ныне, нельзя было пить москворецкой воды весною и осенью, потому что с разных фабрик и улиц в нее текла разная нечистота. В то время, когда еще не было фонтанов с мытищинской водой, богатые люди посылали кучеров с бочками за водой за заставу на Три Горы – там был колодец с самой легкой и здоровой водой. На право получения воды выдавался хозяином этого колодца годовой билет с платою 10 рублей на ассигнации. Бедный же народ, с прискорбием души скажу, должен был пить вредную для здоровья воду, потому что не имел способов приобрести трехгорную». О пассажирском транспорте… «Тротуары были кирпичные, деревянные, худо устроенные и притом ветхие, на них легко было переломить ногу. Во многих местах мостовой не было, пешеходы в осеннее время увязали в грязи по колено, во избежание чего бедные нехотя должны были нанимать возчиков. В это время для низшего и среднего сословия на биржах стояли преоригинальные экипажи, а именно ломовые дроги, на которых теперь возят дрова, различные тяжести и при переезде с одного места на другое мебель с прочими вещами. Впрочем, у этих экипажей был своего рода комфорт для пассажиров. Вдоль дрог клалась доска для сидения, а так как у них не было дрожечных крыльев, то осенью и весною каждый возчик имел большую тряпку, которой пеленал седокам ноги для предохранения от грязи. Первому седоку было еще сносно, когда его пеленали в чистую тряпицу, но каково было переносить это следующим, потому что возчики тряпок не меняли. Были биржи, на которых стояли рессорные дрожки с крыльями, но крытых пролеток в то время не было. Кому нужен был крытый экипаж, карета или коляска, тот должен был нанимать их на постоялых дворах». О балах… «В 1811 году у некоторых степных дворян и богатых людей сохранялись еще обычаи екатерининских времен. На балы и купеческие свадьбы приглашали гайдуков в богатых ливреях. Ростом они были не менее трех аршин (2 м 10 см). Обязанность их состояла в том, чтобы поправлять восковые свечи в люстрах и стенных кенкетах без помощи лесенок. Когда они протягивали руки к люстре или стенным кенкетам, их огромный рост приводил всех в удивление. Во время обеда или ужина, когда следовало пить шампанское за здоровье гостей, гайдук являлся с полновесным серебряным подносом, на котором стояли серебряные вызолоченные бокалы, а домовый дворецкий подходил к нему с бутылкой шампанского и наливал в бокалы вино, которое гости пили при звуке труб и литавр». О Тверском бульваре… «В осеннее время у московских аристократов любимым местом гуляний был Тверской бульвар. Вечером в хорошую погоду князь Михаил Васильевич Голицын еженедельно освещал его за свой счет шкаликами, разноцветными фонарями, а на обоих концах бульвара на столбах были шлифованные металлические круглые щиты, отчего свет отражался на большое пространство бульвара. Эти щиты назывались бычачий глаз. У князя был роговой оркестр музыкантов, который во время иллюминации играл разные музыкальные пьесы». О трактирах… «Охота до голубей была так велика, что не было купеческого дома, в котором не было бы голубятни. Соловьи в трактирах висели ценою до тысячи рублей. От них хозяева имели большие выгоды, потому что охотники до соловьев приносили молодых птиц для слушанья напева тысячного соловья и за это платили порядочные деньги. Выходило, что дорогой соловей не только окупался хозяину в год, но и приносил ему барыш». О Воробьевых горах… «В старину многим нравилось в летнее время народное гулянье на Воробьевых горах. С них видна вся Москва как на ладони и представляет прекрасную картину. В это время горы были покрыты лесом, который укрывал гуляющих от летнего жара. Местность сухая, высокая и лесистая делала воздух здоровым. Под горами протекала Москва-река, на которой были устроены купальни для приезжающих. На горах были раскинуты палатки цыган и торгующих съестными и питейными продуктами. Пиво было бархатное, розовое, вино крепкое, хлебное, здоровое, без всякой примеси, так что, выпив стакан, можно было сказать, что оно было дешево и сердито… Теперь вековой дубовый лес вырублен, горы во многих местах изрыты, осталось только одно воспоминание о прошлом веселом времени».
Свои воспоминания Глушковский заканчивал, когда ему шел семьдесят шестой год. Несмотря на преклонный возраст, он остался бодр душой.
«Пролетела моя молодость, голова покрылась серебристым снегом, а вместе с летами выкипела бурная и шумная веселость. Но искра огня, оживлявшего меня в былые времена, сохранилась и до сих пор».
Как хорошо, когда в старости человек не предается унынию и безделью, а сохраняет, подобно Глушковскому, искру огня.Она никогда не гаснет, наверное, только у тех, кто привык весь свой век проводить в трудах и заботах, кто не устает радоваться лишь однажды данной нам жизни.