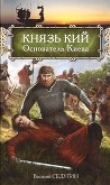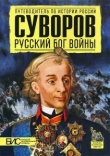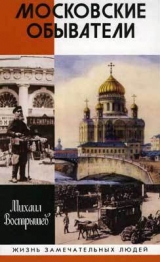
Текст книги "Московские обыватели"
Автор книги: Михаил Вострышев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 25 (всего у книги 30 страниц)
Сеятель добра и знаний. Издатель детской литературы Дмитрий Иванович Тихомиров (1844–1915)
Дмитрий Тихомиров родился в селе Рождествено Нерехтского уезда Костромской губернии 24 октября 1844 года в семье священника местной церкви отца Иоанна.
«Нашему отцу тоже приходилось крестьянствовать, – вспоминал младший брат Дмитрия Андрей, – то есть наравне со своими прихожанами пахать, сеять, косить, жать, молотить – одним словом, вести обыкновенное крестьянское хозяйство. И через это являлась возможность семье священника жить получше крестьянина, иметь больший достаток. Мы, дети, тоже по мере своих сил участвовали во всех этих работах и даже с большим удовольствием».
Белокурый, не по годам рослый, Дмитрий не только участвовал в крестьянской работе и детских забавах, но и с восьми лет во время богослужений стоял на клиросе, читал Шестопсалмие и Часы. В августе 1854 года он был определен в Костромское духовное училище.
«Во сне иной раз увидишь себя школьником, – признавался Тихомиров в зрелые годы. – Ранним утром идешь в училище, по пути в собор заходишь и на коленях перед чудотворной иконой, на холодной плите храма проливаешь горячие слезы в жаркой молитве, чтобы учитель не вызвал к ответу (хотя ответ и был с полным старанием приготовлен), хотя бы на этот день, только на этот день… Но не дошли, видно, детские слезы, не оправдалась горячая молитва. Вот пришел в класс, вот звонок, вот отворяется дверь, тревожно бьется детское сердце. И кровью обливалось оно – меня вызвали к ответу на середку класса. Страхом скована память, нейдут в голову слова твердо заученного урока».
Отец мечтал, что Дмитрий поступит в духовную семинарию, получит духовный сан и продолжит его пастырское служение. Но денег на образование не было, а тут появилась возможность определить сына на казенный счет в Ярославскую военную школу. После двух лет учебы в ней случай вновь изменил судьбу Дмитрия – его перевели в Петербургские учительские классы, созданные для лучших воспитанников военных училищ. Еще через два года новый перевод – в Москву, в Военную учительскую семинарию.
«Заботливо организованная по заграничным образцам, – вспоминал Тихомиров, – обеспеченная лучшими педагогическими силами, пользуясь свободой в постановке преподавания и воспитания, военная по названию, но чуждая всякой военщины и воинствующая лишь со всяческой казенщиной и рутиной, свободная по духу семинария представляла тогда собой небывало новое и оригинальное учебное заведение в начавшейся тогда новой жизни России».
Именно здесь Дмитрий Иванович выбрал свой дальнейший жизненный путь – служение на ниве народного просвещения. Окончив семинарию первым учеником в 1866 году, когда Россия вошла в эпоху великих экономических, общественных и судебных реформ, он был оставлен преподавать в родном учебном заведении, а также начал педагогическую деятельность в вечерней школе на фабрике Ф. С. Михайлова, во Второй мужской гимназии и на женских учительских курсах. На одну из его лекций случай привел Елену Николаевну Немчинову, внучку начальницы одного из московских институтов. Девушка была очарована ораторским талантом молодого учителя и уговорила его встретиться со своей бабушкой. Тихомиров стал часто бывать у Немчиновых, и в апреле 1871 года они с Еленой поженились.
На втором году семейной жизни Дмитрий Иванович издал свою первую книгу – «Букварь». Она имела невероятный успех и в дореволюционные годы разошлась в ста шестидесяти изданиях общим тиражом свыше четырех миллионов экземпляров (в 1990-х годах переиздания тихомировского «Букваря» возобновились).
Вслед за первой появились и другие книги, имевшие хоть и не столь громадный, но тоже успех в начальной школе: «Азбука правописания», «Элементарный курс грамматики», «Как жить по слову Божию», «Книга для церковно-славянского чтения», «Из истории родной земли». И, конечно, нельзя не вспомнить про составленную Тихомировым самую популярную в народных школах хрестоматию «Вешние всходы».
Кроме того, Дмитрием Ивановичем написано более ста педагогических статей для «Русских ведомостей», «Народной школы», «Русского слова», «Женского дела» и других газет и журналов.
В 1880-х годах супруги Тихомировы занялись издательской деятельностью и открыли в Москве свой книжный магазин «Начальная школа». Небольшие книги и брошюры ценой в три – пять копеек, включавшие в себя рассказы Л. Н. Толстого, Д. Н. Мамина-Сибиряка, Вас. Ив. Немировича-Данченко, И. С. Шмелева, А. С. Серафимовича, имелись почти в каждой русской семье, где были школьники.
Каждую хорошо написанную детскую книгу Тихомиров считал своим праздником. Он упрашивал, чуть ли не заставлял писателей писать для детей, уверенный, что каждый талантливый сочинитель может и должен справиться с этим трудным делом. Полностью отрицая слащавость и нравоучительную жвачку, он одновременно твердо был уверен, что нельзя раскрывать ребенку мрачных сторон жизни, как и развивать в нем воинственные инстинкты. «Он из любви к детям, – подметил Вас. Ив. Немирович-Данченко, – дрожал над их душевной ясностью».
С декабря 1894 года в течение более двадцати лет Тихомиров редактировал популярный журнал «Детское чтение», переименованный в мае 1906 года в «Юную Россию». «Внеклассное чтение, – считал он, – должно главным образом формировать лишь общие понятия и общие руководящие мысли, а самое главное – воспитывающие душу ребенка гуманные впечатления, сумма которых и создаст в душе известные настроения, заложит благородные симпатии и антипатии… Воспитание интереса к знаниям и стремления к обогащению себя ими, воспитание гуманного чувства по отношению к природе и людям и стремление к самоусовершенствованию – вот задачи всякой детской книги, а следовательно, и детского журнала».
Но одним журналом дело не ограничилось, появились и другие периодические издания: «Педагогический листок», «Библиотека детского чтения», «Учительская библиотека». В помещении редакции на Тверской всегда было по-деловому шумно, а по субботним вечерам здесь накрывали стол, за которым собирались на чай писатели, художники, артисты, педагоги. С благодарностью вспоминает Н. Д. Телешов эти посиделки и их устроителей – Тихомировых.
«Они ввели меня, в то время чужака в литературе, в свое редакционное гнездо, где я перевидал большинство известностей того времени и не без пользы переслушал множество серьезных речей и споров, а также шуток, веселых острот и талантливых каламбуров; а остроумная шутка бывает иной раз значительней длинной речи».
Тихомиров был неутомимым тружеником не только в научном и издательском деле, но и в общественном служении. Он состоял инспектором ряда школ, председательствовал на учительских съездах, заседал в Московском комитете грамотности, который, по его словам, служил «не только сборным местом для свободного обмена мыслями по вопросам народного образования и первоначального учения, но был и вольным соборным учреждением, своего рода лабораторией, где вырабатывались и разрешались вопросы народного образования для осуществления этих решений в действительной жизни».
В 1900 году Тихомирова избрали гласным городской думы, и он выполнял депутатские полномочия в течение трех сроков – до 1909 года. В эти и более поздние годы, благодаря наследству жены и капиталам от издательской деятельности, на его пожертвования выстроены на Девичьем Поле здание Педагогических курсов Московского общества воспитательниц и учительниц, за которыми упрочилось имя Тихомировских курсов (ныне здание принадлежит физическому факультету Московского государственного педагогического университета), а в родном селе Рождествено двухэтажная школа и земская больница.
14 октября 1915 года Дмитрий Иванович Тихомиров тихо скончался, окруженный женой, дочерью и внуком. Похоронили его в пяти минутах ходьбы от Тихомировских курсов – на Новодевичьем кладбище. Поэт Иван Белоусов почтил память усопшего искренними стихами, опубликованными в ноябрьском номере журнала «Юная Россия», редактировать который теперь взяла на себя труд вдова Дмитрия Ивановича.
Кончил труд свой пахарь мирный…
Не жалея сил,
Век свой по полю родному
Он с сохой ходил.
И в распаханную землю
Сеял семена,
Веря – лучшие настанут
В жизни времена.
Утомленный и уставший
Лег он отдохнуть,
И в труде, и с светлой верой
Кончив жизни путь!
Среди кошек и книг. Библиофил Федор Федорович Мазурин (1845–1898)
В Древней Руси, когда не существовало еще печатного станка, создание каждой книги требовало долгого и упорного труда переписчика, из-за чего владельцами библиотек были почти исключительно монастыри. Богатые люди нередко заказывали книгу и потом передавали ее в полюбившуюся обитель, за что заслуживали себе вечное поминание на церковных службах. Вкладчики часто оставляли на страницах своего дара записи, в которых предупреждали монахов не выносить книгу за стены монастыря и выражали желание, чтобы читатели молили Бога о спасении души дарителя.
С развитием печатного дела стали появляться библиотеки и у просвещенных вельмож. К сожалению, как частные, так и церковные книжные собрания большей частью пропали невозвратно из-за пожаров, сырости, крыс, набегов завоевателей, равнодушия к просвещению потомков коллекционеров.
До XIX века светская книга почиталась за прихоть, игрушку и пользовалась уважением лишь у немногих любителей чтения. Пик коллекционирования пришелся на вторую половину XIX века. Собирали, конечно, не любую печатную продукцию, а выборочно. К примеру, к ценным экземплярам никогда не относились сочинения по математике, технике и естествознанию. Предпочтение отдавалось философско-богословским, географическим, юридическим и литературным книгам. Особой гордостью считалось иметь инкунабулы, напечатанные наборными буквами в XV и XVI веках. Гонялись также за книгами, оттиснутыми в одном-двух экземплярах (например, «Карманный календарь Его Императорского Высочества Государя Великого Павла Петровича за 1761 год»). Далее шли по ценности издания, уничтоженные по распоряжению цензуры или истребленные самим автором, русские запрещенные книги, напечатанные за границей, и масонские сочинения. Букинистические магазины и лавки множились, как грибы по дождю. Более, чем другие города, ученых библиофилов знавала Москва. Каждый из них был оригинален и все признавались за маньяков, одержимых страстью собирательства. Например, чудаковатый Ф. Ф. Мазурин…
Всегда угрюмый, одетый как попрошайка, сгорбившийся Федор Федорович целыми днями толкался в книжных лавках на Никольской возле Проломных ворот (на Проломе), на Сухаревке и Лубянке, где плаксивым голосом часами торговался с продавцами. Букинисты обычно не уступали ему ни рубля, его подводило полное отсутствие актерских способностей – Мазурин весь трясся, прижимая к груди облюбованную книгу, и было ясно, что он без нее не уйдет. Но за ним нужен был глаз да глаз: бывало, потихоньку вырвет последнюю страницу и купит книгу, как с изъяном, подешевле, а дома аккуратно вклеит похищенный лист. Или вовсе сунет тайком под тулуп книгу, когда денег нет, и унесет.
Жил Мазурин вместе с тремя старухами, управлявшими его холостяцким хозяйством, в нижнем этаже старинного купеческого особняка в переулке возле Мясницкой улицы. Но настоящими хозяевами в доме были не он, не старухи, а полтора десятка кошек, которых он звал по имени-отчеству и угощал молоком из своей чайной чашки. Другими хозяевами были книги. Самые ценные Мазурин держал завернутыми в бумагу на замке в сундуках. Остальные заполонили все его скудно меблированные комнаты, располагаясь в шкафах, на стульях и столах. Особенно любил Федор Федорович среди них девственные экземпляры —без единой помарочки, с неразрезанными страницами.
– Да что вам стоит страницы разрезать? – удивлялись редкие гости.
– Нет уж, успеют и после нас. Если нужно почитать, я и потрепанную такую же найду.
Ученые мужи, бывавшие у него, видели не только множество редких книг, но и бесценных рукописей. К примеру, собственноручные письма императора Петра I и черновой катехизис митрополита Филарета.
Библиотека чудаковатого библиофила с каждым днем пополнялась, как золото в сундуке пушкинского Скупого рыцаря. Вот только у того был сын расточителем, а у Мазурина – мать. По мягкости характера Федор Федорович не мог попенять ей, что не след тратить деньги на украшение храмов, когда их можно пустить на пополнение библиотеки. Долго мучился сын, думая, как обуздать траты матери, которой никогда не мог отказать в просьбе. И надумал! Наложил сам на себя опеку, выбрав опекунами Василия Алексеевича Бахрушина и Михаила Алексеевича Чернышева, наказав им, даже если он сам будет просить, не давать денег на матушкины храмы.
Может показаться, что Мазурин был безумцем и проку из его собирательства не было никакого. Отнюдь! Лучшие знатоки книг – Шибанов, Большаков, Фрейман, Байков – часто обращались к нему за справками и тотчас получали верный ответ. Федор Федорович на память знал год издания, тираж, количество рисунков почти каждого фолианта XVII и XVIII веков. «Он – живая энциклопедия по старинной и редкой русской библиографии, – признавался другой ученый библиоман А. П. Бахрушин. – Конкурентов ему нет!»
Мазурин постоянно реставрировал книги – чинил корешки, выводил пятна, работая, как лучшие мастера-профессионалы. Думал он и о том, чтобы коллекцию не растащили по кусочкам наследники, и завещал ее во всей полноте в Московский архив Министерства иностранных дел. Куда она и поступила во исполнение последней воли покойного, навеки расставшегося с любимыми книгами 23 декабря 1898 года. Ныне его уникальная коллекция, насчитывающая около семи тысяч томов старопечатных изданий и книг XVIII века, а также семьсот рукописей XII–XVI веков, хранится в Российском государственном архиве древних актов.
Обыкновенная жизнь. Владимир Константинович Шпейер (1846–1915)
О богатых москвичах в старину говорили не меньше, чем об императорской семье, гордились капиталами вельможных тузов, роскошными барскими особняками, многочисленной дворней. Юсуповы, Орловы, Голицыны – их имена окружали героическими легендами и завистливыми сплетнями. Такой уж удел бедных – издали любоваться великолепием жизни богатых. «Юсупов-то сам не выходил из кареты, – бывало со слезами восторга на глазах начинал рассказ московский старожил, – его четверо гайдуков вынимали».
Обыватели изо дня в день ездили по замощенным мостовым, переходили через реки по мостам, пользовались мытищинским водопроводом, но о городском хозяйстве вспоминали, лишь чтобы ругнуть городскую управу за дорожную грязь или погасший фонарь. Как-то считалось само собой разумеющимся, что кто-то строит мосты и плотины, прокладывает канализацию, расширяет улицы, устраивает скверы и бульвары. Оттого вряд ли нашлись москвичи, которые отметили 11 августа 1996 года 150 лет со дня рождения Владимира Константиновича Шпейера.
Уроженец города Николаева Херсонской губернии, сын полковника Корпуса флотских штурманов, он получил прекрасное техническое образование в Цюрихе. По его проекту и под наблюдением проложили железную дорогу в Крыму на самом трудном гористом участке: Симферополь – Севастополь. С конца 1870-х годов Шпейер служит в Москве инженером Коломенского машиностроительного завода братьев Струве, затем в течение тридцати лет работает городским инженером. Им построены Москворецкий, Краснохолмский, Крымский, Высокояузский, Яузский, Устьинский, Чугунный мосты. Спроектированы железные ряды на Красной площади во время перестройки Верхних торговых рядов (позже перенесены на Болотную площадь), железный навес на Хитровом рынке. Шпейер проложил канализацию в самом сложном, пологом участке города – Замоскворечье. Им составлены расценочные ведомости на все строительные работы в городе. Он участвовал в постройке и капитальном ремонте плотин, шлюзов, набережных, улиц, бульваров, жилых и нежилых построек, трассировке пути трамваев, прокладке кабелей электрического освещения и первых телефонных проводов. Владимир Константинович в течение многих лет изучал особенности Москвы-реки, составил ее подробное описание с сотнями диаграмм и схем и предложил конкретные мероприятия для предотвращения наводнений и обмеления.
Но перечисленные труды московского инженера не вызывали интереса у обывателей. Их мало интересовало, что Шпейер с раннего утра до позднего вечера трудится для блага города, что через его руки несколько десятилетий подряд проходят все важнейшие технические городские проекты, что губернаторы и городские головы, зная его честность и ученость, часто обращаются к нему с просьбой помочь в том или ином деле по благоустройству Москвы.
Выдающийся инженер, опытный гидравлик, знаток городского технического хозяйства, Шпейер провел свою жизнь скромно, в беспрестанном труде и, когда умер в 1915 году, мало кто, кроме сослуживцев, отметил этот факт. Да и они, собравшись помянуть наставника и товарища, ничего необычного в его жизни вспомнить не могли.
– В праздник ездил на охоту, в остальные дни – в рабочие канавы.
– Собирались часто у него на квартире, обсуждали вопросы городского хозяйства.
– Он лучше всех знал иностранную техническую литературу и помогал нам, делился своим опытом.
– Каждое утро объезжал все работы, а каждый вечер десятники обязаны были являться к нему с докладом о сделанном за день.
– Его неизменная привычка – строить прочно, надежно и из-за нехватки городских средств дешево.
– Пройти школу Владимира Константиновича – значит научиться профессионально и добросовестно работать.
Не правда ли, обыкновенная жизнь обыкновенного человека… И написать о нем по большому счету нечего… То ли дело князь Юсупов – его четверо гайдуков из кареты вынимали!
Исследователь славянских песен. Музыкальный критик и пианист Юлий Николаевич Мельгунов (1846–1893)
30 августа 1846 года в Ветлуге Костромской губернии родился Юлий Николаевич Мельгунов, чей старинный дворянский род был записан в «Бархатную книгу». Но прославился он не родовитостью, а тем, что по окончании Александровского (бывшего Царскосельского) лицея всецело посвятил себя музыкальной деятельности, став известным пианистом и исследователем славянских песен.
Вместе с профессором Вестфалем он концертировал по Германии, где дал более шестидесяти концертов, со скрипачом Лаубом и виолончелистом Давыдовым по России. Наконец поселился окончательно в Москве, где давал уроки музыки, издал фуги Баха, редактировал вологодские песни, собранные М. Куклиным. Наиболее интересное из его деятельности – издание двух выпусков «Русских народных песен» с обширным предисловием. Мельгунов подметил, что теория музыки не может постичь тайну чудных народных напевов. Он первым указал на полифонию (многоголосие) народной песни, обратил внимание на гармоническое происхождение мелодий.
«И музыка, и текст народной песни пленяют нас своей безыскусственностью и подкупают отсутствием всяких измышлений. Едва ли мы ошибемся, сказав, что ни один народ Европы не может в настоящее время дать такой массы национальных мотивов, замечательных по своей красоте и оригинальности, как народ русский. Цивилизация, принятая с Запада, с поразительной скоростью уничтожает у нас остатки народной музыки, и мы близки уже к тому времени, когда и у нас исчезнут народные мелодии… Неудивительно, если следующее поколение не будет знать и десятой доли того, что теперь поется народом».
К радости, нашлись последователи у Мельгунова, посвятившие свою жизнь сбору и изучению поэтического народного творчества, сохранив его для будущих поколений. Сам же Мельгунов, увы, как и многие талантливые люди, неосуществленные планы и мечтания унес с собой в могилу (умер 19 марта 1893 года). После него остался огромный архив, который так никто и не удосужился разобрать. Это и обширный курс фортепьянной музыки, и разборы сочинений Бетховена, Шумана, Листа, Глинки, и исследование о церковном пении. Забыли воспитателя многочисленные ученики и друзья. Забылась и его могила на Ваганьковском кладбище.
Вечера дяди Володи. Меценат Владимир Егорович Шмаровин (1847–1924)
В 1772 году в Москве иностранцами был основан первый клуб – Английский, в 1784-м появился второй – Дворянский (Московское благородное собрание), в начале следующего века добавились к ним Немецкий и Купеческий. Еще через сто лет клубов стало не перечесть: женский, автомобилистов, гимнастов, лыжников, велосипедистов, врачей, служащих в кредитных учреждениях, шахматный, охотничий, речной и т. д. Люди же искусства – литераторы, живописцы, артисты – объединялись в тесные полусемейные кружки, часто враждовавшие друг с другом из-за разности взглядов на художественное творчество. Просуществовав несколько лет, кружки обычно бесследно исчезали и на свет появлялись новые. Исключением стали «Среды» Шмаровина, зародившиеся в 1886 году и просуществовавшие тридцать восемь лет.
Кто только не побывал на «Средах»! Из художников – С. И. Ягужинский, И. И. Левитан, В. И. Суриков, К. А. Коровин, И. Е. Репин, А. М. Васнецов; из артистов – А. П. Ленский, Ф. И. Шаляпин, В. Ф. Комиссаржевская; из писателей – В. А. Гиляровский, И. А. Бунин, В. Я. Брюсов.
К тридцатилетию кружка Владимир Гиляровский приготовил стихотворный спич:
Эх ты, матушка-голубушка «Среда».
Мы состарились, а ты все молода.
Тридцать лет прошло, как будто не бывало,
Тридцать лет тебе сегодня миновало.
Тот же самый разговор живой и смелый,
А родитель твой, хоть малость поседелый,
Да душа его, как прежде, молода,
Эх ты, матушка-голубушка «Среда».
Имена многих членов «Среды» золотыми буквами вписаны в историю русского искусства. Их творчество живет и будет жить. Другое дело – скромная роль родителяи вдохновителя кружка В. Е. Шмаровина. Он не создал ни живописных полотен, ни поэтических строк, но в шедеврах многих русских художников есть доля и его труда.
Владимир Егорович Шмаровин закончил курсы счетоводов и поступил на службу бухгалтером к московскому купцу Полякову. Женившись на его дочери, он стал богатым человеком и, страстно влюбленный в живопись, начал приглашать к себе домой по средам художников. Многие из них жили бедно и рады были получить от хозяина бумагу, холсты, краски, кисти, хороший ужин, а иногда и помощь в приискании заработка.
«Живой, общительный, с искренним чувством дружбы к художникам, Шмаровин сделался своим человеком для многочисленной художественной братии, – вспоминал гравер И. Н. Павлов. – Шмаровин, имея личные средства, а также связи с промышленным миром, часто выручал многих художников покупками картин».
Каждую среду с восьми часов вечера в доме Владимира Егоровича все собравшиеся члены кружка, кто умел рисовать, брали в руки карандаши и кисти. Ровно в двенадцать Шмаровин ударял в бубен, рабочая обстановка сменялась застольем, появлялись закуски и неизменный бочонок пива. Спорили, пели, смеялись, хвалились только что нарисованными шаржами друг на друга. Отличившиеся в этот день удачным рисунком или застольным экспромтом удостаивались выпить из почетного кубка «Орел».
«Утро. Сквозь шторы пробивается свет, – вспоминал завсегдатай шмаровинских вечеров Владимир Гиляровский. – Семейные и дамы ушли… Бочонок давно пуст… Из «мертвецкой» слышится храп. Кто-то из художников пишет яркими красками с натуры: стол с неприбранной посудой, пустой «Орел» высится среди опрокинутых рюмок, бочонок с открытым краном и, облокотясь на стол, дремлет дядя Володя».
Со временем кружок дяди Володипереехал из Савеловского переулка возле Остоженки в более просторный особняк на Большой Молчановке и «Среды» теперь зараз могли приютить до ста гостей. Шмаровин трудолюбиво вел протоколы всех вечеров, коллекционировал рисунки своих талантливых гостей, которые считались собственностью кружка.
В 1918 году дом «Среды» реквизировали под футуристические выставки, но громаднейший архив кружка не пропал, а сохранялся в квартире Шмаровина на Большой Никитской. Последний раз очередную годовщину «Среды» отметили в октябре 1924 года, а несколькими днями позже Владимир Егорович готовился расстаться с жизнью.
Великие люди перед смертью изрекают что-нибудь существенное. Предания гласят, что, умирая, римский император Август пошутил: «Пьеса сыграна, аплодируйте»; писательница госпожа Сталь заявила: «Я любила Бога, отца и свободу»; полководец Наполеон Бонапарт воскликнул: «Боже мой! Французская нация! Глава армии!»
Шмаровина ни он сам, ни многочисленные друзья не относили к великим людям. Он не умел ни управлять государством, ни сочинять романы, ни уничтожать в сражениях тысячи человек. Он лишь умел видеть в людях искру таланта и всеми силами старался не дать ей погаснуть. Поэтому перед смертью ему не подходило изрекать афоризмы, он лишь с чувством выполненного долга думал о том, что все богатство «Среды» – протоколы, альбомы, собрания рисунков и акварелей – остается после него в полной сохранности и по завещанию попадет в Третьяковскую галерею. Так и случилось.
В нескольких словах трудно передать изумительную атмосферу шмаровинских вечеров. Но ее можно ощутить, обратившись к вышедшей тридцать лет назад прекрасной книге Екатерины Кисилевой «"Среды" московских художников».