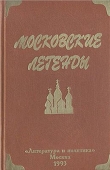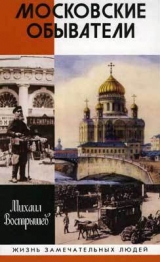
Текст книги "Московские обыватели"
Автор книги: Михаил Вострышев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 30 страниц)
Потомок Мономаха. Граф Матвей Александрович Дмитриев-Мамонов (1788–1863)
В восточной части Ленинских гор, на высоком правом берегу Москвы-реки уже более двух веков стоит дворец, на который с завистью заглядываются горожане и их гости: вот где пожить бы – вся Москва на ладони. Но сотрудники Института химической физики не хотят лишаться рабочего места чуть ли не в самом центре города и стойко переносят неудобства старинного особняка во время своих ультрасовременных опытов.
А еще каких-то полтора века назад вокруг Мамоновой дачи, как называли эту дворянскую усадьбу москвичи, шумел вековой лес, редких грибников и любителей дальних загородных прогулок сковывал суеверный страх возле чугунной решетки с желтой ржавчиной и зеленым бархатом мохового нароста, за которой в глубине роскошного сада сверкал загадочный двухэтажный дом с террасами и высоким бельведером. Здесь долгие годы в полудобровольном заточении жил сын графа Александра Дмитриева-Мамонова, двенадцатого фаворита Екатерины II, посмевшего прийти в уныние от прелестей своей шестидесятилетней царствующей любовницы и предпочесть ей молодую княжну Щербатову, за что и был милостиво спроважен в Москву.
В белокаменном, живущем на крестьянский лад городе опальный фаворит, привыкший к фейерверкам, блеску двора и тонкой лести, загрустил и вскорости следом за молодой женой сошел в могилу, оставив сыну, по слухам, миллионное состояние.
Молодой граф Матвей, опять же по слухам, быстро спятил от своего несметного богатства, начал постреливать из пистолета в казенные фраки чиновников и приказал дворовым почитать себя за русского царя.
В Петербурге знали за Москвой грешок выставлять кого ни попадя воскресшими русскими царями и цесаревичами, бесчисленными Дмитриями, Алексеями, Петрами, Иоаннами, Павлами, в то время как было доподлинно известно, что они в свое время были задушены, заколоты, запытаны. И вот дорвавшийся до высшей власти казнелюбивый Николай I в злопамятном 1826 году поспешил объявить графа Матвея Дмитриева-Мамонова рехнувшимся.
Петр Чаадаев, прозванный «басманным» философом по улице, на которой жил, тоже был объявлен сумасшедшим, опубликовав дерзкую статью в «Телескопе». Но москвичи продолжали встречать его в своих гостиных, в театре, модных магазинах, а потому втихомолку посмеивались над петербургскими враками. Но Мамонова тайна леденила душу – затворник граф нигде не показывался, его помнили лишь московские старожилы, заставшие начало французской кампании 1812 года.
В тот грозный час москвичи вдруг остро ощутили, что у них есть Отечество, которое должно защищать, и из ленивых обывателей вдруг превратились в горячих патриотов. Купцы пожертвовали на войско несколько миллионов рублей, дворяне вступили в ополчение, дамы научились щипать корпию и перевязывать раненых. Тогда-то молодой граф Дмитриев-Мамонов одел, вооружил и посадил на коней тысячу своих крепостных крестьян и вместе с ними отличился в сражениях при Тарутине и Малоярославце.
Но кончились трудные для России дни, император Александр I пожинал лавры освободителя, гарцуя в покоренных городах Европы, любовь к Отечеству и воинскую смекалку вновь оттеснили собачья преданность начальству и куриные мозги. Граф Матвей – потомок Владимира Мономаха, крестник горбатого крестьянина-зеленщика, воспитанник иезуитского колледжа, обер-прокурор шестого департамента Сената, генерал-майор, масон, основатель «Ордена русских рыцарей», богач, умница, красавец, обладающий чудовищной физической силой, – в конце концов подал в отставку и уединился в своем подмосковном имении в Дубровицах.
Вскоре одни стали замечать, другие пересказывать, третьи доносить, что граф без счету раздает деньги, «желая, – как он выражался, – помочь людям не временно, а возобновлять их жизнь, делая из несчастных счастливцев». После обеда он частенько бранится со своими далекими, все продвигающимися в чинах врагами (бывшими друзьями), в бессильной злобе пишет указы, чтобы одних из них наказали кнутом, других отправили в Сибирь, и бросает грозные повеления за окно. По вечерам сочиняет проекты преобразования России и заодно планы укрепления своего замка в Дубровицах.
На все эти отклонения от норм высшего света смотрели, конечно, как на чудачества миллионера, а вот то, что граф никогда не бывает в обществе, а значит, не танцует, не делится своими мыслями с московским дворянством и не выражает любви и признательности царствующему дому и прочему начальству, вызывало чувство зависти, обиды и оскорбленного достоинства, а как следствие – сомнения в благонадежности.
Поводом убедиться в приверженности графа Матвея крамоле послужила жалоба московского генерал-губернатора князя Голицына, что его адъютанта, привезшего строгое начальственное наставление дубровицкому затворнику, выгнали из усадьбы, приказав передать своему начальнику, что Дмитриев-Мамонов не прощает грубостей, даже если они изложены на бумаге, и готов встретить худородного князя как дворянин дворянина – шпагой или пистолетом.
Подобное поведение решили счесть за буйное помешательство и с помощью отряда жандармов доставили дерзкого отпрыска Мономахова рода в Московский сумасшедший дом. Здесь его стали лечить: лили на голову ледяную воду, держали круглыми сутками связанным, усердно кормили лекарствами. В конце концов вполне компетентная комиссия смогла признать графа помешанным «от самолюбия и славолюбия» и учредить опеку над его капиталами. Самого же миллионера втихомолку упрятали на Воробьевы горы, в специально купленный по этому случаю у князя Юсупова загородный дом. С тех пор москвичи засудачили о Мамоновой даче и наводящем на город страх и тайну ее безумном обитателе.
Но если бы словоохотливые москвичи, послужившие прототипами Грибоедову в его запрещенной комедии «Горе от ума», заглянули за таинственную чугунную решетку в прогулочный час, то увидели бы в глубине сада красивого старца с белой бородой, в бархатном халате на беличьем меху и в черной тафтяной шапочке, которую обыкновенно носят римские папы в домашнем быту. Его со всех сторон обступали дети дворовых, и для каждого ребенка он находил ласковое слово. Бездомные собаки с хозяйской невозмутимостью бродили поблизости, ожидая подачек доброго господина.
Любимый графский шут в генеральском мундире с Андреевской лентой и до блеска начищенными орденами, восемь лакеев в синих фраках с металлическими пуговицами, на которых был изображен мамоновский герб, да и прочая челядь замечали кой-какие странностиза своим повелителем (отличия от прочих господ): он никогда не молился, кормил дворню теми деликатесами, которые готовил ему один из лучших московских поваров, целыми днями просиживал за рабочим столом и все писал, писал, писал…
Многие черты легендарной личности Матвея Дмитриева-Мамонова, каким он был до затворничества, послужили Льву Толстому источником для образа Пьера Безухова.
Когда же старцу, пережившему двух братьев-императоров, предложили снять с него опеку и пообещали вновь объявить его нормальным гражданином, он отказался, заявив, что привык уже быть не в своем уме.
Скончался единственный сын предпоследнего фаворита Екатерины II тихо – вздохнул и, сказав: «Вот и умираю. Что ж, я довольно пожил!», – отправился вслед за отцом в фамильную усыпальницу в Донском монастыре.
Но еще долгое время Мамонова дача смущала москвичей своей красотой и безмолвием, порождала легенды и апокрифы о своем больном душою владельце, унесшем в могилу какую-то странную Мамонову тайну.
Дед артистки. Математик и астроном Дмитрий Матвеевич Перевощиков (1788–1880)
«..Я мог бы указать вам на множество своих современников, людей замечательных по талантам и трудолюбию, но умерших в неизвестности. Все эти русские мореплаватели, химики, физики, механики, сельские хозяева – популярны ли они?» – с горькой иронией спрашивает чеховский пассажир первого классау своего попутчика.
Москвичи (впрочем, как и петербуржцы, и провинциалы) любили посудачить о дуэлях (особенно если исход был печальным), о путешествиях государей (главным образом, о пикантных подробностях из дорожной жизни молоденьких фрейлин, пользующихся монаршей благосклонностью), о чертях, домовых, миллионерах, жуликах, пророках. Лишь немногие стремились побеседовать о науках, поэзии, живописи. Но им чаще всего не давали выговориться, перебивали, внезапно вспомнив подробности недавнего происшествия, когда офицер Безобразов на маскараде в Благородном собрании, будучи вдребезги пьян, раскроил саблею череп толкнувшему его во время танца молодому человеку. И вообще, если какому-нибудь купчишке или совсем спятившему графу не терпелось поговорить о паровых машинах, работающих на подмосковных фабриках, об электричестве, освещающем парижские магазины, или о загадочном телеграфе, появившемся в далекой Америке, то, значит, считали москвичи, он зануда и чудак.
Дмитрию Перевощикову с популярностью не повезло, за свою долгую, растянувшуюся почти на весь девятнадцатый век жизнь, он никогда не подделывал векселей, не проигрывал в карты миллионных состояний, не держал в любовницах красавиц знатных дворянских фамилий. Он всего лишь страстно и с любовью в течение трех с лишком десятилетий читал студентам Московского университета курсы алгебры и трансцендентальной геометрии, сферической тригонометрии и теоретической астрономии, прикладной математики и механики твердых и жидких тел… По написанным им учебным пособиям – «Арифметика для начинающих», «Руководство к астрономии», «Основания алгебры», «Руководство к опытной физике», «Ручная математическая энциклопедия» (в тринадцати томах)… – училось несколько поколений русских интеллигентов.
Перевощиков был основателем Московской обсерватории, директором медицинского института, деканом физико-математического факультета, а позже и ректором всего университета. Он заложил основы правильного и систематического обучения в России точным наукам, проводил публичные лекции для московской публики всех сословий, руководил городскими метеорологическими наблюдениями, его научными статьями были наполнены журналы обеих русских столиц. Много сделал Дмитрий Матвеевич для изучения и популяризации наследия Ломоносова. В «Слове о явлениях воздушных, от электрической силы происходящих» он с восхищением говорил о своем великом предшественнике: «Читая, изучая сии рассуждения, всегда приходил я в удивление перед его гением, который предвидел истины, доказанные ныне многочисленными и точными наблюдениями». Далее Перевощиков с негодованием отмечал: «Мы редко оцениваем справедливо труды своих сограждан, хладнокровно уступаем иностранцам славу изобретений».
Изредка Дмитрий Матвеевич мог прочесть в русских журналах лестные слова о себе. «Имя г. Д. М. Перевощикова пользуется у нас громкой известностью, вполне заслуженной… – писал Николай Чернышевский. – В последние тридцать лет никто не содействовал столько, как он, распространению астрономических и физических явлений в русской публике… Количество написанных им с этой целью статей очень велико, и по числу, и по внутреннему достоинству они в русской литературе занимают первое место».
Дмитрий Матвеевич добродушно усмехался: «Эко он меня! В знаменитости записал, смешно, право» – и спешил справиться с многочисленными заботами дня: предстояло договориться о починке печей в комнатах казеннокоштных студентов, уговорить профессора Мухина пожертвовать тысячу рублей на громоотвод для обсерватории, посидеть над расчетами магнитных наблюдений, набросать письмишко своему старинному товарищу и сокурснику Николаю Лобачевскому. А вечером надо обязательно успеть в театр, будет бенефис Щепкина, и потом вместе с ним они заглянут на огонек к своему приятелю Сергею Тимофеевичу Аксакову, куда постараются затянуть и взбалмошного Гоголя. Друзей-то с каждым годом все меньше, все теснее их круг, поэтому нельзя забывать друг о друге…
О Перевощикове не судачили ни барышни на балах, ни девки на гуляньях. О его существовании не подозревал царский двор, поэты не посвящали ему ни героических од, ни злобных эпиграмм. Но надо ли унывать, завидовать, жаловаться на выпавший жребий? Наоборот, ученый был благодарен судьбе, что всю жизнь провел в заботах, в нужных для Отечества делах.
Перевощиков прожил долгую счастливую жизнь, до конца сохранив ясность ума, жажду деятельности и веселую шутку. Он успел выучить и поставить на ноги детей, поласкать внуков и даже похоронить всех друзей. И он не мечтал о посмертной славе, не верил в нее.
Наступил новый век. Имя астронома, математика, физика Дмитрия Перевощикова укоренилось в научных монографиях и справочниках, оставаясь по-прежнему совершенно неизвестным народу. Зато об одной из его внучек, актрисе, уже вышла в свет книга воспоминаний с приложением ее писем…
К сожалению, прав оказался чеховский пассажир первого класса,предсказавший забвение многим мореплавателям, химикам, физикам, механикам, сельским хозяевам. «Да-с, – продолжал он свирепо, – и в параллель этим людям я приведу вам сотни всякого рода певичек, акробатов и шутов, известных даже грудным младенцам. Да-с!»
Кочевая жизнь. Приживалка Феодосия Ивановна Бартенева (1790–1835)
Понятия «семья» и «гость» в семье Бартеневых сливались воедино. Не потому, что их дом был полной чашей и по нему всегда расхаживали приглашенные на обед или бал друзья, а наоборот. Бартенева с детьми вела кочевой образ жизни, вечно пребывая в гостях.
Феодосия Ивановна, урожденная дворянка Бутурлина, в молодости училась музыке у Мускети и пользовалась известностью великосветской певицы. Но, выйдя еще до войны с французом замуж за никчемного статского советника Арсения Ивановича, она стала рожать ему одного за другим детей и довела их счет до восьми. Муж был равнодушен к приплоду и жил исключительно сплетнями, которые развозил по московским салонам, стараясь не встречаться там с женой. Дом их из-за бедности был пуст в самом прямом смысле слова, – не только еда, но и мебель в нем почти полностью отсутствовали. Зато имелись соответствующие дворянину средства передвижения – четырехместная карета-рыдван, четверня лошадей, крепостной кучер, форейтор и лакей. С утра карета закладывалась, в нее погружались все дети и Феодосия Ивановна отправлялась по гостям. Напьется утречком чаю у каких-нибудь знакомых, накормит там детей завтраком – и дальше в путь. Зная, у кого растут барышни и что сегодня у них урок музыки, она завозила туда дочерей.
– Позвольте и моим послушать, как ваши играют.
Потом направлялась в дом, где есть мальчики и при них учитель.
– Ваши сыновья за уроком? Вот и хорошо, позвольте и моим послушать.
Сама же ехала в третье место – обедать и вести салонные разговоры. Вечером, посадив всех детей опять в карету, старалась попасть к кому-нибудь на бал. Когда подросла старшая дочь Прасковья, брала и ее с собой, тем более что она, как и мать в молодости, отличалась красотой и отличным голосом. Прасковью даже приглашали петь, когда город посещали высочайшие особы. Мать каждый раз перед вечерним выездом заставляла уже одетую в бальный наряд дочь класть земные поклоны перед киотом и прикладываться к каждому образу.
Остальные дети, – если их не удавалось пристроить на вечер у знакомых, – покуда Феодосия Ивановна веселилась на балу, одновременно договариваясь со знакомыми, к кому нагрянет завтра, проводили время в карете. Здесь они ужинали припасенными матерью харчами, здесь и засыпали в ожидании ее. Они так привыкли к кочевой жизни, что признавались: «Нам нужен дом только для того, чтобы переночевать, а днем нам нужна большая карета. Жаль только, что наша без печки, потому что бывает холодно, а то бы нам и дом не нужен».
Однажды при разъезде с бала мать не досчиталась одной дочки. Все обыскали – пропала! Феодосия Ивановна уже пришла в отчаяние, когда отъезжающие гости нашли девочку уснувшей под их шубами. Оказалось, она озябла в карете, вошла погреться в дом и заснула под ворохом теплой одежды.
Другой раз, когда мать зимой веселилась на генерал-губернаторском балу, выискивая приглашений на завтра, дети, чтобы немножко согреться, стали пищать и резвиться в карете. Камердинер генерал-губернатора не стерпел происходящего и, жалея сироток при живых родителях, доложил своему хозяину, что дети Бартеневой мерзнут и плачут. Князь Д. В. Голицын приказал перенести их в свой кабинет, накормить и положить спать на больших диванах. После этого случая всякий раз, как Бартенева появлялась у хозяина города на балу, он посылал в карету за ее детьми и укладывал спать у себя.
Был и такой случай. Посещая еженедельные танцевальные вечера у одних знакомых, Бартенева оставляла детей у живших напротив других знакомых. Те вдруг переехали, чего она не знала, и, как обычно, высадив родных чад возле дома, где их должны были приютить, упорхнула. Новые жильцы при виде толпы незнакомых детей, вбежавших в их гостиную, опешили. Но дети Бартеневой были необыкновенно скромные и милые, они учтиво раскланялись и, потупив взоры, назвались. Да кто в Москве не знал их матери и ненормальную жизнь ее детей! Всех тотчас накормили и уложили спать.
«Первый раз, как я увидела Бартеневу, – вспоминала баронесса Елизавета Мангден, – она меня поразила своей странной внешностью. Мы обедали у Елизаветы Евгеньевны Кашкиной. Посреди обеда дверь отворилась и вошла Бартенева с многочисленными своими детьми. На ней было старое полинялое платье, полуоткрытое, без корсета, без воротничка и мантильи. Волосы были в беспорядке, глаза как-то мутно и тускло смотрели. Она имела вид слегка помешанной. Детей сейчас посадили за стол и накормили».
«Она была очень недурна собой, – вспоминала о Бартеневой другая великосветская дама Елизавета Петровна Янькова, – премилая, прелюбезная и женщина очень хороших правил, но великая непоседка, потому что была охотница веселиться и мыкаться из дома в дом».
Умерла Феодосия Ивановна, когда старшей дочери шел двадцать четвертый год, и ее взяла к себе фрейлиной императрица Александра Федоровна. Младших детей устроили в Екатерининский институт. А никчемный муж-вдовец, тщательно одетый и со взбитым хохлом, еще четверть века разъезжал по гостям, всякий раз радуясь, когда мог первым сообщить какую-нибудь скандальную или политическую новость.
Чистый сердцем. Инспектор Московского университета Платон Степанович Нахимов (1790–1850)
Московский университет в сороковых годах XIX века представлял собой не только центр просвещения России, но и самостоятельную корпорацию, не подчиняющуюся ни городскому начальству, ни надзору полиции. Студента, к примеру, не мог арестовать ни квартальный, ни обер-полицмейстер. Для университетской молодежи, имевшей особый мундир и шпагу, существовало свое место заключения – карцер, и наблюдали за их образом жизни свои надзиратели – инспектор и субинспекторы.
В 1834 году инспектором был определен Платон Степанович Нахимов, из смоленских дворян, в 1802 году поступивший в Морской кадетский корпус и по окончании учебы здесь же проходивший службу до 1827 года. В морском мундире, застегнутый на все пуговицы, с кортиком, подстриженный под гребенку, он подавал пример воспитанникам своей выправкой и прилежанием к порученному делу. Когда в университетском коридоре раздавался грозный окрик: «Студент, застегнитесь!» – любой тотчас же соображал, что попался Платону Степановичу.
Вот бежит опрометью вниз по лестнице студент и чуть не сталкивается со стоящим со скрещенными руками на груди и отставленной в сторону правой ногой инспектором.
– Сумасшедший! Чуть с ног не сбил. Куда летишь, сломя голову?
– В театр за билетом, Платон Степанович.
– В театр? И ради этого готов сбить с ног инспектора? Небось, какую-нибудь дрянь смотреть?
– «Жизнь за царя», Платон Степанович.
– Ну, «Жизнь за царя», – конфузится инспектор, – это можно. Ступай.
Довольный ловким обманом, студент мчится дальше, предвкушая радость от французского водевиля, а потом – дружеской попойки.
Но власть инспектора непререкаема не только в стенах университета – во всем городе. Платон Степанович заглянул в трактир «Британию» – любимый приют своих питомцев. За столиками, среди другой публики, сидело несколько студентов.
– Что это вы пьете?
– Чай, Платон Степанович.
– Полно, чай ли?
Он попробовал у каждого из стакана ложечкой напиток и молча ушел. Но гроза еще не миновала! На следующий день одного из вчерашних студентов грозный инспектор потребовал к себе.
– Какую ты вчера дрянь пил в «Британии»?
– Виноват, Платон Степанович, пунш пили.
– Другие-то пунш пили, а ты черте что, бурду какую-то. Разве это пунш? Пошел в карцер!
Подходит в другой раз инспектор к чугунной лестнице, вьющейся вверх, и видит, что на третьем этаже перегнулся через перила студент.
– Вот только упади, – закричал Платон Степанович, – сейчас посажу в карцер!
Конечно, все это легенды, их о Нахимове ходило среди студенческой молодежи сотни. И что интересно, об этом сердитом с виду капитане II ранга, осуществлявшем неусыпный надзор за своими воспитанниками, не было ни одного злобного слова, на него никогда не жаловались, в бесчисленных анекдотах изображали исключительно простодушие правдивого и доброжелательного инспектора.
В университете запрещали в то время носить длинные волосы, чему, разумеется, студенты пытались противодействовать. Одному из длинноволосых Нахимов несколько раз напоминал, что надо сходить к цирюльнику. Все напрасно, студент обещал и не исполнял своих обещаний.
– Слушай же, – рассвирепел выведенный из терпения Нахимов, – если я еще раз встречу тебя в таком виде, то непременно исключу из университета! Понимаешь?
– Понимаю, Платон Степанович.
На другой день, отправившись в университет и свернув с Тверской улицы в Долгоруковский переулок, Нахимов к ужасу своему увидел, что с другого конца переулка, от Большой Никитской улицы, идет ему навстречу неостриженный вчерашний длинноволосик. Что делать? Сдержать свое слово – жалко студента. Не сдержать – стать бесчестным. Положение бедовое. И тут нашелся выход!
– Поворачивай назад! Выезжай на Тверскую! – закричал он кучеру. – Скорее же, разиня!..
«Из своих скромных средств, – вспоминал Н. Попов о Нахимове, – нередко вносил деньги за право слушания лекций бедными студентами. И делал это деликатно, так что они редко узнавали имя своего благодетеля».
«Он живо напоминал мне, – вспоминал знаменитый собиратель сказок А. Афанасьев, – прекрасный характер Максима Максимовича в «Герое нашего времени».
«Про Платона Степановича ходило множество анекдотов, как студенты его обманывали и как он поддавался обману, – вспоминал профессор Б. Чичерин. – Но поддавался он нарочно, по своему добродушию, потому что не хотел взыскивать строго с молодых людей, а предпочитал смотреть сквозь пальцы на их юношеские проделки».
Чуя беду или нуждаясь в помощи, студенты в первую очередь шли к Нахимову. Зачастую он и сам вызывался быть их ходатаем перед начальством. В нем они находили заступника и друга.
– Платон Степанович, будьте так добры, посмотрите, сколько мне профессор поставил.
– Пошел прочь! – сурово отвечает Нахимов. – Приспичила надобность, так и прилез просить: «Платон Степанович, Платон Степанович, посмотрите мои баллы». А только я отвернусь, первый же закричишь: «Флакон Стаканович! Флакон Стаканович!» Знаю я вас, зубоскалов. Убирайся вон!
Студент молча отходит, покорно склонив голову, еле сдерживая улыбку. Между тем Нахимов, заложив руки за спину, прохаживается по комнате, не обращая ни малейшего внимания на просителя. Вдруг исчезает. Студент глядит в окно, будто и вовсе забыл о своей просьбе. Спустя несколько минут инспектор возвращается и вновь продолжает прерванную прогулку. Студент все стоит у окна, понурив голову. Вдруг неожиданно над его ухом раздается голос Платона Степановича:
– Четверка.
«Однажды несколько человек, бывших студентами Московского университета и товарищами, – вспоминал Д. Дмитриев, – случайно съехались в каком-то дальнем уголке России после долговременной разлуки. Разумеется, это был светлый день в их жизни. Студенческие годы, юность, университет восстали в их воспоминаниях во всей поэтической красоте. Вместе с ними предстал и добрый образ незабвенного Платона Степановича. Тут же положили они послать ему за подписью всех письмо, в котором, объяснив счастливую встречу, свидетельствовали ему свою вечную, неизменную благодарность. Старик берег это письмо как святыню и в хорошие минуты нередко показывал его студентам… Это был поистине чистый сердцем!»
В 1848 году Платон Степанович стал хворать и перешел на более спокойное место – главным смотрителем Странноприимного дома графа Шереметева. В праздничные дни университетские воспитанники почитали за долг явиться к нему в дом и расписаться в визитной книге. Но здоровье все больше расшатывалось, и 24 июля 1850 года Нахимова не стало. Три с лишним года спустя, после Синопского сражения, выигранного его знаменитым братом-адмиралом в день именин Платона Степановича (18 ноября 1853 года), воспитанник покойного инспектора Михаил Стахович писал:
В ноябре, раскрывши святцы,
Вспомним мы Синопский бой,
Наш Платон Степаныч, братцы,
Брат Нахимову родной.
Здравствуй, адмирал почтенный,
Богатырь и молодец!
Дядя, брат твой незабвенный,
Был студенческий отец.
Мы, по нем тебе родные,
Благодарны за него;
Ты напомнил всей России
Имя доброе его.
Всяк из нас и днем, и на ночь
Вас в молитве помянет,
И тобой Платон Степаныч
В новой славе оживет.