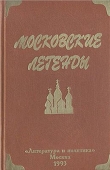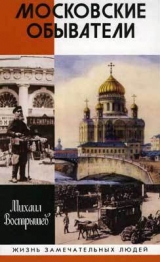
Текст книги "Московские обыватели"
Автор книги: Михаил Вострышев
Жанры:
Биографии и мемуары
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 24 (всего у книги 30 страниц)
Неподражаемый адвокат. Адвокат Федор Никифорович Плевако (1842–1908)
Главной задачей русского суда на протяжении многих веков было добиться собственного признания подсудимого в виновности, и лишь 20 ноября 1864 года законодательный акт дал возможность обвиняемому иметь своего защитника, не государственного чиновника, привыкшего исполнять приказы начальства, а независимого адвоката.
Русская адвокатура быстро организовалась в сословие присяжных поверенных, обзавелась своими обычаями и преданиями и со временем, подражая Западу, превратилась в касту высокообразованных, хорошо обеспеченных дельцов, противопоставляющих себя государственному судебному аппарату. Как правило, это были интеллигентные люди, либералы, излюбленной темой разговоров которых было поносить правительство. Охрану личности человека они ставили выше закона и справедливости. Их переполняла «святая ненависть», особо блестящими были их речи, когда можно было найти в судебном деле зацепочку, чтобы обрушиться с талантливым негодованием на государственные учреждения. В крайнем случае, злость можно было выпустить на одного из свидетелей, на любого человека, лишь бы он не состоял под их защитой.
Но на первых порах среди русских адвокатов оказалось несколько нетипичных личностей и самая яркая из них – Федор Никифорович Плевако. В отличие от большинства своих коллег он никогда ни о ком из своих товарищей по профессии не отзывался с осуждением или ядовитой усмешкой. Даже государственный строй не ругал! Он умел приходить на помощь людям искренне, посвободному влечению, при этом смущался и предупреждал благодарность фразой: «Отработаете чем-нибудь, родной мой».
Плевако был глубоко религиозен (несколько лет даже состоял ктитором Успенского собора), ярый поклонник судебной реформы эпохи императора Александра II, искренне любил вымирающий и осмеянный разночинцами тип патриархального купца, дружил с людьми противоположных политических взглядов.
«Он долго останется какой-то загадкой, – считал другой выдающийся адвокат В, Маклаков, – чем-то единственным, чуждым нам по душевному складу, но и бесконечно дорогим».
Плевако, приехавший учиться в Москву из Оренбургской губернии с пустым карманом и полным отсутствием влиятельных знакомств, лишь благодаря своему таланту стал знаменитым адвокатом и состоятельным человеком. Его судебные речи никогда не походили одна на другую, в них не встретишь ни однообразия, ни позерства, ни злости. «Не с ненавистью, а с любовью судите» – высечено на его памятнике.
Федор Никифорович был джентльменом в приемах судебного спора, относясь без предубеждения к прокурору и снисходительно к свидетелям. «Подсудимый и прокурор, – говорил он, – вот разные стороны, противники. Себя же я считаю тринадцатым присяжным с совещательным голосом и говорю не от имени подсудимого, а как судья должен делать и говорить на моем месте».
Защита обвиняемого у него никогда не превращалась в защиту преступления. Обладая врожденным чувством чести и уважения к своей профессии, он никогда не врал в суде. Так, в конце речи в защиту Максименко, обвинявшейся в умышленном отравлении мужа, он сказал:
– Если вы спросите меня, убежден ли я в ее невиновности, я не скажу: да, убежден. Я лгать не хочу. Я и не говорю о вине или невиновности, я говорю о неизвестности ответа на роковой вопрос дела… Когда надо выбирать между жизнью и смертью, то все сомнения должны решаться в пользу жизни. Таково веление закона и такова моя просьба.
При почти полном отсутствии полемики с обвинителем Плевако побеждал своим артистизмом, ораторским талантом, точным психологическим анализом происшествия. Главная сила его речей – воздействие на чувства слушателей.
Адвокат Н. К. Воскресенский вспоминал, как в начале 1870-х годов впервые слушал Плевако, защищавшего двух братьев Б., обвиняемых в избиении Г., пытавшегося соблазнить молоденькую жену одного из братьев.
«И нужно было слышать Федора Никифоровича, эти глубокие тона его бархатного голоса и наблюдать игру его подвижной физиономии, когда он свободными художественными штрихами рисовал картину обстановки богатого дома Б. в надвигающиеся зимние сумерки. До ясности непосредственного наблюдения слушатели видели позу Г. за креслом юной хозяйки, у топящегося камина, когда Г., по выражению Федора Никифоровича, начинал разговоры на тему неопределенных переживаний, какие свойственно навевать юному воображению сумерками в связи с причудливой игрой светотеней от горящего угля и смутными запросами человеческой души.
Картина обольщения выходила такой правдивой, возможные последствия его так вероятны, что последующая грубая расправа представлялась делом самообороны. Братья Б. были оправданы, а публика удалена из зала из-за слишком восторженных оваций по адресу Федора Никифоровича».
Его любовь к фразе многие коллеги считали крупным недостатком, уверяя, что Плевако гонится за внешними эффектами и банальной риторикой. Но именно он лучше других мог аргументировать свою речь. Пафос, ирония, зримые художественные образы, ссылки на Судебные уставы, цитаты из Библии и римского права были лишь аранжировкой его глубокой убежденности в правоте своей мысли, его прозорливого понимания жизни. Он поднял еще незапятнанное юное знамя русского адвоката на недосягаемую высоту, его речи побуждали людей и за стенами суда к милосердию и справедливости.
Когда он вставал перед присяжными, вспоминала стенографистка судебных процессов, «лицо покрывалось бледностью, черные глаза становились не только одухотворенными, но и красивыми, по адресу суда лилась изящная, полная остроумия и содержания импровизация на любую тему».
Этот полуполяк, полубашкир с открытым широким лбом, монгольскими глазами и львиной гривой волос, спадающих на плечи, был истинный русский человек, в нем жило искренне национальное чувство, боль за грехи России, горе от ее неудач, гордость и радость в дни славы и побед.
Во время политических распрей начала XX века Плевако отличался терпимостью, благодушием и уважением к противоположному взгляду, если он навеян любовью к человеку, а не ненавистью.
– Всякий любит родину, только по-своему, – говорил он незадолго до кончины. – Любит ее и стародум, воспитанный на внешних проявлениях ее величия, и этим внешним формам приписывающий и то историческое, великое, что совершалось, несмотря на убийственную тяжесть форм. Любит ее и честный мыслящий доктринер, которому кажется, что книга управляет жизнью, а не жизнь диктует и поправляет книги. Любят, несомненно, если не самую страну, то меньшую братию, и те, кто изверился в достижимости блага при современных формах общественности. Не любят разве только те, кому хочется все уничтожить, все залить кровью, кому чувство злобы застилает глаза, затемняет сознание…
Правы были его коллеги по сословию присяжных поверенных, говоря, что Плевако так и остался в русской адвокатуре одиноким и единственным.
Маг и волшебник. Антрепренер и режиссер Михаил Валентинович Лентовский (1843–1906)
На Антроповых ямах, между Божедомским переулком и Самотекой, москвичи попадали в сказочную страну с густым старым лесом, холмами, изрезанными тропинками, большими, с проточной водой прудами, таинственными беседками, двумя деревянными театрами, тиром, рестораном, буфетами, открытыми площадками для игр и представлений, аллеями, залитыми светом газовых и электрических фонарей.
В небе – красочные фейерверки, воздушный шар с бесстрашным аэронавтом, эквилибрист-канатоходец на тонкой проволоке. В воде покачивается гондола, русская и турецкая эскадры ведут бой, плещутся нимфы. На берегу – фантастическая феерия, соревнования гимнастов, состязания по бегу. На специальных летних площадках – выступления цыганского хора, негритянского ансамбля, военного оркестра. В театре «Антей» – премьера веселой оперетки с лучшими московскими актерами: Зориной, Запольской, Давыдовым, Родоном. В другом театре профессор магии удивляет публику волшебными фокусами.
В театральной ложе восседает генерал-губернатор князь В. А. Долгоруков, в ресторане в окружении дам ужинает полицмейстер Н. И. Огарев, в тире сбивает подсвеченные фигурки врач и литератор А. П. Чехов. Вся Москва собралась тут: чванливые дворяне, разухабистые купцы, осмотрительные чиновники, любопытные мастеровые. Семейные пары, кокотки, пьяницы, холостяки, отставные генералы – людей всех сословий и положений неудержимо тянет в сад «Эрмитаж» [10]10
Не путать с устроенным позже садом «Эрмитаж» между Успенским переулком и Садовым кольцом.
[Закрыть].
«Сказка, а не сад, – вспоминает В. М. Дорошевич. – Я видел все увеселительное, что есть в мире. Ни в Париже, ни в Лондоне, ни в Нью-Йорке нет такого сказочного увеселительного сада».
«Эрмитаж», открытый для москвичей 5 мая 1878 года, был создан талантом и неукротимой энергией Михаила Валентиновича Лентовского – мага и волшебника, по единодушному мнению москвичей. Его любили за то, что умел потрафить вкусу публики, и уважали, что не шел у нее на поводу. Купцы-миллионщики почитали за честь посидеть с Лентовским за одним столом, артисты мечтали получить ангажемент к нему на летний сезон, мещане останавливались на улице, завидев его колоритную персону, и горделиво указывали гостям-провинциалам: «Вон Лентовский идет!»
«Он обладал огромной силой, – набрасывает портрет мага и волшебника К. С. Станиславский, – импозантной фигурой с широкими плечами, с красивой черной окладистой бородой немного восточного типа и с длинными русскими волосами под старинного боярина. Громкий голос, энергичная уверенная походка, русская поддевка из тонкого черного сукна, высокие лаковые сапоги придавали всей его фигуре молодцеватую стройность. Большая золотая цепь, увешанная всевозможными брелоками и подношениями от публики и именитых лиц, не исключая и коронованных. Русский картуз с большим козырьком и огромная палка, почти дубина, устрашавшая всех скандалистов».
Детские годы Лентовский провел в городе Аткарске Саратовской губернии, где выучился от отца-пьяницы кое-как пиликать на скрипке и услаждал слух гостей на мещанских свадьбах, дабы прокормить вечно полуголодную семью. Мальчика больше всего привлекала театральная сцена («я как безумный ходил целые вечера около театра»), и, когда удалось попасть на гастроли М. С. Щепкина, игра знаменитого артиста так ошеломила его, что он тоже решил попасть на театральные подмостки. Лентовский написал Щепкину длинное чувствительное письмо, изобразив свою унылую жизнь и страстную любовь к театру, и умолял взять его в ученики. По-юношески легко возбудимый, хоть и престарелый, артист внял мольбе пятнадцатилетнего подростка, приютил в своем московском доме и определил учиться как обычным наукам, так и актерскому мастерству. Через три года, когда благодетель уже покоился в могиле, его подопечный поступил в труппу Малого театра.
«Он молодец, красив, развязен, – писали газеты о первых выступлениях молодого дарования, – поет довольно приятно, когда не форсирует, дикция ясная, не тонирует речь и не долбит в одну или две ноты; в игре его много огня, говорят иные, что даже слишком много».
Как и большинству актеров, Лентовскому, прежде чем утвердиться на московской сцене, пришлось завоевывать провинциальную публику. Он в течение нескольких лет подвизается в театрах Орла, Казани, Саратова, Харькова, Одессы. Играет в пьесах Островского, драмах Шекспира, водевилях Ленского. Играет не хуже других, но ни в образе замоскворецкого купца, ни датского принца лавров славы не стяжал. «Зато вызывал целые бури восторгов, – рассказывает о его выступлениях в Казани провинциальный актер В. А. Тихонов, – когда в дивертисментах, одетый в русский национальный костюм, распевал народные песенки. Особенно славился его «Комаринский».
Как на улице Варваринекой
Спит Касьян, мужик Комаринский… —
распевал весь город, копируя Лентовского в те дни. Он был очень популярен среди публики».
Выступая в провинции, Лентовский испытал себя и в режиссерском мастерстве. Здесь-то и проявился его талант во всю мощь. Купцы открыли ему денежные кредиты: строй театры, набирай труппу, учи лицедеев уму-разуму, чтобы публике потрафили, мы нраву твоему не препятствуем, лишь бы полный сбор с каждого выступления был.
Лентовскому многое прощалось, москвичи даже гордились его сумасбродством. Он мог напиться до положения риз в ресторане и изображать из себя дрессировщика с хлыстом в руках, когда собутыльник актер Леонидов, встав на четвереньки и скаля зубы, рычал по-львиному. Мог при людях спихнуть в пруд опостылевшего миллионера-дисконтера, который субсидировал его театр. Мог вытащить из кармана все деньги и, не считая, протянуть обнищавшему актеру. Ему все прощали, потому что он знал толк в деле и умел сделать его прибыльным, умел увидеть в молодом артисте искру настоящего таланта и выучить его, умел создавать новые доходные театры (построил и открыл около десяти в Москве, Петербурге и Нижнем Новгороде), умел добиваться успеха, не щадя в работе ни себя, ни других, подчиняя своей воле всех, начиная от суфлеров и кончая всероссийскими знаменитостями. Он всегда был в центре театральной жизни, где среди гомона и суеты после долгих мук рождалось искусство.
«Лентовского рвут на части. Он всюду нужен, всюду сам, все к нему: то за распоряжением, то с просьбами, – подмечает В.А. Гиляровский. – И великие, и малые, и начальство, и сторожа, и первые персонажи, и выходные… Лаконически отвечает на вопросы, решает коротко и сразу».
На репетициях он царил на сцене. Указывал место статистам, поправлял жесты и речь актеров, тут же правил текст пьесы. Без числа рассыпал по сторонам новые идеи, выдумывал оригинальные декорации, костюмы, шумовые и световые эффекты. «Колеблющийся человек, – говорил он, – тормозит дело. Всего бояться – лучше не жить». Несмотря на единоличное самовластие, требовательность к актерам, он не порабощал их волю, обладал способностью выслушивать других и моментально находить единственно правильное решение.
«Превосходный режиссер, глубоко проникающий в суть дела, – оценивал его работу оперный певец П. И. Богатырев, – он поднял оперетку на такую высоту, которой она потом уже не достигала».
Да и не только оперетту. Он поставил «Власть тьмы» Льва Толстого, «Снегурочку» А. Н. Островского с музыкой П. И. Чайковского, оперу Майерберга «Гугеноты». Он перевел на русский язык пьесу Г. Гауптмана «Ганелле» и пригласил на режиссерский дебют в ней молодого К. С. Станиславского.
Особенно удавались Лентовскому постановки грандиозных массовых сцен, феерий, шествий, народных празднеств. Он умел и любил управлять большими массами людей, его спектакли наполнялись кордебалетом, хоровым пением, карнавальной шумихой. Не жалея ни своих, ни чужих денег, он частенько тешил простонародную публику грандиозными представлениями с сотнями участников: «Вокруг света в восемьдесят дней», «Робинзон Крузо», «Морской праздник в Севастополе, или Русско-турецкая война». Для феерии «Переход русских войск через Балканские горы» выстроил целый неприятельский городок и под занавес представления, на радость публике, подорвал его крепостные стены.
«Ваша постановка так жизненна, художественно проста, – признавался Лентовскому знаменитый режиссер Людвиг Кронек, – что я, не зная языка, понял все происходящее на сцене».
Наслышанная о его увлечении устраивать грандиозные представления для простолюдинов комиссия по организации торжеств по случаю коронации Александра III доверила Лентовскому подготовку и проведение народных гуляний на Ходынском поле. Праздник удался на славу. Вот только его организатор не нажился на государственном заказе, а наоборот, – влез в долги. Впрочем, за широкую натуру, бескорыстие, презрение к тугой мошне его любили еще больше.
«Лентовский, безусловно, был самой оригинальной личностью, с которой меня когда-либо сталкивала судьба, – характеризовал московского мага и волшебника декоратор Большого театра К. Ф. Вальц. – Одаренный громадными способностями как режиссер, безалаберный, талантливый и сумасбродный, он был типом шалого русского человека. Нажить и прожить сотни тысяч рублей было для него пустяшным делом».
В конце концов Лентовский был объявлен несостоятельным должником и с него взяли подписку о невыезде из города. И вдруг он пропал… Хищные кредиторы подняли вой, бросились к обер-полицмейстеру. Успокоились, лишь когда спустя несколько дней должник как ни в чем не бывало вернулся, в Москву. Оказалось, что он улетел за пределы губернии на воздушном шаре. Ему за нарушение подписки пригрозили судом.
– Но я не давал подписки о невылете, – рассмеялся Лентовский. И добавил, уже без смеха: – Там вверху такая тишина, что мне стало страшно.
Когда за долги описывали его имущество, возле дома всемогущего антрепренера собралась толпа любопытных – посмотреть на роскошь, которую будут выносить. Каково же было всеобщее удивление, когда узнали, что человек, ворочавший миллионами, имел один стол, одновременно и письменный и обеденный, старенькую кровать и несколько скрипучих стульев. Пришлось торги приостановить.
Оставшись без денег, Лентовский не остался без работы. Деловые люди знали, что если театр попадет под его начало, то станет прибыльным, и наперебой приглашали его для новых дел. Он устраивает театр в доме Бронникова на Театральной площади. А. Н. Островский уверен в успехе: «Труппа у него составляется хорошая, к нему переходят лучшие актеры от Корша». Открывает театр «Скоморох» на Воздвиженке (позже под таким же названием на Сретенском бульваре). А. П. Чехов надеется на удачу нового предприятия: «У г. Лентовского есть изрядный вкус, есть умение, есть и желание». Создает увеселительный сад на Садовой улице возле Триумфальной площади. Ф. И. Шаляпин подбадривает старшего товарища:
Пускай лягаются ослы,
А все же лев, лев ты!
Служил Лентовский и в театре Лианозова, в частной опере Мамонтова, театре Солодовникова. Все его заработки уходили, как и прежде, на театральное дело. Долги росли. В Москве стала популярной поговорка: «Должен, как Лентовский». Давно распроданы библиотека, подарки и награды. Кредит закрыт. Кое-кто еще сулит хорошие деньги, но он отвечает отказом, потому что от него желают не службы театральному искусству, а устройства балаганной похабщины. Шестидесятилетний Лентовский переезжает в скромную квартиру на Котельнической набережной, где за ним, уже больным, ухаживают горячо любимая сестра и тайно влюбленная в него актриса М. Г. Пуаре. Москва стала забывать своего мага и волшебника. Если в детские годы он зарабатывал на жизнь игрой на скрипке, то теперь публикациями в газете «Московский листок».
Литературным ремеслом Лентовский занимался с 1870-х годов. Сочинял в основном водевили, исторические драмы, куплеты для исполнения со сцены. За год до смерти, в 1905 году, поступила в продажу его книга «Перед закатом». Через всю жизнь промчавшийся бешеным галопом, Лентовский в старости пытается ответить на вопрос: «Кто я?»
Я раб страстей, слуга вина,
Гульбы приятель закадычный.
Блудница – вот моя жена!
Мой брат – бедняга горемычный!
Здоровый смех – мой лучший друг,
Отец мой – труд, а мать – природа.
Вот кто друзья мои, мой круг.
Девиз – искусство и свобода!
Теперь, махнув на все рукой,
Свершаю я мой путь законный,
Стремглав лечу вниз головой,
Как шар по плоскости наклонной.
Лентовский спокойно переносил закат своей славы и незатейливую бедность. «Помни, – писал он, – как тебе ни скверно, но есть кому-то хуже твоего». Он сумел примириться с тишиной, которой не знал в театре и которой так испугался, паря в небе на воздушном шаре. Он понял что-то новое, не испытанное за долгие годы бурной деятельности.
Все для меня теперь полно значенья,
Все то, что прежде я не замечал.
Величье, мощь господнего творенья
Я, разрушаясь, лишь теперь познал.
От карикатуры к портрету. Текстильный фабрикант Михаил Алексеевич Хлудов (1843–1885)
Фамилия текстильных фабрикантов Хлудовых гремела по Москве во второй половине XIX века. Конечно, в этом большую роль играло их многомиллионное состояние – одно из самых значительных в Первопрестольной. Но слава знаменитой купеческой династии создавалась не только деньгами…
Родоначальником хлудовского богатства стал Иван Иванович Хлудов – уроженец деревни Полеваново Егорьевского уезда Рязанской губернии. Он тяготился крестьянской жизнью, особенно терпеть не мог полевые работы. «Пойду в Москву, – мечтал он, – буду лучше торговать моченой грушей, чем печься на солнце».
Так и случилось. В день Георгия Победоносца, 26 ноября 1817 года, отслужив молебен и получив благословение родителей, Иван Иванович вместе с женой Маланьей Захаровной и малыми детьми отправился в Москву, где и поселился в убогой хижине на берегу Яузы. Но торговать он стал не моченой грушей, на которой лишь медные деньги можно нажить, а пестрыми купеческими кушаками, которые сразу же принесли ему хорошие барыши. Стройный, высокий, с русой бородой и орлиным взглядом, он быстро выбился в купеческое сословие и, когда скончался 24 марта 1835 года на сорок восьмом году от роду, оставил шестерым сыновьям и дочери свое доброе имя, приличный капитал, лавки в Гостином Дворе и Городских рядах, большой дом на Вшивой Горке.
Старший сын Тарас ненадолго пережил отца († 1837). Савелий († 1855) продолжил дело отца и основал Егорьевскую бумагопрядильную фабрику. Он «был холост, ходил в цилиндре и был приятелем Л. И. Клопа». Назар († 1858) считался в семье «философом XIX века». Младший Давыд († 1886) в 1857 году был избран городским головой Егорьевска и с этого времени стал отходить от фамильного дела, направив свою деятельность в русло благотворительности. Алексей († 1882) и Герасим († 1885) стали московскими купцами 1-й гильдии, совладельцами Торгового дома «А. и Г. Ивана Хлудова сыновья», нескольких бумагопрядильных и ткацких фабрик. Оба были не только уважаемыми коммерсантами, но и известными коллекционерами. Первый собирал древнерусские рукописи и книги, второй – русскую живопись.
Семейство Хлудовых все больше разрасталось, приумножались его капиталы и недвижимое имущество. Одну за другой возводили они обители милосердия – богадельни для бедных и прочие богоугодные заведения – дома бесплатных квартир, ремесленные училища, народные школы, больницы, бани и библиотеки для рабочих, кельи для монахов, храмы…
Но людская молва завистлива. Люди больше обращали внимание не на достоинства, а на пороки богатых негоциантов. «Хлудовы были известны в Москве, – вспоминает М. К. Морозова, – как очень одаренные, умные, но экстравагантные люди. Их можно было всегда опасаться, как людей, которые не владели своими страстями».
Наиболее яркой эксцентричной фигурой в семействе был Михаил Хлудов, сын Алексея Ивановича. Он послужил прототипом богатого подрядчика Хлынова в комедии А. Н. Островского «Горячее сердце», под именем купца Хмурова был изображен в романе Н. Н. Карамзина «На далеких окраинах», черты его характера нашли свое воплощение в собирательном образе Ильи Федосеевича – главного героя рассказа Н. С. Лескова «Чертогон».
Но художественное произведение – это выдумка, в которой действительный факт, как катящийся с горы снежный ком, обрастает неудержимой фантазией автора. Это же свойство присуще большинству старческих воспоминаний и биографических очерков, которые только с виду похожи на правду, а на самом деле представляют собой набор слухов и легенд, в которых мемуарист или литератор желаемое выдает за действительное, создает мнимую реальность. Но, к сожалению, более достоверных сведений о жизни Михаила Хлудова почерпнуть негде. Увы, ни он, ни его близкие не оставили потомкам своих искренних дневников, где события излагались бы по свежим следам, без оглядки на «мировые катаклизмы» и без мечтаний увидеть свое сочинение когда-нибудь напечатанным.
Итак, о чем главным образом пишут мемуаристы, когда речь заходит о Михаиле Хлудове?.. Во-первых, о том, что в его доме в Хлудовском тупике (ныне Хомутовский тупик) жила ручная тигрица Сонька, которая пугала посетителей. «Через неделю повел меня отец к Хлудову, – вспоминает художник К. А. Коровин. – Против Садовой части, в тупике, его большой особняк. Со двора ведет лестница на второй этаж. Входим. Большая столовая, за столом, во главе его, сидит сам Хлудов… В столовой сзади – стена стеклянная, за стеклами пальмы: зимний сад… Вдруг из стеклянной двери, где пальмы, выбежал пудель, а за ним… Я окаменел от неожиданности – за пуделем показалось чудовище длинною, по крайней мере, в сажень, могучее, оранжевое, как бы перевитое черными лентами». Во-вторых, о его кутежах, пьянстве, разврате и полубезумии. «Огромная толпа окружала большую железную клетку, – вспоминает о собачьей выставке 1885 года В. А. Гиляровский (кстати, очень любивший приврать). – В клетке на табурете в поддевке и цилиндре сидел Миша Хлудов и пил из серебряного стакана коньяк. У ног сидела тигрица, била хвостом по железным прутьям, а голову положила на колени Хлудова». В-третьих, что он «сорил деньгами направо и налево, выдавал без счета векселя и даже, как говорили, подделывал подпись отца» (Е. Б. Новикова). В-четвертых, что он в открытую высмеивал православие. По Москве расходились его каламбуры: «Во имя овса и сена, и свиного уха, овин…» или: «Господи, владыка живота моего и прочих внутренностей…» (А. А. Шамаро). В-пятых, что он допился до белой горячки и вторая хлудовская жена В. А. Максимова стала ему изменять и отправила его раньше времени на тот свет. «У нее был защитник среди ее девичьих друзей, – вспоминает Н. А. Варенцов, – доктор Павлинов, с которым она и сошлась близко. При его содействии она мужа, болевшего белой горячкой, сделала сумасшедшим, поместила в комнате с железными решетками в окнах, со стенами, обитыми толстым слоем ваты. И никого из родственников к нему не допускала».
Портрет, судя по вышеприведенным фактам (вернее, преданиям и сплетням), получился весьма неприглядный. Но, может быть, представление о Михаиле Хлудове изменится в лучшую сторону, если к пренебрежительному шаржу прибавить несколько подлинных штрихов его деятельности и характера.
Михаил Хлудов первым из русских купцов посетил в 1863–1865 годах Бухару и, не скрывая своего происхождения, установил с нею торговые отношения. В последующие два года он, опять же первым, приехал в Коканд, организовал там русскую контору покупки хлопка и устроил в Ходженте современную европейскую шелкомотальную фабрику. Это стоило ему громадного риска и затрат, так как все оборудование для фабрики пришлось переправлять волоком по пустынным песчаным степям. Кроме того, он проник с караваном в Кашгар и завязал непосредственные торговые отношения с владельцем Алтышара Якуб-беком.
Михаил Хлудов участвовал в завоевании Средней Азии, бескорыстно снабжая русскую армию продовольствием. Он присутствовал при взятии русскими войсками Ташкента и Коканда, штурмовал Ура-Тюбе и Джюзак.
В 1869 году он был в Афганистане, после чего представлялся императору и получил орден Владимира 4-й степени.
В Русско-турецкую войну 1877–1878 годов состоял адъютантом при генерале М. Д. Скобелеве, снабжал на свои средства военные лазареты медикаментами и корпией. Однажды, пробравшись в турецкий лагерь, взял «языка», получив за храбрость Георгиевский крест.
Михаил Хлудов умел укрощать как зверей, так и людей. Приехав к своему знакомому на дачу, он решил подойти к собаке, привязанной двумя цепями. Хозяин пытался остановить его, уверяя, что собака очень сильная и злая, может разорвать даже две цепи и наброситься на человека.
– Вздор! – сказал Хлудов и быстро подошел к цепному псу.
Тот вдруг трусливо завизжал и скрылся в конуре. Хлудов вытащил его за цепь наружу и пошлепал ладонью по морде. Пес только скулил, поджав хвост.
В другой раз забастовали рабочие на Ярцевской мануфактуре. Отец, Алексей Иванович, наотрез отказался ехать на свою фабрику, опасаясь эксцессов. Поехал Михаил. Его встретила большая возбужденная толпа рабочих, что-то возмущенно кричавшая и кому-то грозившая. Михаил без страха посмотрел на толпу, поднял руку, и все замерли. Он подошел к зачинщикам бунта, одного похлопал по плечу, другого по животу, третьему погладил бороду. И все это с прибаутками. Рабочие рассмеялись. Примирение состоялось. После угощения повсюду слышались возгласы: «Вот это хозяин!.. Настоящий хозяин!» В память о безвременно умершем сыне Михаил Хлудов завещал для создания детской больницы свой богатый дом и 350 тысяч рублей. Больница была закончена строительством и открыта в 1891 году на Большой Царицынской улице. Она существует до сих пор, хотя в советский период и перестала носить имя своего создателя (Большая Пироговская улица, дом 19).
Ну вот теперь получился, хоть и миниатюрный, но все же портрет Михаила Хлудова, а не карикатура на него.