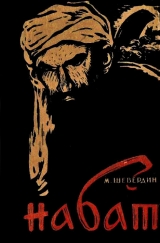
Текст книги "Набат. Книга первая: Паутина"
Автор книги: Михаил Шевердин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 29 страниц)
Глава седьмая
Павлиний караван-сарай
И если свинье вставят зубы из золота, нечистота ее не превратится в чистоту…
Хусейн-и-Ваиз
Довольно! Мне душно от тебя…
Махзуна
Широко распахнутые обветшавшие ворота, видимо, вообще не закрывались добрых полсотни лет. Тяжелые петли покрылись на палец толщиной красно-бурой ржавчиной, а доски раструхлявились и держались на ржавых гвоздях милостью всевышнего. На глиняном возвышении, прислонившись плечом к потемневшему гнилому столбу, сидел пегоусый с шерстистой неопрятной бородой погонщик не погонщик, верблюжатник не верблюжатник, человек пожилых лет, толстощекий, брюхатый. Прыщи всех размеров украшали его нос, щеки, лоб и даже верхнюю губу. Старый потертый халат, такая же потрепанная тюбетейка, посеревшие от грязи бязевые штаны, не скрывавшие кривизны его волосатых ног, до того преобразили его внешность, что в нем даже близкие родственники и друзья не признали бы сына казия байсунского, торговца каракулем, завсегдатая лейпцигского пушного аукциона господина Хаджи Акбара. Пальцами босых ног Хаджи Акбар играл с порванным каушем, подкидывал его, ловил, крутил в пыли, словом, он был занят и уж совсем не обращал, по-видимому, никакого внимания на то, что происходило на вечерней улочке, ведшей к стене Бухары. Тем более, казалось, не интересовал его большущий запаршивевший пес с голодными глазами. А пес ужасно хотел проскользнуть с улицы во двор, куда его манили призывные запахи. Но Хаджи Акбар сидел в самых воротах, и все местные собаки знали его повадки очень хорошо. Пес подобострастно пошевелил обрубком хвоста и, жалобно скуля, уселся на почтительном расстоянии. Нога Хаджи Акбара продолжала подкидывать и на лету надевать кауш, а лицо его, плосконосое, расплывшееся в блин, сохраняло столь непроницаемую и благодушную мину, что любое живое существо могло впасть в заблуждение и забыть всякую осторожность.
Но вдруг пес повернул свою массивную медвежью голову в сторону и обнажил клыки. В конце улицы появилась темная на фоне кирпично-красного заката фигура пешехода. Собака, тяжело закряхтев, поднялась и отбежала, чуть ощетинив шерсть, к стене.
Пешеход приближался медленно, вздымая на каждом шагу пыль, прихрамывая, как это бывает с безмерно уставшими людьми. Он, видно, не обращал внимания на своеобразную, мрачноватую, но великолепную картину озаренной красками заката улицы восточного города.
Он шел, посматривая ищущим взглядом на старые, покосившие ворота, на низкие, почерневшие от времени калитки, на бесконечно тянущиеся слепые стены и дувалы.
Пес заворчал.
Но нога безмятежного Хаджи Акбара не прекращала вертеть кауш, и сам Хаджи Акбар не уделял ни малейшего внимания ни красотам солнечного заката, ни хитрому псу, ни волочившему по пыли ноги пешеходу. А ведь если бы можно было заглянуть в глаза Хаджи Акбара, в самые щелочки между красными веками, то вдруг обнаружилось бы, что темные глазки оживились, напряглись, в них загорелся огонь интереса.
На лице незнакомца отразилось пренебрежение и даже брезгливость, когда он разглядел прыщавого толстяка. Он сделал движение, словно отстраняя от себя неприятное зрелище, и пошел, все так же прихрамывая, прямо в открытые ворота.
Куда девалось ледяное спокойствие и благодушная созерцательность Хаджи Акбара: он побагровел, затрясся.
– Куда? Стой! Стой, я говорю! – страшно писклявым голосом запротестовал он. Голосок вырывался из большущего его брюха точно сквозь узенькую щелку, быстро-быстро закрывавшуюся и открывавшуюся.
Странник даже не соблаговолил ответить Хаджи Акбару, только взглядом опалил толстяка. Но и тот видывал виды. С непостижимым для столь грузного человека проворством он соскочил с глиняного сиденья и единым прыжком оказался перед незнакомцем.
– Ну? – сказал мрачно странник.
– Ну! – ответил Хаджи Акбар.
Не без интереса наблюдавший стычку представителей всесильного людского племени, пес попытался проскользнуть в ворота, однако толстяк успел с яростным возгласом пнуть его ногой в бок. Незнакомец шагнул через избитый копытами и железными арбяными шинами трухлявый порог-бревно и пошел по замусоренному двору.
Ахнув, толстяк кинулся за ним с воплем:
– Нельзя сюда, нельзя клянусь бородой моего дяди!
Не обращая внимания на вопли Хаджи Акбара, незнакомец оглядывал открывшийся перед ним обширный двор, по сторонам которого вытянулись приземистые, слепленные из глины постройки с многочисленными дверями. Задняя часть двора замыкалась крытыми конюшнями. Здесь, среди куч хлама, сора, навоза и кустов явтака и чертополоха, торчали два полузасохших тополя. Двор пустовал, если не считать единственной большеколесной арбы, уткнувшейся оглоблями в землю, и нескольких уныло топтавшихся в грязи верблюдов. В последних отсветах вечерней зари, вырывавшихся из-за крыши, столбами плясали рои мошкары. В нос ударяла вонь застоявшейся конской мочи и выгребной ямы. Печать запустения лежала и на грязном дворе, и на развороченных, размытых дождем земляных крышах сараев, и на поломанной арбе, и на облезлых, тощих верблюдах.
Шлепающие шаги заставили незнакомца резко обернуться, и Хаджи Акбар, хотевший схватить его за рукав, невольно отстранился.
– И ты еще не хотел меня впускать в эту помойную яму, именуемую караван-сараем? А?
– Чего ты лезешь… те… без спросу! – пискнул толстяк.
Незнакомец презрительно бросил:
– Ты, ослятник, говоришь с сеидом – потомком пророка, да произносят имя его с надлежащим почтением. – И, не дождавшись ответа, который, судя по бульканью, захлебнулся в глотке Хаджи Акбара, пришелец спросил: – Караван-сарай – владение достопочтенного казия байсунского Самада?
Прыщавый только кивнул головой. Он все еще задыхался в гневе и не мог сказать ни слона.
– Обратись к цирюльнику, пусть откроет тебе вены, а то черная кровь тебя задушит.
– А… а… те… – бормотал что-то Хаджи Акбар. Щеки, подбородок его тряслись и прыгали, точно студень, из утробы вырывались лающие звуки.
Скептически ухмыльнувшись, незнакомец убийственно хладнокровно добавил:
– Из тебя котел твоей вонючей крови можно выпустить, и то достаточно останется.
Он обвел глазами двор, не обращая внимания на продолжающийся припадок удушья у Хаджи Акбара, и вдруг увидел павлина.
В багряно-оранжевых отсветах заката хвост птицы «кричал» столь неправдоподобно яркими, свойственными только агату красками – от густо-черной до кроваво-красной, что весь измызганный, захудалый, утопавший в грязи заезжий двор сразу засверкал.
Странник снова заговорил, но уже с видимым удовлетворением:
– Ба, павлин! Мы видим великолепного павлина. Теперь я вижу, неисповедимые пути аллаха всевышнего привели нас к порогу, определенному нам властителем человеческих душ.
Но незнакомцу не удалось закончить своей благочестивой тирады. Хаджи Акбар наконец поборол удушье и выжал из себя вопль:
– Велик аллах… те… и пророк его!.. Эй, Хромой, эй, Латип, сюда, бездельники!
– Поистине аллах велик и благословен пророк его, да произносят имя его с благоговением и почтительностью, – продолжал странник, не спуская горящего взгляда с багровой физиономии Хаджи Акбара. – Да есть ли гостеприимство в этом проклятом аллахом, сынами Адама и бессловесными скотами паршивом обиталище?..
Два неизвестно откуда появившихся босяка с изъеденными оспой лицами и тяжелыми ручищами надвинулись на пришельца.
– Взять его! – с трудом выдавил из себя Хаджи Акбар. – Взять этого почтенного… те… потомка пророка и вышвырнуть с моего двора. И если, – злорадно прибавил он, – вы… те… дадите ему… те… несколько тумаков покрепче, святости в нем не убавится… те…
Брюхо свое он выставил вперед, а короткие руки-обрубки упер в бока. Всем видом своим он показывал – вот я, хозяин, приказываю, я делаю что хочу.
– Ну же! – крикнул он босякам.
Старший из рябых прислужников – Латип, побольше и побезобразнее, топтался на месте, засучивая лохмотья выше локтей. Ворчание вырвалось из его груди:
– Сейчас, хозяин мой, сейчас, господин Хаджи Акбар.
При этом имени в глазах пришельца заиграли уже совсем дикие огоньки – не то ярости, не то веселья, и он, еле сдерживаясь, шагнул вперед.
Весь гонор слетел с Прыщавого. Он мгновенно вобрал в себя брюхо и, пятясь назад, жалобно заскулил:
– Латип! Хромой! Что же вы?
Пришелец презрительно отмахнулся от подскочившего Латипа и сказал:
– А, ты и есть сам почтеннейший Хаджи Акбар. Что же ты боишься назваться, господин Хаджи Акбар? Или ты забыл Мекку и Стамбул, господин Хаджи Акбар!..
– А, – хрипнул толстяк.
На лице его появилось выражение растерянности и недоумения. Глазами он сделал знак, и протянутые уже к плечам пришельца лапищи слуг опустились. Босяки недоуменно переминались, чавкая ногами в зеленой навозной жиже.
– Вон, – рявкнул Хаджи Акбар на своих вышибал. – А, ты еще здесь?! – Он поднял проворно из грязи осколок кирпича и запустил его в собаку. Пес взвыл от боли.
Прыщавый повернулся к страннику:
– Мир тебе, странствующий и путешествующий. Пожалуйте в наше обиталище, о вместилище добродетелей. Прошу, пожалуйте, почтенный гость.
Поразительно изменились при словах «Мекка и Стамбул» тон, манеры, выражение лица Хаджи Акбара. Он просто захлебывался, расточал любезности, не замечая, что изысканные и напыщенные выражения, подобающие только двору какого-нибудь азиатского князька, казались неуместными посреди этой грязной, вонючей лужи, окаймленной полуразвалившимися хибарками с растрепанными камышовыми кровлями. Яркие краски заката потухли. Павлин свернул свой пышный хвост. Все погрузилось в серые тона.
Незнакомец сухо сказал:
– Значит, это Павлиний сарай?
– Да, – подобострастно проговорил Хаджи Акбар.
– Караван-сараи славятся гостеприимством, – губы незнакомца покривились, – а мы целую вечность стоим в грязи.
– О всевышний! – засуетился Хаджи Акбар. – Да что со мной? Соблаговолите, о опора благочестия и заступник верующих перед престолом бога! Мы вас так… те… ждали и только наша несусветная тупость не позволила нам признать ваши досто…
Недосказанное слово застыло у него на языке. Ошибся или нет Хаджи Акбар, но глаза путешественника силой внушения предостерегали кого-то за его спиной. Прыщавый обернулся. Он поразился и вконец расстроился. Почему мог делать сеид, потомок пророка, блюститель исламского благочестия, какие-то заговорщические знаки глазами презренному гяуру – неверному урусу.
В воротах стоял только что подъехавший всадник. На крепком гиссарце сидел военный, одетый в изрядно потертый китель и столь же потертую фуражку с красноармейской звездой. Из-под кожаного потрескавшегося козырька смотрели очень пристальные, очень проницательные глаза, цвет которых скрадывался сумерками. Расплылись и черты лица, можно было только разглядеть щеточкой подстриженные усы и упрямый подбородок с ямкой посредине.
– Здравствуйте, Хаджи Акбар. Долгонько мы отсутствовали. Месяц, пожалуй, прошел.
Приезжий спешился, отдал поводья появившемуся тут же Алаярбеку Даниарбеку и пошел по двору, осторожно ступая, чтобы не попасть в грязь. Собака кинулась к нему и ласково ткнулась холодным носом в ладонь. Добродушное лицо доктора носило следы усталости. Видимо, он проделал немалый путь по степи и дорогам. Пыль лежала слоем на его костюме цвета хаки с темными прямоугольниками на плечах от снятых погон и с серебряными пуговицами. Кожа на голенищах сапог, там, где они трутся о ремни стремян, побелела.
С тревогой Хаджи Акбар вглядывался в лицо доктора, ловил его глаза, но ничего не видел подозрительного. Он посмотрел на сеида, но тот даже не глядел теперь на русского.
Прыщавый растерянно повторил:
– Э, пожалуйте.
– Ба, – заговорил доктор, – да у тебя, брат, гость! – И, обращаясь уже к пришельцу, спросил: – Да, как величать прикажете?
Странно! Доктор невольно послушался предостерегающего взгляда незнакомца и ничем не показал, что встречался с ним на Черной речке.
Заковыляв в сторону, сеид бросил угрюмо:
– В небе звезд неисчислимое количество, дороги тянутся по лицу мира днем и ночью, их не исходят ноги вечных странников.
– А… а, – понимающе хмыкнул в усы доктор. – А вот, дорогуша, с ногой у вас что-то неблагополучно, может, стоит взглянуть?
– Не подобает потомку пророка, сеиду Музаффару бен Кассаму Фатаху бен Джалалу прибегать к помощи неверного и испрашивать, как милости для страждущего тела, проклятые ференгские лекарства.
– Как угодно… э… Но в случае чего… Эй ты, Латип! Долго мне дожидаться?
Поразительно проворно прибежал рябой. Бормоча: «Дохтур, господин дохтур… уважение. Прах ног на моей голове» и, вращая белками глаз, гориллообразный гигант суетился около доктора, стараясь всячески ему услужить.
Вытянув вперед лапищу с ключом, Латип, сопровождая доктора, побежал к помещению, выделявшемуся своими чисто выбеленными стенами.
Тяжело шагая вместе с Хаджи Акбаром в противоположную сторону, сеид Музаффар проговорил:
– О, я вижу, гяур урус снискал любовь рабов аллаха, а? И даже собака его любит, а? Мусульманская собака?
– Аллах, – сокрушенно протянул Хаджи Акбар. – Такие неверные собаки приносят больше вреда нашему делу, чем… те… те… десять тысяч самых отчаянных красных солдат.
– Гм?.. Гм? – В этом вопросительном «гм-гм» потомка пророка звучал не то сарказм, не то презрение.
– Поистине так, – сказал хозяин, вводя гостя в небольшую темную, едва освещенную маленькой керосиновой лампочкой комнатку. – Из-за этого проклятого доктора наши мусульмане воспылают любовью и уважением ко всем русским. Доктор лечит и… о, излечивает ужасные болезни, которые не поддаются даже грозным заклинаниям наших мудрых табибов. А урус дал порошок, и человек здоров.
Уже с трудом опустившись на палас и вытянув поудобнее больную ногу, сеид Музаффар лукаво спросил:
– Вы, почтеннейший, так подробно расписываете деяния уруса доктора, что возникает вопрос, не обращались ли вы, не дай бог милостивый, к нему сами?
– Увы, да!
– О! – Больше сеид Музаффар ничего не сказал, а, стащив сапог, начал осторожно разматывать бязевую портянку.
Хозяин суетился, бренчал пиалами, Латип заглянул в дверь и протянул два фарфоровых чайника. Появился поднос с лепешками. Хаджи Акбар то садился на колени в молитвенно-почтительной позе, то вскакивал и бежал к нише в глиняной, грубо оштукатуренной стене, то снова присаживался у дастархана. Он молчал, но, судя по тому, как руки его нервно ломали лепешку, а глаза бегали по лицу и одежде дервиша, его распирало любопытство.
А сеид неторопливо размотал портянку, осмотрел распухшую ногу и, потребовав воды, начал обмывать ее у порога, над квадратным углублением с маленьким отверстием. Совершая омовение, он вдруг поднял голову и прислушался. Какой-то неопределенный звук – не то ворчание, не то стон – послышался в комнате.
Заметив движение сеида, Хаджи Акбар громко заговорил:
– Времена печальные и неприятные… те… Чекисты, да испепелит их аллах, обшаривают каждую михманхану и хватают достопочтеннейших людей. Достойно… те… возмущения и… те… те… Извините за бедность… нельзя показать достатки. Пролетарии сразу придерутся. А у меня, знаете, торговые операции. Каракуль.
Наконец сеид закончил омовение и присел к разостланному прямо на паласе шерстяному просаленному дастархану. Выпив пиалу чая, он спросил:
– Так вы и есть Хаджи Акбар?
– Мы и есть, те… Хаджи Акбар.
– Вы меня ждали?
– Те… да, о конечно, господин… те… сеид Музаффар!
– Мы здесь одни? – сеид показал глазами на дверь, выходившую во двор.
– О да, да… те… можете… те… быть спокойны…
Хозяин начал заикаться. Наконец-то он сможет насладиться новостями и узнать о цели прихода сеида Музаффара.
– Итак, мы одни?
– Те… одни, совершенно одни.
– Я из Мерке.
– О, мы уже… знаем… осведомлены, по…
– Что – но? – угрожающе протянул сеид. Он смотрел так пронзительно, что Хаджи Акбару померещилось, будто глаза жуткого гостя горят во сто раз ярче, чем красноватый язычок пламени в горелке стоявшей на полу семилинейной лампочки.
– О нет, нет. Но… те… наше время, поистине, мы должны… те… доказательства… Нет-нет, поверьте… мы понимаем, ваша святость… те… достоинство… Помилуйте, не позволяйте гневу получить доступ в ваше достойное сердце… но… о, прошу вас, маленький… совсем крошечный кусочек бумажки… с маленькой, совсем крошечной строчечной… маленькими буквочками священного арабского алфавита. О!
Мрачный огонь все еще горел в глазах гостя, когда он небрежно и сухо сказал:
– Достопочтенный Казимбей-эфенди и мулла Салахов были посланы в Китай к японским друзьям комитетом «Иттихад ва Тарраки».
Странно вякнув, хозяин вскочил. Даже в полумраке, в котором тонула его голова у самого потолка, было заметно, что все его жирное тело дергается и трясется. Слышалось лишь кряхтение и сопение. Хаджи Акбар опять потерял дар слова.
– Они прибыли в Мерке, – продолжал сеид.
– Ради господа всемогущего, тише.
Хаджи Акбар подошел к двери и плотно притворил ее.
– Проклятые уши, – он показал пальцем на пол, – в земле уши, – ткнул в потолок – в небе уши, в стенах уши.
Но сеид продолжал медленно, членораздельно:
– Недостойных людей послал с таким важным поручением комитет. Казимбей и Салахов оказались старыми болтливыми бабами. И их взяли…
– Кто взял? – взвыл Хаджи Акбар.
– Ге… пе… у.
Раскачиваясь на месте, заикаясь, толстяк пробормотал:
– Увы… те… те… А комитет знает?
– Нет… ты скажешь комитету… Ну-с, а теперь поговорим о деле.
– О к-к-каком деле?
– Садись!
Ошеломленный, убитый известием, Прыщавый мешком плюхнулся на палас. В сумраке комнаты он казался теперь кучей тряпья, из которой доносились всхлипывания и охания.
– Несчастье! Несчастье!
– Довольно ныть, – все так же холодно и властно проговорил сеид. – Только пустоголовые из комитета иттихадистов, вроде Турсуна Ходжаева, могли вообразить, что японцы смогут сейчас заинтересоваться туркестанскими делами и станут помогать. Япония далеко. У них и на Дальнем Востоке дел хватит… А теперь, откуда у вас сведения о Фарук-ходже и всех кабадианских делах?
– Я… те… те… совершил маленький хадж… те… паломничество…
– Вы ездили в Мекку? К святым местам? – удивленно поднял сеид свои густые брови.
– Э, нет, чего мне делать в Мекке?.. У святых хранителей каабы торговые дела совсем заглохли. Нет… мы совершили паломничество в другую сторону. Мы съездили в страну неверных собак, в страну Джерман. У нас там в Берлине старые… те… знакомства, связи. Еще папаша, когда молодой был… Мы сейчас ездили… те… те… запродать залежавшийся товар… шестьдесят тысяч каракулевых шкурок, превосходных шкурок. Увы, не могли раньше продать. Революция, чтоб она провалилась, большевики, неустройство!
Внимательно слушавший сеид Музаффар сделал нетерпеливый жест рукой, но Хаджи Акбар не обратил внимания и, захлебываясь, продолжал:
– В городе нечестия и разврата… те… те… именуемом Лайпсиг… платят, собаки, золотом. Я продал весь товар торговому дому Графф и К°. – На этот раз Хаджи Акбар перестал кривляться и совершенно правильно произнес немецкое название фирмы. – Денег теперь у нас… – он поднес руку к горлу, желая показать, что он теперь богат.
– Золото ли, ржавое железо ли – все ничто перед лицом аллаха. Все тлен и прах! Что нам, дервишам, божьим скитальцам, надо! Монетка в деревянной чашке – и мы сыты. Я спрашиваю тебя, Хаджи Акбар, что тебе передали для меня, странствующего ради прославления всевышнего? Я получил твое письмо, Хаджи Акбар, и… проклятие!
– Что-что?.. Те… те… – испуганно залепетал Хаджи Акбар.
– Нет… не тебе… Нога… Ты написал, дорогой, что жизненный путь благочестивого брата моего мюршида дервишской священной общины, господина благочестия и святости ишака кабадианского Фарук-ходжи, вот-вот по милости всемогущего прервется и что, предвидя своим всезнающим оком близкую кончину, он, не сподобленный потомством, повелел своим мюридам разыскать меня, сеида Музаффара, где бы я ни находился, и призвать нас в Кабадиан занять при священном мазаре пост мюршида-наставника. Как ты нашел меня?.. Будь ты проклята… Это я о ноге… Боль…
– Было бы вам известно, почтенный сеид, – начал Хаджи Акбар, – мы сами, то есть наши предки, с берегов Аму-Дарьи, из Кабадиана. Мой дед долго жил там, а потом священный эмир приблизил его к себе за благочестие и добродетели… те… те… и он переехал в Бухару. Отец мой казий, занимался не без выгоды коммерцией и сейчас в Байсуне. Дело, как вы знаете, весьма почетное для мусульманина… еще сам пророк наш соизволил сказать…
– Оставим, что говорил пророк, пусть произносят с почтением имя его Переходите к сердцевине…
– Отец мой основал здесь, в Бухаре, дело и имел в этом благоустроенном караван сарае (при слове «благоустроенном» сеид невольно усмехнулся) склады мануфактуры, фарфоровой посуды, чая. Здесь же мы, проходя курс наук в медресе Гаукушон, по достижении совершеннолетия стали приказчиком отца, здесь же мы и умножили свое личное состояние, заведя мало-помалу торговлишку каракулевыми мехами, и… те… те… достигли благополучия и богатства, имея, слава аллаху, хороших покупателей и в Берлине, и в Лондоне, и в других государствах, пока большевики, будь они…
– Опять мы уклоняемся…
– Те… те… Вы и раздражительны же… но и дедушка, и наш отец, и мы. те… те… оставались всегда учениками-мюридами ишана кабадианского, нашего духовного наставника. И обильными дарами и пожертвованиями общине дервишей ордена накшбендие выполняли свой долг перед аллахом и пророком его.
– Пусть произносят имя его с благоговением!.. – властно вставил сеид Музаффар.
– Те… те… с благоговением… Мы, отец мой и я, – мюриды ишана кабадианского, всегда почтительно и поистине, с преданностью относились к нашему наставнику, и он удостаивал нас своим доверием, он нам вверял дела священного мавзолея кабадианского и посылал нас в мусульманские страны – в Афганистан, в Турцию, в Индустан… Мы…
Хаджи Акбар все так же сидел, уставившись взглядом в лицо шейха, и напрягал мысли до боли в мозгу. Неуловимое воспоминание жужжало назойливой букашкой где-то там, в глубинах сознания И что всего обиднее – мысль эту вот-вот он готов был вспомнить, но для этого надо было поймать взгляд странника, и… Так, по крайней мере, казалось Хаджи Акбару, но на самом деле, едва он встречался с проклятым, огненным взором шейха, все вылетало из головы.
И вдруг Хаджи Акбара словно обожгло. Не скрывая торжества, по-ребячьему взвизгивая и захлебываясь, он воскликнул:
– Баку!
Расплывшееся в улыбке лицо свое он подставит к самому лицу собеседника и, весь побагровев, с нескрываемым нетерпением ждал, что скажет он.
Прыщавый кряхтел и сопел, он даже не сидел, а как то весь подался вперед и склонился над паласом в крайне неудобной позе.
– Убери свою рожу, – невозмутимо проговорил сеид Музаффар. – Она – точь-в-точь плевательница. Избавь от соблазна!
Хаджи Акбар нисколько не обиделся. Совершенно обескураженный, он отпрянул и, сев на пятки, заговорил, но заикался он теперь гораздо больше обычного.
– Баку… те… те… извольте припомнить Мохтадира Гасан-ад-Доуле Сенджаби. те… те… такой обходительный… Роскошные ковры с розами и гуриями и… те… те… друг Мохтадира Гасан-ад-Доуле Сенджаби купец Зохраб Тагизаде… Тоже коврами торговал, а?
Он воззрился опять на дервиша. Но лицо сеида Музаффара хранило полное спокойствие.
– Те-те, – запищал Хаджи Акбар, – не припомните ли? Мы с ними, то есть Зохрабом Тагизаде, с Мохтадиром Гасан-ад-Доуле Сенджаби, еще посещали этот самый съезд народов Востока и слушали речи проклятых большевиков. А разве не с ва… то есть, я хотел сказать, не с Зохрабом Тагизаде, и Мохтадиром Гасан-ад-Доуле Сенджаби мы имели приятнейшую встречу со львом ислама, зятем халифа, генералиссимусом, блистательным Энвер-пашой, каковой также соизволил присутствовать на нечестивом сборище, именуемом съездом народов Востока, а?
Шейх не сказал ни слова. Но под его мрачным взглядом Хаджи Акбар завертелся юлой.
– О, Баку, о, восхитительное кофе его кофеен. О, душистый кабоб, который я ел в его духанах в обществе Мохтадира Гасан-ад-Доуле Сенджаби и… и… – во взгляде шейха снова вспыхнул зловещий огонь, и Хаджи Акбар, сглотнув слюну, вяло закончил: – … и господином ковровым торговцем Зохрабом Тагизаде…
Но и глаза, и губы, и вся прыщавая физиономия владельца Павлиньего караван-сарая говорила, кричала: «С вами! Клянусь, с вами!» И только трусость не позволила ему закричать это вслух.
– А что ты еще мне скажешь? – угрожающе протянул сеид Музаффар.
– Я… тете, – заикался Хаджи Акбар. – Я… О, мы были очень огорчены, когда господин совершенств… э… Зохраб Тагизаде вдруг пропал… исчез… уехал…
– Куда уехал?
– Те… те… те…
– Куда уехал господин Зохраб Тагизаде, я спрашиваю?
– Никто не знал… Даже всезнающий господин Мохтадир Гасан-ад-Доуле Сенджаби сказал, что не знает…
– И это все, что ты знаешь о… об этом Зохрабе Тагизаде, ничтожном торговце персидскими ковриками, с которым ты пил кофе и ел кабоб в Баку? Говори же, когда тебя спрашивают!
– в-в-все. – Губы толстяка дрожали, и говорил он невнятно. – Но господин Мохтадир Гасан-ад-Доуле очень беспокоился. Но… но. но… скажите… могут ли два человека в подлунном мире быть похожи друг на друга, как два пшеничных зер…
Он замолк и с испугом посмотрел на дервиша.
– В Бухаре при благословенном эмире любителем таких сказок прибивали арбяным гвоздем язык к воротам Шейх Джалял.
– Те… те… – пискнул Хаджи Акбар.
– А ныне в Народной республике есть люди, именуемые товарищами из Чека, которым будет очень интересно знать, о чем беседовал господин Хаджи Акбар в Баку с господином Мохтадиром Гасан-ад… Тьфу, бывают же такие длинные имена у рабов аллаха.
– Тише, господин святой, ради бога, тише…
Но разговор был прерван самым странным и неприличным образом. Уже давно слышался в темном углу комнаты, заставленном громадными сундуками и заваленном горой одеял, тихий скрип и потрескивание. Впрочем, мало ли мышей, крыс и насекомых водится в такой старой, обветшалой развалине, как Павлиний сарай. Постепенно, с минуты на минуту шорох и скрип усиливались, и вдруг что-то треснуло. Сеид вздрогнул и уставился во тьму своими снова вспыхнувшими глазами.
Незаметная до той поры, ветхая, слившаяся с серо-грязной стеной дверка с треском рухнула на пол, и, прежде чем собеседники могли что-нибудь сообразить или предпринять, мимо них проскочила женская фигура. Распахнув дверь во двор, женщина остановилась, прислонясь к притолоке, и, тяжело дыша, со злобой проговорила:
– Сказала, что сломаю, – и сломала, сказала, что уйду, – и ушла. Не подходи!.. Сожгу!
Голос ее сорвался в крик. Она быстро наклонилась и, схватив керосиновую лампу, высоко подняла над головой. Прыщавый, кинувшийся было к двери, отпрянул назад.
– Милочка… душенька, постыдись! У нас гость. Дорогой гость, – просительно заговорил Хаджи Акбар. – Не волнуйся, душенька.
Но так как женщина сделала угрожающее движение, он слегка попятился.
Лицо сеида оживилось. Он с жадным интересом посмотрел на стоявшую в дверях молодую женщину. Черные растрепанные косы ее, все в серебряных подвесках, распустились, и сквозь пряди их глядели огромные глаза затравленного зверька. Под их взглядом сеид вдруг побледнел, все лицо его напряглось, на нем мгновенно появилось выражение внимания и участия.
Он решил вмешаться и проговорил:
– О аллах всемогущий! Могли же его ангелы вылепить из грязи и глины такое совершенное создание. Кто ты? – проговорил сеид.
– Я… Жаннат! – смело глядя в глаза незнакомцу, сказала маленькая женщина.
…После долгих скитаний по кишлакам Хаджи Акбар недавно приехал в Бухару. Он не стал останавливаться в своем доме, а по ряду причин поселился с юной женой в своем пригородном постоялом дворе, широко известном под именем Товус сарай или Павлиний караван-сарай.
Хаджи Акбар ворчал, что юная жена бегает по двору, не пряча лица от прислужников и приезжих, с удовольствием пялящих на нее глаза. К тому же он начал проявлять беспокойство. Он все настойчивее изъявлял желание, чтобы жена родила ему сына. Зачастили в караван-сарай разные фальбины, знахарки. Хаджи Акбар ежедневно принимал по три раза лекарство из меда, яиц и каких-то специй. Для Жаннат те же знахарки принесли таинственное средство, для которого истолкли семь больших перламутровых пуговиц, растерли семь волосков верблюжьей шерсти, замесили на семи золотниках бычьего сала и сделали из него палочку и предложили пользоваться. Сгорая от стыда, молодая женщина прогнала знахарок. Тогда появился ишан Баба Хаджа, очень вежливый, очень ученый. Он рассказал Хаджи Акбару много интересного. Он предложил: «Прикажи жене пойти вечером на кладбище, и пусть она переночует на могиле Хадж-и-Пиада. Святой жизни был человек, который там похоронен. Достаточно, чтоб женщина переночевала, прижавшись к надгробию, три ночи, и она исцеляется от своего недуга».
Внимательно слушал Хаджи Акбар. Хорошо, благолепно говорил ишан Баба Хаджи. Но что-то не понравилось в его словах Хаджи Акбару, и не столько в словах. Уж больно широкоплеч и краснощек был этот ишан, а глаза его маслено блестели при виде Жаннат. Не послал Хаджи Акбар свою юную жену на могилу Хадж-и-Пиада, а стал искать других знахарей.
Они слетались к нему в Павлиний караван-сарай как мухи на мед. Какие только средства они не предлагали: и холодящие, и горячащие, и возбуждающие желчь, и успокаивающие. Один знахарь из персов принес лекарство от семидесяти двух болезней. «Наверно, одна из них, – сказал он, – охлаждает ваше семя, и оно не оплодотворяется». Лекарство стоило дорого. Оно состояло из редчайших специй: двух золотников кулунь-жаня из Китая, мускатного ореха с Моллукских островов, ростка дерева фарат с острова Занзибар, душистого перца, корицы, акым кори и многого другого. Не одну каракулевую шкурку пришлось продать Хаджи Акбару, чтобы приобрести драгоценное лекарство, но уж очень ему хотелось стать отцом.
Тогда он вспомнил о жившем в его караван сарае русском докторе, славившемся тем, что он вылечивает буквально от всех болезней.
– Ты пойдешь к урусу доктуру, как только он приедет, – сказал Хаджи Акбар жене.
– Но… потом ты меня убьешь. Жена правоверного не смеет стоять перед неверным урусом с открытым лицом, а…
– Ты пойдешь. Не бойся, дурочка, я тебе дам развод.
– Развод!
В ее возгласе он услышал нескрываемую радость и, подозрительно глядя на нее, быстро поправился.
– Временный… Я тебе дам не уч таляк – тройной, то есть окончательный, развод, а бир таляк – одинарный. Не три раза скажу «таляк», а один раз, и потому после лечения я смогу без проволочек снова взять тебя в жены.
– Ну и что же? – недоверчиво спросила Жаннат.
– Так можно, – хихикнул Хаджи Акбар, – я изучал богословие, есть такая благочестивая хитрость – «хилля-и-машура». Ты пойдешь к доктору, но только смотри у меня… Глаза не смей открывать… Чуть что…








