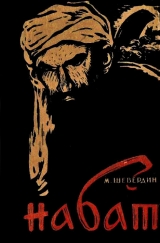
Текст книги "Набат. Книга первая: Паутина"
Автор книги: Михаил Шевердин
Жанр:
Исторические приключения
сообщить о нарушении
Текущая страница: 22 (всего у книги 29 страниц)
Глава двадцать седьмая
В осаде
Змея в дом заползает зигзагами.
Бедиль
Мы сильны в своем стремлении,
Мы победу вдаль несем… —
пел сильный голос далеко в ночной тьме. С каждым словом песня звучала яснее, громче.
– Распелся Сухорученко… нашел время, – с трудом ворочая языком, хрипло сказал кто-то.
Песня приближалась:
Что преграды, что заслоны?
И уже у самой двери тот же голос с подъемом закончил оглушительной руладой:
Через горы путь пробьем!
Огонек коптилки шевельнулся и почти совсем потух, когда из резко открывшейся двери пахнуло в комнату сырым дыханием ночи.
– Ну как, малярики-сударики? – загремел Сухорученко с порога.
– Ладно тебе издеваться, – прогудел из угла чей-то бас. – Никакая болезнь тебя не берет… Шкуру тебе ничем не пробьешь.
– М-да! Атмосферка у вас… Иванченко.
Сухорученко покрутил носом. В комнатушке стоял густой угар от маленькой железной буржуйки, неведомо как попавшей в Душанбе. Разило лекарствами, тряпьем, нездоровым дыханием, давно не мытыми телами, терпкой махрой. На кое-как сколоченных из грубых досок нарах лежали, накрывшись шинелями, ватными порванными одеялами, больные.
– А, земляк, – без малейшего оживления протянул Иванченко, – ты пел? Так и знал. Никому, кроме тебя, в голову не придет сейчас петь… Распелся Сухорученко! Опера!
– Али новости есть? – прогудел кто-то из-под шинели. – Подыхаем тут… без хины.
Последние слова человек произнес чуть слышно.
Запустив руку в карман своих малиновых галифе, Сухорученко пошарил там и извлек оловянную флягу.
– Во! – сказал он, хлопнув по ней ладонью. – Толстенькая, кругленькая, горяченькая! И в ней получше, чем хина, лекарство! Чистенький! Налетай, братва.
Он потряс флягу в высоко поднятой руке, и по комнате разнеслись булькающие звуки.
– Не буду, – сурово заметил Иванченко, но сглотнул громко слюну. – Первое: запрещено. Осадное положение. Второе: поможет твое лекарство, что мертвому припарки на известное место.
Но он оживился и сел на нарах.
– Снять нашивки или, тоже помогает, суток на пять на губу… – Он закашлялся. – Да ладно, не тяни. Принес – разливай, погреемся.
Иванченко сполз с нар и принялся растапливать печку.
– А трибунал? – ехидно заметил Сухорученко, поиграв флягой так, чтобы ее содержимое приятно побулькало.
На столе выстроились в ряд по ранжиру жестяные солдатские кружки, пожелтелая пиала с отбитым краешком и даже целлулоидная чашечка от бритвенного прибора. Разливал спирт Сухорученко медленно, с чувством.
– Был у нас командир, лихой, Корзинкин фамилия, из кронштадтских братишек, – приговаривал Сухорученко. – Как трахнет стекляшечку-другую. Называлось у него «раздавить собаку». Пил, не морщился.
– Корзинкин? Что то не припоминаю, – сказал Иванченко. Он достал стакан и надавил в него до половины гранатового сока. – Лей! Ну, доложу вам, теперь подействует… Завтра буду здоров.
Но остальные не захотели последовать его примеру и пили чистый спирт.
– Дела – красота, – многозначительно заметил Сухорученко, явно рассчитывая вызвать интерес.
Но все так отупели от малярии и холода, что на слова Сухорученко никто даже не обратил внимания. Больные, почувствовав живительный жар в желудке, стали поплотнее заворачиваться в шинели, одеяла и поудобнее укладываться. Весело гудела буржуйка. Сухорученко стукнул кулачищем по столу.
– Дуры, – сказал он зло, – а не командный состав. Говорят им – дела красота, а они… хоть бы хны.
– Говори, коли начал.
– Осадному сидению конец!
– Да ну?
В полумраке каморки зашевелились серые фигуры. Командиры в одном белье, кутаясь в одеяла и шинели, придвинулись к столу. Желтый робкий свет от плошки отбрасывал на мокрую стену тощие, длинные тени. Глубоко запавшие тусклые глаза с завистью смотрели на толстощекого, сияющего Сухорученко, появившегося точно из иного, неведомого мира и здоровья. На широкой, расцветшей от спирта и важности физиономии Сухорученко сияла самодовольная, торжествующая улыбка. Нарочно пряча глаза, он старался не встречаться с лихорадочно блестевшими взглядами, желая попридержать новость, немного помучить ребят. Он облизал губы, смакуя спирт, и громко почмокал, но получился совсем не тот эффект, на который рассчитывал.
– Врет он, шалый кобель! – крикнул кто-то.
– Нажрал ряшку, вот и изголяется!
– Сытый голодного не разумеет.
Сухорученко поднял глаза:
– Что вы, ребята! – Он даже слегка отодвинулся: так зло смотрели на него больные командиры.
Громко капала с камышового потолка талая вода в плошку, поставленную рядом с колченогим столом; в углу кто-то бредил в тяжелом малярийном приступе.
– Вот вам крест, братва. Конец сидению. Идет Гриневич с подмогой. Два батальона уже в Регаре…
Хриплые возгласы «ура» наполнили каморку, тени заметались по стенам.
– Хину привезут! Здорово!
– Качать Сухорученко, качать толстомясого.
Иванченко взял флягу, но она была уже пуста.
– Вылакал все, сукин сын! – крикнул он и запел:
Да здравствует радость,
Пусть скроется тьма!
Хотелось всем верить, что тяжелые испытания остались позади.
Трудную зиму переживал Кухистан.
Только что, всего полгода назад, отпраздновали победу. Под решительными ударами восставшего народа и Красной Армии ненавистный эмир Алимхан бежал за Аму-Дарью на юг. Только народ с ликованием начал устраивать жизнь без ханов, беков, хакимов, полицейских – вдруг поползла повсюду тревога. На базарах возникло беспокойство. Хлеб и товары то внезапно исчезали, то появлялись, то снова исчезали. В Каратаге нельзя было купить самую обыкновенную лепешку. Пропали соль, спички. В Бальджуане вдруг дехкане перерезали весь скот. Купцы позакрывали лавки, народ разбежался. Цены на все поднялись едва ли не в два раза. Из Душанбе и Гиссара внезапно ушли почти все жители. Оставшиеся прятались в своих наглухо закрытых мазанках. В Кулябе объявился волосатый пророк и стал грозить карами ада. Люди нервничали, ждали чего-то необычайного, каких-то невероятных событий. Тревога росла, пухла из тоненьких, липких, всюду расползающихся слушков и слухов. Рассказывали, что в одном богоспасаемом кишлаке – каком именно, не говорилось – голытьба, черная кость, собралась у мечети. Там один человек (опять-таки имени его не называли) якобы сказал: «Эмира теперь нет. Бека теперь нет. Кого нам бояться? Теперь землю заберем себе, рабочих быков заберем себе, плуги, бороны заберем себе. Будем сами хозяевами». Пока тот человек говорил, собралась туча чернее черного, грянул гром, сверкнула молния и испепелила крикуна.
Аксакалов назначали почему-то не из народа, а брали старых, тех самых, которые управляли кишлаками при эмире Алимхане. Когда приезжали в кишлак из Бухары векили – представители республиканских властей – или появлялись красноармейцы, аксакалы вывешивали красные полотнища с лозунгами, очень низко кланялись, и бороды их трепетали почтительно. Когда же все уезжали и пыль за последним домом кишлака разгонял ветерок, аксакалы били плеткой дехкан и грозили небесными карами.
Части Красной Армии, сделав свое дело, разгромив последние остатки эмирских войск и в Гиссаре, и под Кулябом, и в Каратегине, постепенно оставляли освобожденную от тирании страну, передавая города и села в гражданское управление векилям Бухарской народной республики. В Душанбе назначен был чрезвычайный векиль – полномочный представитель бухарского правительства, сам председатель Центрального Исполнительного Комитета Усман Ходжаев из турок.
Усман Ходжаев имел в своем подчинении целый штат помощников – назиров (министров). Любил собирать совещания, которые называл во всеуслышание диванами (по примеру диван-совета турецкого султана). На диване он обычно произносил пышные, но туманные речи. Таджикского полнозвучного языка Усман Ходжаев не знал, а говорил на невероятной смеси турецкого с французским. Хоть и щеголял он в военном костюме, но не отличался храбростью. Далее в молодости любил покой и тишину, а теперь, пожилой, отяжелевший, испытавший превратности судьбы, швыряемый обстоятельствами по всему Востоку, он потерял веру в себя, боялся собственной тени. При слове «революция» озноб пробегал по его коже. Назначение векилем бухарского правительства в Кухистан Усман Ходжаев принял неохотно, с тревогой, но все же думал, что в Душанбе он найдет теплое, безмятежное местечко. Только теперь он понял, какую ошибку совершил. Он забрался в крепостцу – арк над речкой Душанбинкой, сказался больным, никуда не выходил, не выезжал. Из канцелярии аккуратно рассылались указы, инструкции, циркуляры. Переписка велась обильная. Полученные бумаги из Бухары или с мест векиль-мухтар не читал, осторожно складывал на полочки в нише, предоставляя им покрываться пылью.
В высшей степени тщательно Усман Ходжаев выполнял все намазы, установленные от века: утренний намаз за сорок пять минут до восхода солнца, полуденную молитву, вечернюю молитву в сумерки через двадцать минут после заката и намази хуфтан перед сном. В тиши своей уединенной спальни, вдали от глаз посторонних, совершая очередной намаз, полномочный представитель революционного правительства Усман Ходжаев предавался размышлениям: «Все идет по предначертанию всевышнего…»
Что касается «предначертанного», то… Кто знает, о чем думал Усман Ходжаев. Одна голова – тысяча мыслей.
Во всяком случае он почему-то не выразил ни малейшего удивления, когда всю страну словно громом поразило вооруженное выступление Ибрагимбека против Народной республики. Усман Ходжаев только во всеуслышание проговорил благочестивое: «Такова воля всемогущего» – и погрузился в свои мысли, совершенно не слушая встревоженную болтовню назиров, поднявших крик о том, что Ибрагимбек собирается напасть на Душанбе и перерезать всех джадидов.
Еще в марте Ибрагимбек вместе со своими друзьями устроил встречу эмиру, бежавшему из Бухары. Выражения преданности снискали Ибрагимбеку милость их высочества эмира Алимхана, и именно тогда он всенародно пожаловал конокраду высокий чин караулбеги.
Вокруг имени Ибрагимбека складывались легенды. Им заинтересовались даже в высокопоставленных кругах Лондона. Желтая пресса закричала, завопила. Даунингстрит и министерство иностранных дел начали обволакивать имя Ибрагимбека романтической дымкой. Ему приписывали необыкновенный ум, полководческие способности. Газеты не скупились на эпитеты: «Новый Тимурленг!» «Вождь татар Чингис!». Газета «Таймс» в погоне за сенсацией назвала его восточным Робин Гудом, тем самым низко уронив имя своего народного героя.
А между тем Ибрагимбек приобретал славу опытного конхура – кровопийцы.
Уже из Афганистана эмир прислал Ибрагимбеку фирман, назначая его правителем Локая. Старейшины племени в предельном возмущении заявили: «Положи на блюдо собачью голову – она обязательно скатится на землю».
Так, по мнению локайцев, всегда случается с незаконным правителем. Не удержался Ибрагимбек в хакимах гордого Локая. По задворкам бежал из кишлака, ночью переплыл бурный Вахш на гупсаре – кожаном, надутом воздухом мешке – и ушел в область красных холмов и скал Бальджуана, к бальджуанским локайцам, к своему родичу, такому же жестокому и кровожадному Тугай Сары.
Здесь Ибрагимбек и Тугай Сары все лето безнаказанно хозяйничали, собрав к себе бывших эмирских головорезов. Стон поднялся над таджикскими и узбекскими кишлаками. Под предлогом борьбы с Советами Ибрагимбек. принялся истреблять всех заподозренных в свободомыслии, неверии, непризнании эмира. С недовольными и непокорными расправа была коротка: на кол или за ноги на дерево вниз головой, пока не подохнет. Пылали кишлаки. Энвербея Ибрагимбек не отпускал от себя ни на шаг.
Локайцев-соотечественников Ибрагимбек не трогал. Родовые устои в степи и горах крепки, незыблемы. Уважение к роду впитывается с молоком матери. Ибрагимбек решил пойти на мировую. Один, без своих бандитов поехал в Локай, вел тебя тихо, приниженно. Он даже почтительно целовал в плечо старейшин: никакой он не правитель Локая, облеченный полномочиями самого эмира, а робкий, почтительный сын рода. Уважительно он слушал поучения старейшин, прикладывая пальцы ко лбу, глазам, груди. «Ба чашм!» («У меня на глазах!») – бормотал он. Целовал прах ног главы рода, подходил к нему не иначе, как согнувшись пополам в глубоком поклоне, слушал его слова не перебивая. Привез с собой богатые дары, пригнал отару овец, привел золотогривых коней, сыпал золотом.
Но по-прежнему оставались неприветливы, недовольны старейшины. По-прежнему подозрительно были сжаты губы, недоверчивы взгляды. По прежнему сажали Ибрагимбека на самом непочетном месте у двери. Мрачнее ночи ходил Ибрагимбек.
А тут еще эта охотничья история в селении Курусай.
Рассказ о позоре Ибрагимбека пошел бродить по долинам и холмам, обрастая все новыми и новыми унизительными подробностями и анекдотами.
А таджики-гиссарцы, те даже стали распевать песенку на слова старинного поэта Джубугари:
Высокомерие всегда шлепнется в грязь.
Сказано: взметнется вода фонтана вверх и тут же упадет.
Едва оправившись от болезни, Ибрагимбек прискакал в Локай с сотней своих головорезов. Черный, с встрепанной бородой, страшный, не слезая с коня и не позволив своим спутникам спешиться, он приказал согнать людей к мечети. Не посчитался ни с достоинством старейшин, ни с их белыми бородами.
Ибрагимбек потребовал людей, оружие, лошадей, потребовал, чтобы племя шло за ним на Душанбе против большевиков. Старейшины приказали Ибрагимбеку убираться вон.
– Терпение мое не знает предела, – заявил он в ответ. – Вы мои родичи. Я слушал вас с подобающим смирением. Но аллах просветил меня. Вы большевики. Взять их!
Дикая расправа, учиненная Ибрагимбеком в родных долинах, останется в памяти локайцев навсегда. С утонченной жестокостью он мстил старейшинам, наслаждаясь их нечеловеческими муками.
Каждому жителю локайского кишлака, способному носить оружие, Ибрагимбек приказывал:
– Иди со мной!
И с каждым, кто не соглашался, он расправлялся тут же ударом своей кривой сабли. Он стоял озверевший, в луже крови, страшный, с выпученными, налитыми кровью глазами, в запятнанной кровью одежде и рубил головы своим односельчанам. А в нескольких шагах верещали и выли посаженные на кол старейшины кишлака. Он убивал, жег, пытал до тех пор, пока не сломил гордое племя и не загнал в свою шайку сотни и тысячи людей… И так он поступал в каждом селении, в каждом кишлаке. Банда его росла. Непокорных истребляли, имущество грабили. Нукеры насиловали девушек и мальчиков. Теперь уже убивали многих без всякого повода, зверствовали ради зверств, а с захваченных работников вилайетских и сельских советов – безразлично, коммунистов ли, джадидов ли, беспартийных ли – сдирали живьем кожу. Имущество делили, скот угоняли. Для себя Ибрагимбек завел табун кобылиц. Он любил побаловаться кумысом. В арбах за ним везли молоденьких жен и наложниц… Банды Ибрагимбека обрушились на Гиссар, Денау, Юрчи, Сары-Ассия. Горели города, кишлаки. Позади Ибрагимбека оставались трупы, пустые развалины, бродячие собаки, одичавшие кошки.
А векиль-мухтар Усман Ходжаев совершал установленные пророком намазы, писал в Бухару бухарскому правительству обстоятельные донесения о бесчинствах Ибрагимбека, но сам никаких мер не принимал. Он рьяно противился всяким попыткам командиров малочисленных красноармейских частей, несших гарнизонную службу, предпринимать решительные действия против Ибрагимбека.
– Нехорошо вмешиваться… это внутренний, свой дело Ибрагима, племенной дело… семейный дело… Пускай! Не дай бог, он злой станет.
Белые холеные руки Усмана Ходжаева начинали подергиваться, глаза, черные, точно сливы, бегали, и он уходил, пощипывая свою бородку и нервно подняв плечи.
– Черт с ним! – сказал Гриневич, прибыв в Душанбе со своим полком. – Больше сидеть сложа руки не будем.
Он попытался прояснить обстановку и послал группу бойцов в Кок-Таш. Разведка превратилась в серьезную операцию. Пришлось выдержать ожесточенный бой. Погиб талантливый военком Новиков. С величайшим трудом бойцы пробились обратно.
Стало ясно: город Душанбе окружен, Душанбе вновь находится в осаде.
Разведка доносила: к городу стягиваются банды Ишан Султана, Фузайлы Максума, Давлета, Тугай Сары.
Ибрагимбек готовил решительный штурм.
– Моим будет Душанбе, – заявил он. – Всех революционеров повешу.
Наглое заявление Ибрагимбека перепугало Усмана Ходжаева.
Он понял, что Ибрагимбек под именем революционеров подразумевает и коммунистов, и джадидов, не видя между ними никакой разницы. Усман Ходжаев позвал своих назиров, начальника гарнизона Морозенко, командиров.
– Наш диван открывайт, – произнес он важно и вдруг завертелся на месте. – Э… э… в чем дело? Где секретарь?
Он хлопнул в ладоши. Появился писарь.
– Ведите протокол, – приказал Усман Ходжаев по-турецки.
Заседали долго. Назиры мямлили нечто невразумительное. Усман Ходжаев снова хлопал в ладоши. Прибегал прислужник, безбородый, евнухоподобный турок. Подавал кофе по-турецки самому Усману Ходжаеву и зеленый чай назирам.
С предложением Гриневича приступить к решительным операциям против басмачей совещание не согласилось. Усман Ходжаев не сказал ни «да», ни «нет». Не хотел сказать «да» и не посмел сказать «нет». Но долго что-то говорил. Что? Никто не понял.
Совещание, или диван, как его называл Усман Ходжаев, пришлось прервать. В комнату через открытые двери донеслись звуки стрельбы, застрекотал пулемет. Тотчас ухнула близко трехдюймовка. Гриневич выбежал из комнаты и показал на желто-пегие холмы, нависшие над Душанбе. Холмы, обычно гладкие, стали рябыми от многих сотен всадников. В воздухе свистели пули.
Ибрагимбек подступил к городу.
Глава двадцать восьмая
Лицо предательства
Боевое одеяние пристало мужу, какая польза, если боевые доспехи будут на женоподобном?!
Фирдоуси
– Что вы мне говорите?.. О какой опасности вы мне говорите? – цедил Усман Ходжаев.
Прищурив глаза, он долго разглядывал Морозенко начальника гарнизона.
Морозенко стоял перед ним если не в положении «смирно», то во всяком случае навытяжку. Честное слово! Морозенко хотел послать Усмана Ходжаева ко всем чертям, но кто его знает – все-таки он председатель ЦИК Бухарской республики, векиль-мухтар, и как бы не получилось промашки. Но не нравился начгару Морозенко Усман Ходжаев, не нравилось и то, как глазки Усмана Ходжаева вдруг забегали и ушли куда-то в сторону. Морозенко тогда осторожно посмотрел на прислонившегося к косяку двери Гриневича и позавидовал: Гриневич держался как ни в чем не бывало.
– Что, басмачи? – продолжал несколько неуверенно Усман Ходжаев. – Ибрагимбек нам совершенно (он многозначительно растянул слово «совершенно»)… совершенно не страшен. Мы с ним договорились. Понятно?! Но главное сейчас не вот это (он пальцем ткнул в маузер Морозенко), а вот это (он хлопнул кулаком по груде бумаг, лежащих на необтесанных, ничем не прикрытых досках стола)… вот это… полное удовлетворение нужд мирного населения вверенной мне народным правительством страны Кухистан. Бот… – Он показал на сидящего рядом с ним невзрачного светлоусого человека во френче, перетянутого многочисленными скрипевшими портупеями. – Вот Али Риза… боевой офицер турецкой службы… капудан-паша. Да, да, – вдруг повысил он голос, – да, да. Его командировало к нам народное правительство. Понятно? Он начальник… он военный специалист. Отныне Али Риза – командующий всеми войсками республики Восточной Бухары… Понятно? И вы теперь подчиняетесь ему… понятно, подчиняетесь!..
Наконец он сказал главное. Он сам боялся этих слов. Но теперь они сказаны. И Усман Ходжаев даже взвизгнул для убедительности. Дескать, не потерплю!
Повернувшись к вскочившему с нар и вытянувшемуся Али Ризе, Морозенко, несколько опешивший, разглядывал его.
Сейчас, когда Али Риза встал, он оказался совсем низенького роста. Пока он сидел, это не бросалось в глаза, потому что туловище его было непропорционально длинным по сравнению с коротенькими ножками. Развернув плечи, выпятив куриную грудь, Али Риза взирал на мир снизу вверх чрезвычайно задиристо, но именно от этого он казался еще тщедушнее и плюгавее, хоть бесцветные усы его, похожие на жеваную солому, топорщились и угрожающе шевелились. Он слегка сопел и даже покраснел от натуги, но ничего не сказал, поглядывая с нескрываемым презрением и в то же время с испугом то на растерявшегося и разволновавшегося Морозенко, то на стоявшего с каменным лицом Гриневича.
Гриневич очень пытливо оглядел Али Ризу, затем Усмана Ходжаева, затем снова Али Ризу и, подойдя к нему вплотную, сказал:
– А мы с вами встречались, а?
Под взглядом его стальных прямых глаз Али Риза несколько попятился и, беспомощно взмахнув руками, быстро заговорил по-турецки, обращаясь к Усману Ходжаеву. Но Гриневич продолжал:
– Это ваши башибузуки около Юрчей арбы отбивали у нашей оказии, а? Советских граждан порубали?
Встревоженно Усман Ходжаев поспешил вмешаться:
– Позвольте… командир, арбы подлежали реквизиции. Али Риза имел мандат, народного правительства.
Он говорил волнуясь, путаясь и все значительнее поглядывал на Али Ризу, видимо побуждая его держаться порешительнее.
– Мандат? Оч-чень интересно, – продолжал напирать Гриневич. – Люди отслужили срок в Душанбе. Едут домой, больные, раненые… Бойцы, служащие… А тут стрельба, крик: «Бей, режь!» Женщин в кусты. Мужиков шашками. Арбы отбирать… А он, – рукояткой плети Гриневич с отвращением ткнул в сторону Али Ризы, – эдаким пашой восседает на копе и командует, а? Как это называется?
Еще больше взволновавшись и став совсем уже морковного цвета, Али Риза что-то забормотал неразборчиво.
– Треплетесь! – прервал его Гриневич и жестом остановил Усмана Ходжаева, уже открывшего рот. – Помолчите, господин… Али Риза, я сам скажу. Хорошо, около Юрчей я сам оказался с Матьяшем да Вали. Так мы всю его сволочь…
– Так это были вы, товарищ… э… э..
– Комполка Гриневич, – быстро сказал командир. Что-то неуловимо ироническое чувствовалось в том, как он представился.
Теперь пришла очередь краснеть самому Усману Ходжаеву. Но краснел он от поднимавшейся злобы.
– Я вынужден сказать… Недопустимо! Товарищ Али Риза, понимаете… жаловался: вы убили и ранили его людей!.. Воинов республики… Недопустимо.
– А что же с бандитами… я в переговоры вступать, что ли, должен?.. Да вот, – он снова круто повернулся к Али Ризе и взял его за портупею. – Это твои, оказывается, орлы полезли вчера разоружать мою заставу, а? Какую заставу? Уж так ты и не знаешь какую? Мусульманского батальона заставу. Тоже скажешь – убитые и раненые… Да, есть у тебя убитые и раненые. Сунутся еще раз – будут еще убитые и раненые…
Усман Ходжаев задыхался. С превеликим трудом он выдавил из себя:
– По какому праву? Как посмели?
– По революционному праву. Ну, я пошел.
– Стойте! – вдогонку ему кинул Усман Ходжаев. – Вы неправильно поняли… я не хотел…
– Разберемся, Алеша, разберемся, – смущенно бормотал Морозенко.
Гриневич вернулся.
После неловкого молчания Усман Ходжаев пригласил всех сесть и, приложив руку к груди, не без важности сказал:
– Понимаете, кто мы есть? Мы есть особое лицо, чрезвычайный уполномоченный, понимаете? – Он заискивающе обратился словно за помощью к Али Ризе. – Понимаете, уполномоченный. Полномочия паши приказывать и разрешать, судить и миловать… Вы, товарищ Морозенко, скажите вашему… э… понимаете, командиру… – он глянул на Гриневича, – э… э… так нельзя, надо законно… Мы чрезвычайный уполномоченный, векиль-мухтар, берем верховное командование на себя, и вы передаете ваши части нам…
– Нет, – спокойно сказал Гриневич.
Высоко вверх взметнулись брови Усмана Ходжаева.
– Почему? – Он снова начал багроветь.
– А потому, товарищ уполномоченный, что у нас одна Красная Армия, а не две и мы все находимся в подчинении штаба Туркфронта.
Полтора часа чрезвычайный уполномоченный Усман Ходжаев объяснял, уговаривал, доказывал, по Морозенко и Гриневич не соглашались.
Тогда Усман Ходжаев, багровый, страшный, просипел:
– Начальник гарнизона Али Риза… Вы, – обратился он к Морозенко, – доблестный командир, ваши услуги оценит республика… Можете отдыхать…
– Отдыхать? Как отдыхать? – сказал Гриневич. – Морозенко никто еще не демобилизовал.
– Мы хотим беседовать с вами, – обратился Усман Ходжаев к Морозенко, недовольно скосив глаза на Гриневича, – прикажите составить опись.
– Какую опись? – снова вмешался Гриневич.
Усман Ходжаев выразительно пожал плечами и недовольно процедил:
– Ну, там пулеметов, орудий, винтовок…
– Зачем?
– Сдадите все по описи. Срок – сутки. Об исполнении донести.
– Вот как!
Это «вот как!» Гриневич протянул столь значительно, что и Усман Ходжаев и Али Риза подозрительно поглядели на него. Но лицо Гриневича, спокойное, строгое, оставалось непроницаемым. Темные брови его лежали ровно и спокойно, лоб был чист, без единой морщинки, в глазах, светлых, похожих на голубоватые озерки среди красно-бурого загара широких висков и скул, не смог бы прочитать ничего даже самый опытный физиономист. Усман Ходжаев и Али Риза переглянулись. Взгляды их метнулись с такой быстротой, что они и сами едва ли отдавали отчет в этом. Иначе они, конечно, поостереглись бы переглядываться. В невозмутимых глубинах глаз Гриневича взметнулись огоньки и погасли. Лицо его стало на какую-то долю секунды ужасно лукавым, и только на мгновение они встретились с глазами Морозенко, который поглаживал голенище сапога и сосредоточенно курил, наполняя комнату дымом и вонью несусветной крепости махры «Медведь».
Усман Ходжаев стукнул ладонью по настольному звонку.
– Пригласите командира полка Даниара, – приказал он вошедшему мирзе.
До прихода Даниара все молчали. Морозенко дымил все больше, к растущему негодованию Усмана Ходжаева, которое сказывалось в том, что багровая краска с лица его теперь уже не сходила. От сдерживаемой ярости Усман Ходжаев едва смог выговорить ответ на приветствия вошедшего Даниара, плотного чернявого дядьки в черкеске, увешанной оружием. Широкое плосконосое лицо его светилось простодушием. Даниар горячо пожал обеими руками руки Морозенко и Гриневича и ласково сказал:
– Вы друзья дорогие, я по вас соскучился.
– Да ну?
– Пойдем сейчас ко мне, плов сготовим… Какой плов! – И шепотом добавил: – Мои молодцы кавказцы коньячок английский достали.
Но ему не дал договорить Усман Ходжаев.
– Командир Даниар-эфенди, именем республики назначаю вас начальником охраны города. Сегодня ваши доблестные кавказцы сменят красноармейцев на всех заставах… Красноармейцам мы предоставим отдых…
– Хоп, – просто сказал Даниар и дружески положил руки на плечи Морозенко. – Ах как хорошо! Сам бы отдохнул. Идем плов покушаем, потом заставы менять станем.
– Нет! – невозмутимо бросил Гриневич.
– Почему?
– Не пойдет!
Снова багровея, Усман Ходжаев возмутился.
– Воины Даниара-эфенди, понимаете, молодцы, храбро и превосходно бьются с басмачами. Ваше упорство. Вы обижаете нас.
– Ну уж, извините, – сказал Морозенко и посмотрел на Даниара, – если получим письменное предписание Бухары.
– Если десять получу, и то оружия не сдам, – веско прозвучали слова Гриневича. – Мне оружие дала партия большевиков. Она и спросит с меня.
– Зачем спорить, – залебезил ласково Даниар. – Гриневич молодец, аскеры его молодцы. Зачем скандал? Морозенко, друг мой, брат мой. Не надо ругаться.
Он улыбался хитровато и ласково в свою жесткую черную бороду и походил на мирного чайханщика, оставившего только что самовар и чайники. Заброшенный волей аллаха из Дагестана в Карши, Даниар много лет действительно работал в бедной чайхане. Никак не верилось, судя по его внешности, что, примкнув во время революции двадцатого года к народу, он проявил себя как воин и рубака. Даниар доверчиво заглядывал в лицо Гриневича и бормотал:
– Не надо обижаться, друг… Пойдем поедим плова, друг. Еще из барашка шашлык сделаем… я сам сготовлю шашлык… Эх, какой шашлык!
Он даже упоенно почмокал губами и, сощурив глазки в тончайшие щелочки от одного предвкушения, какое наслаждение можно испытать от хорошего шашлыка, помахал рукой, точно раздувая угли в мангале.
– Вот видите, – протянул Усман Ходжаев, – а вы нас обижаете своим… э… э… недоверием.
Никаких подозрений Морозенко не высказывал, и его даже что-то кольнуло, когда о них заговорил Усман Ходжаев. Подозрений не было, а теперь они возникли. Темные, неясные, они зашевелились в глубинах сознания, и Морозенко даже выругался про себя: «На воре шапка горит». Он снова глянул на Гриневича, но лицо его, ставшее серьезным и скучным, ничего не говорило.
Ушел от Усмана Ходжаева Морозенко с тяжелым сознанием, что все неладно.
Гриневич же как-то особо громко звенел шпорами и даже насвистывал. Проходя крепостной двор, он приказал пулеметной команде никуда не отлучаться из крепости и держать ухо востро. К Даниару на шашлык он не пошел. Морозенко же просидел весь вечер с Даниаром, съел неимоверное количество всего, выпил коньяку целую бутылку. Но когда невзначай Даниар снова заговорил под утро о смене частей по охране Душанбе, Морозенко твердо ответил:
– Хочешь охранять город? Отлично. Ставь своих людей на Янги-Базарской дороге рядом с нашими. Твои кавказцы горячи. Лезгинку лихо отплясывают и драться горазды.
– А другие дороги? – чуть заплетающимся языком спросил Даниар.
– А за другими я сам посмотрю.
– Ой, молодец, ай, мудрец.
Что хотел сказать Даниар, осталось неясно. Но он обнял Морозенко и долго тискал его от полноты души.
Утром, вернувшись со двора, Усман Ходжаев разволновался и стал грубо кричать на своего тихого мирзу:
– Безобразие! Возмутительно, я не допущу! Нарушение приказа!
Робко мирза осмелился попросить чрезвычайного уполномоченного разъяснить ему причину гнева. Усман Ходжаев толкнул его в плечо к окну. Обширный двор крепости был пуст. Но на плоских крышах сидели и лежали красноармейцы у пулеметов. На каждом углу крепости стояло по пулемету системы «Максим». Дула их смотрели на холмы и горы, окружающие Душанбе, по не надо было быть военным специалистом, чтобы знать, что пулеметы можно мгновенно повернуть в сторону двора.
Приказ чрезвычайного уполномоченного о подчинении душанбинского гарнизона командиру Бухарской армии капудан-паше турецкой службы Али Ризе-эфенди начгар Душанбе Морозенко выполнил. Трудно объяснить, почему он согласился. Для всех это осталось загадкой. Ни с кем не посоветовавшись, не поговорив с командирами, Морозенко вдруг объявил, что он больше не начальник гарнизона и что все командиры обязаны подчиняться Али Ризе-эфенди. И в то же время Морозенко подтвердил распоряжение Гриневича относительно пулеметной команды. Пулеметчики в крепости остались. «Это нож, приставленный к горлу, – бушевал Усман Ходжаев в своей спальне, – это безобразие». Но уговорить Морозенко убрать команду он так и не смог. Осталось расстелить коврик и искать утешения в молитве.








